Посланник МИД. Книга четвёртая
Георгий Комиссаров
Грозные 30-е годы ХХ века. Сражения шли не только на полях, в море и в небе. Менее кровопролитные, но не менее решающие шли и в тиши кабинетов, на светских раутах и просто в непринуждённых беседах различных государственных деятелей с работниками дипломатических миссий всех стран и рангов. Именно там создавались и рушились союзы, коалиции, тайные сговоры и пакты. Именно так мир развивался по той исторической линии, которую потом все изучают и утверждают, что это закономерности. А на самом деле кто-то «просто» пролил стакан воды на важные документы или бокал с шампанским на платье жены всемогущего премьера… Вот про эти «случайности» мировой политической истории эта книга. И про её скромных героев, благодаря которым мы всё ещё живы.Это продолжение цикла.Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно.
Георгий Комиссаров
Посланник МИД. Книга четвёртая
Вступление
22 июня 1941 год, Берлин, полпредство СССР
От Шелленберга меня привезли в наше полпредство в Берлине таким же макаром…
Для правдоподобности или нет… нацистские молодчики таки меня попинали и порвали дорогой французский костюм.
Посольские моё возвращение почти не заметили, так как все были заняты устранением последствий вторжения эсэсовцев.
Из радиолы в общем зале неслись лающие слова выступления рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса, который зачитывал обращение Адольфа Гитлера: «Немецкий народ! На нашей границе сегодня стоят 160 русских дивизий. Вражеские летчики беззаботно её перелетают, забавляясь этим. Русские патрули вторгаются на территорию рейха, словно чувствуют себя хозяевами этой территории. Наша задача – не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и спасение всех. Я решил возложить судьбу и будущее Германского рейха и нашего народа в руки немецких солдат. Да поможет нам Господь в этой борьбе!»
Заметив при этом реакцию посольских, что никто из них не обращает на него внимание, – значит это уже не первый раз…, – решил я.
Затем я поднялся в кабинет к Деканозову и доложил обо всём, что со мною было… Ну конечно свою версию…
Тот был рассеян и кажется совершенно меня не слушал…
Я посчитал, что субординацию соблёл и удалился… Чертовски хотелось спать. Найдя тихий закуток с диваном, я там и вырубился…
В тот же день, 22 июня, около двух часов дня в канцелярии посольства внезапно зазвонил телефон.
Из протокольного отдела министерства иностранных дел рейха сообщили, что впредь до решения вопроса о том, какая страна возьмет на себя защиту интересов Советского Союза в Германии, наше посольство должно выделить лицо для связи с Вильгельмштрассе.
Наш секретарь сказал, что через минут пятнадцать-двадцать мы сможем дать ответ.
Я это всё узнал, когда меня разбудили и позвали снова к Деканозову.
Он поручил мне быть ответственным за связь с германским МИДом и как то странно на меня посмотрел.
Конечно, я совершенно не делал тайны, что хорошо знаком с министром иностранных дел Гитлера, – фон Риббентропом.
Но с таким же успехом и я мог Деканозова подозревать в чём то таком… ведь это он, а не я … на банкете 1 мая… пил с ним на брудершафт…
И орали потом, как мартовские коты, немецкий шлягер «Лили Марлен»…
– Товарищ Козырев, заодно попросите у своего друга разрешение вывезти из клуба советской колонии фильмы и часть библиотеки, – не удержался он от шпильки в мой адрес.
Я только кивнул, пропустив его укол мимо ушей…
Когда через полчаса представитель протокольного отдела снова позвонил в посольство, то я ему сказал, что поддерживать связь с Вильгельмштрассе было поручено мне. Так же я изложил ему просьбу нашего полпреда.
Записав мое имя, человек из германского МИДа сказал:
– В порядке исключения одному представителю посольства разрешается съездить в клуб и увезти то, что посольство считает нужным. Но это должно быть сделано до 6 часов вечера. После этого всем находящимся в посольстве лицам категорически запрещается выходить за пределы территории посольства. Представитель посольства, уполномоченный для связи с Вильгельмштрассе, может выезжать только для переговоров в министерство иностранных дел, каждый раз договариваясь об этом заранее, причем в сопровождении начальника охраны посольства – старшего лейтенанта войск СС Хейнемана. Через Хейнемана посольство, в случае необходимости, может связаться с министерством иностранных дел.
И он повесил трубку.
Как я тут же выяснили, – телефонная связь была односторонней… когда мы снимали трубку, аппарат по-прежнему молчал.
Я всё это доложил Деканозову.
Он решили, что в клуб на посольской машине лучше всего поехать мне.
Затем добавил, что, поскольку за один рейс удастся вывезти лишь ограниченное количество предметов, следует забрать прежде всего фильмы о Ленине – в апреле, ко дню рождения Владимира Ильича, они были присланы нам из Москвы, – а также собрание Сочинений Ленина и некоторые другие работы классиков марксизма.
Деканозов это напутствие мне давал в большом зале для приёмов, где уже толпилось много народа.
– Мы не хотим, чтобы гитлеровцы устроили из этих фильмов и книг костры и организовали по этому поводу очередную антикоммунистическую демонстрацию, – сказал он громко, в расчёте на публику.
Я кивнул и ушёл выполнять поручение полпреда полностью идеологического характера.
До клуба доехали быстро…
Стоявший у здания клуба полицейский не был предупрежден о моем приезде и отказался меня впустить.
Мне снова нужно было позвонить на Вильгельмштрассе.
Напротив находилась небольшая лавочка, где торговали пивом, сигаретами и всяким хламом.
Я, находясь в Берлине и посещая клуб нашей советской колонии, часто заходили туда, чтобы выпить холодного пенистого пива и поболтать с хозяином лавчонки старым Гюнтером.
Туда я и направился, чтобы воспользоваться телефоном-автоматом.
Гюнтер и его жена встретили меня очень приветливо. А, сам хозяин, понизив голос, сказал, что потрясен известием о нападении на Советский Союз.
– Теперь уж совершенно ясно, чем всё это кончится. Мы, действительно, напобеждаемся до смерти, – проворчал Гюнтер, когда я, разменяв у него марку на мелочь, направился к телефонной будке.
Набрав номер протокольного отдела министерства иностранных дел, я пожаловался клерку, что, несмотря на договоренность, не могу попасть в помещение клуба, поскольку охраняющий его полицейский не имеет на этот счет указаний.
– Сейчас мы примем меры, очень сожалеем, подождите около клуба, – ответили мне.
Подойдя к стойке, я заказал пива, и у нас с Гюнтером завязалась беседа, которая, конечно, всё время вращалась вокруг темы войны и бедствий, которые она с собой несет.
Спустя минут 15 сквозь открытую дверь лавчонки я увидел, как к подъезду на противоположной стороне улицы подъехал мотоцикл с коляской, в которой сидел эсэсовский офицер.
Он что-то сказал полицейскому, и тот, перебежав улицу, зашел в заведение Гюнтера и сообщил, что мне можно войти в здание клуба.
Тем временем эсэсовский офицер укатил на своем мотоцикле, а полицейский вошел в клуб вместе со мной.
Сперва он стоял молча в стороне, наблюдая, как я складываю круглые металлические коробки с фильмами.
Но, когда я стал упаковывать книги, он принялся, не говоря ни слова, мне помогать: обвязывал стопки книг веревками и сносил их в машину.
Я тоже ничего ему не говорил. Так молча мы работали довольно долго. Только когда я сел в машину и завел мотор, полицейский крикнул мне вслед:
– Желаю вам самого лучшего, товарищ…
Обернувшись, я помахал ему рукой. Эти две первые встречи с простыми немцами после разбойничьего нападения гитлеровской Германии на Советский Союз – со старым Гюнтером и полицейским, охранявшим наш клуб, – показались мне знаменательными.
Ни у того, ни у другого не чувствовалось ни злобы, ни отчужденности. Видимо, антисоветская пропаганда Геббельса не везде оказалась действенной!
Когда я вернулся в посольство, было без нескольких минут шесть – успел вовремя!
Двор посольства уже походил на цыганский табор.
С узлами и чемоданами сюда съехались работники посольства с семьями. Вокруг было много детей самого различного возраста – от грудных до школьников.
В жилом корпусе места всем не хватило. Многие разместились в служебных кабинетах.
Но это была лишь небольшая часть всей советской колонии, о которой мы должны были позаботиться.
По уточненным спискам, оказалось, что вместе с членами семей в Германии и на оккупированных территориях находится свыше полутора тысяч советских граждан.
Затем происходил процесс сдачи груза хозяйственнику полпредства «под роспись». Весьма комично всё это выглядело на фоне происходящих далеко на Востоке событий.
В одиннадцать часов вечера лондонское BBC немного вернуло всех к реальности. Они передали обращение премьер-министра Англии Уинстона Черчилля, который откликнулся на события в СССР одним из первых, сказав:
«За последние 25 лет никто не был более стойким противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного сказанного о нём слова, но все это бледнеет перед тем зрелищем, которое я вижу сейчас. Прошлое с его трагедиями и преступлениями отступает. Я вижу русских солдат, как они стоят на границе родной земли и охраняют поля, которые пахали их отцы с незапамятных времен… Мы должны оказать России всю помощь, которую только сможем, мы будем делать это до самого конца…»
По недоумённым лицам, на которых отчётливо читалось: «На кой нам твоя помощь?», – мне было ясно, что никто из них не представляет всей трагедии… даже собственной… находясь в самом начале самой кровопролитной войны в самом логове нашего самого страшного врага…
Наша первая сводка, зачитанная Левитаном по московскому радио в 00-00 часов, и записанная нашими посольскими маркони, вызвала даже эйфорию… так как была такого содержания:
«С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронтах от Балтийского до Черного морей и в течение первой половины дня сдерживались ими. После ожесточенных боев противник был отброшен, но на Гродненском и Кристынопольском направлениях войскам фашистской Германии всё же удалось достичь тактических успехов и занять Кальварию, Цехановец и Стоянув в 10-15 км. от границы».
Хотя я прекрасно знал, а немцы с удовольствием взахлёб об этом передавали из каждого чайника, что наши потери огромны, а их продвижение в глубь исчисляется десятками километров.
Так закончился этот самый длинный день…
С этими невесёлыми мыслями я снова нашёл себе пристанище и попытался уснуть на узкой кушетке, рядом с фикусом, за пильной портьерой, в конце коридора на третьем этаже, куда не добегали вездесущие дети и где было поспокойней.
Сон не шёл и я принялся анализировать…
По всему выходило, что меня «в тёмную» использовал как Сталин, так и Гитлер…
– Ну это ясно, что это они так думали, – усмехнулся я.
Но даже моё послезнание не помогло предотвратить войны. И теперь передо мною открылась новая задача – «приблизить Победу».
То, что она будет, я был совершенно уверен. Всё таки многое мне удалось сделать…
И крепкий тыл и крепкая броня мною были обеспечены.
Хоть немцы и не поверили в огромный танковый потенциал СССР, но он есть. И не даст им просто так прогуляться, как по Европе.
Да и на Дальнем Востоке всё совсем по иному, чем могло бы быть…
– Интересно, как меня встретят? Сразу к стенке поставят… как Артузова… или суд какой учинят?, – подумал я, проваливаясь в сон.
Утром следующего дня мне было предложено явиться на Вильгельмштрассе для предварительных переговоров.
Об этом сообщил мне обер-лейтенант Хейнеман, который сопровождал меня в машине до министерства иностранных дел рейха.
Теперь главный подъезд здания германского МИД выглядел снова будничным.
Принявший меня чиновник протокольного отдела заявил, что ему поручено обсудить вопрос о советских гражданах в Германии и на оккупированных территориях.
Он уже подготовил список, который, как я заметил, в основном совпадал с нашими данными.
Чиновник сообщил, что все советские граждане интернированы.
Однако, заявил он, проблема заключается в том, что в настоящее время в Советском Союзе находится только 120 германских граждан.
Это, главным образом, сотрудники посольства и других германских учреждений в Москве.
– Германская сторона, – продолжал мидовец, – предлагает обменять этих лиц на такое же число советских граждан. Конкретные кандидатуры посольство может отобрать по своему усмотрению.
Я сразу же заявил решительный протест против подобного подхода к делу. Ведь именно тот факт, что в Советском Союзе осталось лишь 120 германских граждан, тогда как здесь находится свыше полутора тысяч советских людей, показывает, что не Советский Союз, как это сейчас твердит германская пропаганда, а Германия заранее готовилась к нападению на нашу страну. Решив начать войну против Советского Союза, германские власти позаботились о том, чтобы отправить из Советского Союза в Германию как можно больше своих граждан и членов их семей.
Я сказал, что доложу нашему послу о германском предложении по обмену, но уверен, что мы не тронемся с места, пока всем советским гражданам не будет предоставлена возможность вернуться на Родину.
– Дискуссию об этом я вести не могу, – заявил чиновник протокольного отдела, – я лишь передал то, что мне поручено. Должен также сказать, что германское правительство конфисковало в качестве военных трофеев все советские суда, оказавшиеся в германских портах.
Я поинтересовался, – о каком числе кораблей идет речь?
– Точно не знаю, – сказал он и тут же, злорадно улыбаясь, добавил: – Кажется, в советских портах нет ни одного германского судна…
Вернувшись в полпредство, я рассказал это всё… и наш военно-морской атташе подтвердил, что да… 20 и 21 июня германские суда, стоявшие в советских портах Балтийского и Черного морей, в срочном порядке, даже не закончив погрузки, ушли из советских территориальных вод.
– А у нас на это не обратили внимания, – растеряно сказал моряк и добавил:
– Буквально накануне войны в Рижском порту скопилось более двух десятков немецких судов. Некоторые только что начали разгружаться, другие еще не были полностью загружены, но 21 июня все они стали сниматься с якоря. Так начальник Рижского порта, почувствовав недоброе, задержал на свой страх и риск немецкие суда и немедленно связался по телефону с Москвой.
Он сообщил о создавшейся зловещей ситуации в Наркомвнешторг и попросил дальнейших указаний. Об этом было сразу же доложено Сталину.
Но там видимо, опасаясь, как бы Гитлер не воспользовался задержкой нами немецких судов для военной провокации, распорядился немедленно снять запрет на их выход в море.
– Наверное, по той же причине не было дано и соответствующих указаний нам… да и капитанам советских судов, находившихся в германских портах, – грустно добавил Деканозов.
Что же касается предложения об обмене, то реакция всех наших дипломатов, когда они узнали о предложении гитлеровцев, была единодушной: мы решили категорически отклонить обмен на равное число лиц.
При следующей встрече в министерстве мне было поручено заявить, что мы решительно настаиваем на том, чтобы всем советским гражданам было разрешено покинуть Германию.
Лица, интернированные вне германской столицы, должны быть доставлены в Берлин и переданы нашему консулу. Что я немедленно и сделал…
На протяжении нескольких дней оставалось невыясненным, какая страна будет представлять интересы Советского Союза в Берлине.
Между тем нельзя было терять времени, так как я лично прекрасно понимал, какая трагическая судьба постигнет советских граждан, если им не удастся вернуться на Родину вместе с дипломатическим составом посольства.
Надо было все же найти путь для связи с Москвой и донести им наше положение…
Задействовать нашу берлинскую агентуру для этого мы посчитали чрезмерным и опасным…
Нужно было действовать через посольство одной из нейтральных стран…
Но как передать весточку? Ведь теперь посольство было наглухо отрезано от внешнего мира.
Ни одному человеку не разрешалось выйти за ворота. А за мной неотступно следовал обер-лейтенант Хейнеман, да и вообще я мог выезжать из здания только по вызову с Вильгельмштрассе.
Мы долго ломали себе голову над тем, каким образом кто-либо из нас мог бы прорваться сквозь цепь эсэсовцев, окруживших здание посольства?
Разведав обстановку, мы убедились, что попытка выбраться из посольства тайком, под покровом ночи, тоже не сулит успеха.
К вечеру охрана усиливалась и фасад здания ярко освещался прожектором.
За стеной дома, примыкавшего к зданию посольства с противоположной стороны, также патрулировали эсэсовцы с овчарками.
Но все же надо было найти какой-то выход…
И тут мне в голову пришла идея, которая вернула меня в памяти моей в кажущийся уже таким далёким 36-й год… в Испанию…
Глава 1
Мадрид, май 1936 год.
Испанские дела поглощали довольно много моего времени… Хотя казалось, что опасность миновала…
Но, несмотря на прошедшие новые выборы в кортесы – испанский парламент, которые дали большую победу левым партиям, силы реакции не хотели сдавать вековые позиции.
В стране шла ожесточенная борьба между левыми и правыми, внешние проявления которой для зрителей со стороны… в том числе и мне… не всегда были понятны.
Даже мне, находящемуся тут… в гуще событий… трудно было составить себе ясное представление о том, – куда же идет Испания?, – что уже говорить о тех, ко сидел в Москве…
Движется ли Испания к укреплению демократической республики или к торжеству полуфеодальной монархической диктатуры?
Как то заглянул ко мне мой давний друг, журналист… один из идеологов левого течения в ИСРП – Альварес дель Вайо.
И я, конечно, воспользовался случаем, чтобы получить от него возможно дополнительную информацию… к уже у меня имеющейся…
На мои сомнения … Альварес дель Вайо с жаром убеждал меня в правильности пути и скорых социальных переменах в лучшую сторону.
Но внутри меня росло беспокойство и предчувствие скорых кровавых событий. В ходе беседы я, как бы между прочим, заметил:
– Вполне верю тебе, что широкие массы испанского народа настроены радикально, и даже революционно…
– Допускаю, что интеллигенция, различные прослойки буржуазии и кое-кто из помещиков настроены антифеодально и антиклерикально…
– Но вот в чьих руках армия? От этого может многое зависеть в ходе дальнейшего развития событий, – с чувством тревоги я спросил у него. Хотя всё прекрасно и сам знал… Но хотелось услышать мнение со стороны… и от осведомлённого человека…
Альварес дель Вайо допил чашку чаю, поставил её на стол и, точно собравшись с мыслями, начал:
– Мне, товарищ Козырев, трудно ответить кратко… Разреши для начала и лучшего понимания осветить тебе положение с вооруженными силами в Испании несколько подробнее… как я себе это вижу…
Я с готовностью согласился, и Альварес дель Вайо сообщил мне следующее: Когда 14 апреля 1931 года в Испании была провозглашена Республика, армия представляла для неё серьезную проблему.
Основная масса испанского офицерства всегда вербовалась из полуфеодальных помещичьих кругов и отличалась крайней реакционностью. Численность военной верхушки была поразительна…
В том же 1931 году при общем контингенте армии в 105 тысяч человек на действительной службе состояло около 200 генералов и до 17 тысяч офицеров.
Иначе говоря, один генерал приходился на 500 солдат, а один офицер – на 6 рядовых.
Пропорция явно нелепая, если принять во внимание очень низкий уровень технической оснащенности испанской армии.
– А ведь сверх того имелись еще тысячи офицеров и генералов в запасе!, – воскликнул он.
Военный бюджет составлял почти треть всех государственных расходов. Являясь верной защитой церкви и помещиков, армия, точнее, её генеральско-офицерская верхушка представляла собой настоящее государство в государстве, и во главе её стоял сам король.
Не подлежало ни малейшему сомнению, что, если республика хочет обезопасить свою жизнь, то она должна сразу же уничтожить столь враждебное ей осиное гнездо.
– Сделала ли она это?, – задал мой гость риторический вопрос, на который попытался сам дать ответ:
– Только частично, половинчато…
– Первый военный министр республики Асанья пытался «реорганизовать» армию, однако, как типичный либеральный демократ, он не сумел проявить при этом ни достаточной твердости, ни последовательности.
– Я всё это помнил…, будучи тогда тут, – пронеслись у меня мысли.
– Вместо того чтобы начисто разогнать старую воинскую верхушку и создать новую из людей, дружественных республике, Асанья избрал путь гнилого компромисса, – возмущался мой собеседник.
Он предложил всем офицерам, не разделяющим республиканских взглядов, добровольно выйти в отставку с сохранением полной пенсии, оружия, формы и титулов.
Таким путем офицерский корпус численно был сокращен примерно наполовину.
Но политически мало что изменилось…
Офицеры, оставшиеся на службе, внешне слегка перекрасившись, в душе сохранили прежние монархическо-феодальные убеждения.
А те, что ушли в запас и оказались совершенно свободными от обычных своих забот, с головой окунулись в «политику»: создали «Испанский военный союз», – ставший оплотом реакции.
Вступили в тесный контакт с крайне правыми партиями и группами, начали устраивать военные заговоры и мятежи.
– И всё это на казенный счет!, – тут уже не выдержал я и возмутился.
Мой собеседник далее рассказал мне, с негодованием, что Республика аккуратно выплачивала им пенсии.
Наряду с армией, в Испании имелась ещё и многочисленная жандармерия, именовавшаяся Гражданской гвардией.
Она пользовалась самой дурной славой среди широких масс народа. Её одинаково ненавидели как рабочие, так и крестьяне.
Во время республиканского переворота 1931 года Гражданская гвардия, возглавлявшаяся генералом Санхурхо, не решилась открыто выступить против республики: слишком уж дискредитированы были тогда Бурбоны!
К тому же Санхурхо полагал, что к Испании в полной мере приложимо французское изречение «plus ga change – plus ca reste» – «чем больше это меняется, тем больше остается все тем же». Однако он ошибся.
Как ни бесхребетны были Асанья и его коллеги, под все возрастающим давлением проснувшихся масс они оказались вынужденными начать некоторые реформы, и прежде всего в области земельной.
Это вызвало среди испанских реакционеров бурю негодования. Генералитет реагировал стремительно: в августе 1932 года Санхурхо, опираясь на Гражданскую гвардию, поднял восстание против правительства.
Оно было плохо подготовлено и ограничилось главным образом Севильей. Основные силы господствующего класса выжидали… они считали военное выступление преждевременным.
А рабочие ответили на мятеж всеобщей стачкой. Авантюра Санхурхо была ликвидирована в течение нескольких часов.
Однако она могла стать, серьезным предупреждением для правительства. Асанье представлялся великолепный случай начисто разогнать Гражданскую гвардию и вместо неё создать новую полицейскую силу, верную республике. Но нет! Асанья и тут не изменил тактике гнилого компромисса: приговоренный к смертной казни Санхурхо был помилован, Гражданская гвардия сохранена в своем старом виде и в то же время правительство создало особую Ударную гвардию (Guardias de Asalto), в ряды которой становились сторонники Республики.
Таким образом, в Испании оказались два далеко не во всём согласных друг с другом органа безопасности, чем порождался в стране весьма опасный административный хаос.
Альварес дель Вайо откровенно признавал и с этим я был с ним полностью согласен, что вредные последствия такой политики обнаружились с особенной остротой после февральских выборов этого 1936 года, давших победу Народному фронту в кортесах.
Испанская реакция сейчас всерьез испугалась… и, не рассчитывая парировать угрозу себе, своим жизненным … экономическим и политическим привилегиям… мирными… парламентскими средствами, стала усиленно думать о столь привычном для Испании военном перевороте – «пронунсиаменто».
Политическая роль армии и жандармерии сразу возросла.
– Принимает ли Республика сейчас какие-либо меры защиты?, – задавались мы с ним вопросом.
– Да, принимает…
Альварес дель Вайо рассказывал мне то, что было всем и так известно…
Что «наиболее подозрительные» генералы были разосланы подальше от Мадрида… что среди офицерства проводится чистка, что усиливается Ударная гвардия.
Кроме того, объединение социалистической молодежи создало свою собственную милицию.
Суммируя все это, сопоставляя плюсы и минусы, Альварес дель Вайо приходил к довольно оптимистическому выводу:
– Конечно, путь республики не усеян розами, но и серьезной опасности для неё нет.
В стране, по его мнению, имеется достаточно сил для предупреждения… или, во всяком случае, для подавления любой попытки военного переворота. Выслушав Альвареса дель Вайо, я заметил ему, что его мнение оставило у меня несколько иное впечатление…
– А на самом деле, – сказал я ему, – давай посмотрим, какое складывается положение:
– Ударная республиканская гвардия «асальто» нейтрализуется реакционной Гражданской гвардией в случае мятежа…
– Армия крайне ненадежна, ибо, несмотря на все реформы Асаньи, основная масса офицерства по-прежнему очень реакционна.
– Да и рассылку «подозрительных» генералов по провинции, конечно, нельзя считать серьезной предупредительной мерой, – перечислил я слабые стороны текущего положения.
– Стало быть, практически армия в руках врагов народа, – сделал я вывод.
– А что ей может противопоставить демократия?, – задал я вопрос.
– Только социалистическую милицию…, – ответил смущённо мой собеседник.
– Как велика она?, – спросил я его.
– Думаю, в Мадриде наберется тысяч до пятнадцати, – ответил мне Альварес дель Вайо.
– Ну, а как она обучена, вооружена?, – задал я ему следующий логичный вопрос.
– Обучена, пожалуй, не плохо… Особенно, если принять во внимание её дух. Но с вооружением дело обстоит неважно…, – с грустью констатировал он.
– Вот видишь, – продолжал я. – Итак, против хорошо вооруженной и многочисленной армии мы имеем плохо вооруженную и немногочисленную социалистическую милицию… Конечно, дух милиции очень важный плюс, однако…
– Но ведь с нами народ! – воскликнул Альварес дель Вайо. – Самые широкие массы народа!
– Это, разумеется, очень важно, – согласился я, – в этом основная сила Республики.
Но, если народ хочет отстоять свои права, он должен иметь острые зубы. Насколько могу судить, испанский народ таких зубов еще не имеет. И это очень опасно.
Реакция может легко пойти на риск переворота, тем более что у вас «пронунсиаменто», то есть военный переворот – почти бытовое явление…
– Не надо также забывать и о международной обстановке, о планах и стремлениях фашистских держав – Германии и Италии.... , – стал я ему приводить свои опасения, которые впрочем высказывал тут всем руководителям Народного фронта и республиканского правительства.
Альварес дель Вайо… как и те… стал мне с жаром возражать.
Он и другие … никак не хотел расстаться со своим оптимизмом, который, чем дальше мы спорили, тем менее обоснованным мне казался.
В заключение я сказал ему:
– От души желаю, чтобы твои ожидания оправдались. Однако сам я, к сожалению, настроен скептически.
– По-моему, – сказал я ему, – опасность для республики вполне реальна. Если республика в кратчайший срок не сумеет по-настоящему «прочистить» армию и крепко взять её в свои руки, ни за что поручиться нельзя.
– Овладеть армией, вооружить народ – это сейчас важнейшая задача, стоящая перед испанской демократией, в частности перед социалистической партией, в которой тебя Альварес ценят и прислушиваются…
– Мы так и действуем! – горячо отозвался Альварес дель Вайо. – Но наши возможности довольно ограниченны.
Ведь мы, социалисты, не входим в правительство, мы только его поддерживаем. Правительство состоит из людей типа Асаньи.
Все, что в сложившихся условиях можно делать, мы делаем и будем делать. На этот счет не сомневайся…, – заверил он горячо.
Когда Альварес дель Вайо ушел, я стал мысленно подводить итоги нашей беседы.
Для меня было совершенно очевидно, что у моего недавнего гостя слишком много доверчивости, почти прекраснодушия…
И – увы! – я уже хорошо знал, что розовые очки даже самых лучших из европейских социалистов часто оплачиваются кровью и страданиями народных масс.
Конечно, в тот теплый июльский день я не мог предвидеть будущего, но помню, что от встречи с Альваресом дель Вайо у меня осталось ощущение какой-то неясной внутренней тревоги.
Не было у меня уверенности, что испанская демократия сознает грозящую ей опасность.
И ещё менее я был уверен в том, что она, включая и коммунистов и социалистов, принимает действительно эффективные меры для предупреждения этой опасности…
В силу своего положения, я, конечно, на многое влиял, но я не мог самолично заставить тут сделать всё по-моему … Мне это запрещали предписания из Москвы… от Коминтерна…
Там очень опасались реакции Запада на наше вмешательство… Поэтому по максимуму дистанцировались…
Конечно и меня несколько успокаивал тот факт, что благодаря моему вмешательству… в Испанию уже почти пять лет тоненьким ручейком стекалось оружие и формировались коммунистические бригады… вооружённые даже танками и самолётами…
– Но что такое полсотни танков и два десятка самолётов?, – задавался я вопросом, – если… как мне подсказывало моё чутьё… на стороне мятежников сразу же выступят регулярные части фашистской Италии… её флот и авиация… Да и гитлеровская Германия не будет в стороне…
***
Несмотря на серьёзную опасность мятежа и гражданской войны в Испании, меня по прежнему весьма беспокоили дела в Германии…
Благодаря довольно свободному своему положению в Мадриде, я имел возможность поддерживать связь со всеми своими контактами там…
Довольно занятная информация поступала ко мне от Ольги Чеховой, которая вращалась среди нацисткой верхушки.
Она там близко сошлась с этой выскочкой… как она когда то охарактеризовала Лени Рифеншталь… которая была и талантливой актрисой… и кинорежиссёром… и вообще… довольно деятельной…
В моей голове крутилась фраза: «…студентка, спортсменка, комсомолка и… просто красавица…»
Так вот… эта Лени «сорвала банк», когда сняла для нацистов пропагандистский фильм про их прошлогодний съезд в Нюрнберге, под названием «Триумф воли», где очень живо представила Гитлера и его свору…
И вот Оля с ней подружилась и теперь везде с ней каталась … в том числе и на лыжах…
В своих письмах мне, Чехова писала, что они с Лени… как обычно, в канун Рождества… в прошлом 1935 году отправились в горы.
Незадолго до отъезда Лени из Берлина… ей позвонил Шауб – секретарь Гитлера и спросил: не может ли она посетить Гитлера в его мюнхенской квартире? Причину этого неожиданного приглашения он назвать не смог. Лени сказала ему, что приедет вместе с Чеховой… Тот согласился сразу… видимо Гитлер слушал их разговор и кивнул ему…
Поскольку в Давос, где они обычно катались… нужно было ехать через Мюнхен, то это не составляло для них никакого труда.
В одиннадцать часов утра они с Лени стояла на Принцрегентенплац у дома номер 16 – неброско выглядевшего углового здания возле Театра Принца-регента.
Когда они позвонила на третьем этаже, дверь им открыла женщина средних лет, как Чехова узнала позже, это была фрау Винтер, экономка в частной квартире фюрера.
Она провела их в просторную комнату, где уже находился Гитлер.
– Как и всякий раз, при встрече с ним я почувствовала беспокойство, – сообщила Лени Чеховой перед их визитом. И пояснила: – Сдержит ли он своё обещание и не поручит ли снимать мне новые пропагандистские фильмы?
Гитлер был в гражданской одежде. Комната, обставленная скромно, казалась довольно неуютной: большая книжная полка, круглый стол с кружевной скатертью, несколько стульев.
Гитлер, словно угадав мои мысли, сказал: – Как видите, фройляйн Рифеншталь и фрау Чехова, я не придаю никакого значения комфорту. Каждый час я использую для решения проблем моего народа. Поэтому всякое имущество для меня лишь обуза, даже моя библиотека крадет у меня время, а читаю я очень много…
Он прервал свою тираду и предложил гостьям что-нибудь выпить.
Они… не сговариваясь… остановили свой выбор на яблочном соке.
– Если дают, – продолжил Гитлер, – то нужно брать. Я беру, что мне нужно, из книг. Мне много ещё нужно нагонять. В юности у меня не было средств и возможности это получить. Каждую ночь я прочитываю одну-две книги, даже в том случае, если ложусь поздно.
Лени спросила: – А что вы предпочитаете читать? Он ответил не раздумывая: – Шопенгауэра – он был моим учителем.
– Не Ницше? – удивилась Оля.
Фюрер улыбнулся и продолжил: Нет, дорогая фрау Чехова … в Ницше для меня не много проку, он скорее художник, чем философ, рассудок у него не такой прозрачный, как у Шопенгауэра.
Оля написала в своём письме мне, что это озадачило её, так как все говорили, что Гитлер – поклонник Ницше.
Он же добавил: – Конечно, я ценю Ницше как гения, он, возможно, пишет на самом прекрасном языке, какой только можно отыскать на сегодняшний день в немецкой литературе, но он не мой идеал.
Чтобы перейти к другой теме, Лени спросила: – Как вы провели сочельник?
На что Гитлер меланхолично ответил: – Я бесцельно ездил по сельским дорогам со своим водителем, пока не устал.
Мы с удивлением посмотрела на него, пишет Ольга, а он пояснил: – Я делаю это в сочельник каждый год. И после небольшой паузы добавил грустно: – У меня нет семьи, я одинок.
– Почему вы не женитесь?, – спросила у него Лени.
Гитлер вздохнул: – Если бы я привязал к себе женщину, это было бы безответственно с моей стороны. Что она могла бы получить от меня?, – задал он риторический вопрос и ответил на него: – Ей пришлось бы почти всегда быть одной. Моя любовь без остатка принадлежит моему народу. Если б у меня были дети, что бы с ними случилось, отвернись от меня счастье? Тогда у меня не осталось бы ни одного друга, и детям пришлось бы переносить унижения и, возможно, даже умирать с голоду.
Чехова написала в письме, что он говорил это с горечью и взволнованно, но вскоре успокоился и с пафосом произнёс: – Я могу полностью полагаться на людей, помогавших мне в трудные годы и которым буду хранить верность, даже если у них не всегда хватает способностей и знаний, требующихся в нынешнем положении.
После этого, пишет Ольга, он испытующе посмотрел на нас и совершенно неожиданно спросил: – А какие у вас планы?
На что Лени спросила у него: – Доктор Геббельс вам ничего не сообщал?
Фюрер покачал отрицательно головой. Тогда Лени стала рассказывать ему, как после долгого внутреннего сопротивления решилась снимать фильм об Олимпийских играх в Берлине.
Так вот из письма Ольги Чеховой я узнал, что в этом 1936 году в Германии пройдут Олимпийские игры. Причём как летние, так и зимние…
Такое решение ещё четыре года назад принял Международный олимпийский комитет – МОК… Понятное дело, что я далёк от мира большого спорта… и это пропустил.
Далее Оля пишет, что Гитлер удивленно посмотрел на Лени и сказал: – Это интересное задание. Но вы мне говорили, что больше не хотите делать документальные фильмы, а только сниматься как актриса?
– Да, – сказала Лени, – безусловно, я в последний раз снимаю подобный фильм. Затем Лени пояснила, что она после долгих размышлений поняла, что это редкий шанс, который дает ей МОК, и великолепный контракт с фирмой «Тобис», а также не в последнюю очередь мысль о том, что мы в Германии потом долго не увидим Олимпиаду, заставили её согласиться.
Затем, как пишет Чехова в своём письме, Лени рассказала Гитлеру о своих трудностях в реализации проекта и о большой ответственности, которая её беспокоит.
Гитлер поддержал её в своей манере: – Тут вы не правы, Лени… нужно больше верить в себя. Кто, кроме вас, сумеет снять фильм об Олимпиаде?
К тому же устроителем Игр является МОК, а мы всего лишь принимающая сторона.
Проблем с доктором Геббельсом не будет никаких, – заверил он.
Далее Ольга Чехова пишет, что к их изумлению, он добавил: – Сам я в Играх не очень заинтересован и предпочел бы не заниматься ими…
– Почему? – удивились мы, пишет Чехова.
Гитлер помедлил с ответом, затем сказал: – У нас нет никаких шансов выиграть медали, наибольшее число побед одержат американцы, и лучше всех у них выступят чернокожие спортсмены. Мне не доставит никакого удовольствия смотреть на это. Кроме того, приедет много иностранцев, которые отвергают национал-социализм. Тут могут быть неприятности.
Он упомянул и о том, что ему не нравится олимпийский стадион: колонны какие-то слишком хилые, само сооружение недостаточно отражает мощь тевтонского духа. – Но я уверен, что вы непременно сделаете прекрасный фильм, – сказал он Лени в конце.
Затем он перевел разговор на Геббельса и спросил: – Может ли быть плохим человек, способный смеяться так искренно, как доктор?
И прежде чем Лени успела высказаться на этот счет, он сам ответил на свой вопрос: – Нет, тот, кто так смеется, не может быть плохим…
– У меня же создалось ощущение, – пишет Оля, – что Гитлер был тем не менее не совсем уверен в своих словах и хочет закончить разговор.
Фюрер испытующе посмотрел на нас, – пишет она, – немного подумал и затем сказал:
– Прежде чем вы покинете меня, хочу вам кое-что показать. Пожалуйста, пойдемте со мной. Он повел их по коридору и открыл запертую дверь.
В комнате стоял мраморный бюст девушки, украшенный цветами.
– Это Ева Браун, – пояснил он, – моя любовь. Она та единственная женщина, на которой я мог бы жениться.
– Мы ничего не сказали…, – пишет Чехова. И когда в смущении прощались с Гитлером, он сказал Лени: – Желаю удачи в работе. Вы обязательно с ней справитесь.
Затем было письмо от Ольги Чеховой с рассказом о зимней Олимпиаде…
Она открылась 6 февраля 1936 года в Гармиш-Партенкирхене.
Оля писала, что ещё за сутки было не ясно, смогут ли Игры состояться. Долго не выпадал снег, луга и просеки были скорее зелеными, чем белыми.
Но в ночь перед началом Игр пошел желанный и обильный снег. Гармиш-Партенкирхен приобрел великолепный зимний вид.
Она поселилась с Лени в гостинице «Гармишер хоф».
Лени приехала туда, как написала Ольга, не только чтобы увидеть Игры в качестве зрителя, но также и поучиться фиксировать камерой спортивные мероприятия.
Некоторые из её операторов опробовали там аппараты, оптику и пленку.
Как пишет Ольга, к огорчению Лени… Геббельс неожиданно решил делать ещё один фильм об Олимпиаде и поручил это Гансу Вайдеманну, сотруднику отдела кинематографии своего министерства.
Лени сказала Ольге, что не сомневается, что таким образом тот хотел доказать ей, «как можно хорошо и быстро осуществить работу над подобным фильмом».
Оля спросила у Лени, – почему она не снимает ленту и о зимней Олимпиаде? Та ей ответила, что это, конечно, заманчиво, но она понимает, что невозможно в один год сделать два фильма. Летние Олимпийские игры были для неё куда важнее.
Далее Оля пишет, что в Гармише состоялись увлекательные состязания.
Снова феноменально выступила какая то Соня Хени, которая после десяти чемпионатов мира теперь выиграла свою третью золотую олимпийскую медаль. Событием стало и выступление неких Макси Хербер и Эрнста Байера в парном фигурном катании.
Когда они танцевали свой знаменитый вальс, – пишет Чехова, – зрители захлебывались от восторга.
В скоростном спуске на лыжах у мужчин немец Ганс Пфнюр оказался быстрее шустрого австрийца Гуцци Ланчнера и завоевал золотую медаль.
У женщин первой с большим перевесом пришла Кристль Кранц, – «королева» горнолыжниц.
Олимпиада в Гармише прошла успешно, – констатировала Чехова.
Когда Зимние Игры закончились, они с Лени поехали в Давос… там кататься на лыжах.
Прибыв туда, Лени неожиданно получила приглашение от Муссолини…
– А вот это уже интересно, – подумал я тогда, прочитав это в письме Ольги.
Приглашение пришло от референта по вопросам культуры итальянского посольства в Берлине.
Оказывается, это не первое приглашение… Две недели назад Лени уже получала такое приглашение, но не смогла его принять, так как находилась в Гармише и не хотела отказываться от присутствия на Играх.
Итальянское посольство сообщило Лени, что Дуче хочет побеседовать о её работе в кино.
Лени ответила, что примет приглашение, но будет с Ольгой Чеховой, на что в посольстве тут же согласились…
– При прощании в Давосе наши австрийские друзья, – писала Ольга, – которые собирались покататься с нами в районе Парсенна, в шутку просили Лени замолвить за них словечко Дуче.
Речь шла о возможной оккупации итальянцами Южного Тироля.
По пути в Рим Оле и Лени пришлось переночевать в Мюнхене. В гостинице «Шоттенхамель» близ вокзала, где Лени обычно останавливалась.
Там они встретили в вестибюле фрау Винтер, экономку Гитлера и рассказали ей о приглашении Муссолини.
И вот … всего лишь через час у Лени в номере зазвонил телефон. Это снова была фрау Винтер. Она сказала: – Гитлер в Мюнхене. Я пересказала ему наш разговор. Фюрер велел спросить, – когда завтра вылетает ваш самолет?
– Ровно в двенадцать я должна быть в аэропорту, – ответила Лени.
– Вы не могли бы встать немного пораньше, чтобы быть в десять у фюрера?, – спросила та после некоторой паузы.
Лени потом честно призналась Оле, что это приглашение её немного испугало. – Что бы оно могло значить?, – задавалась она вопросом.
– Наши друзья, – пишет Ольга Чехова, – рассказали нам, что на австрийской границе стоят итальянские войска и что ситуация в Южном Тироле крайне взрывоопасна. Не потому ли Гитлер хотел поговорить с Лени?
Лени ответила экономке Гитлера, что приедет с Ольгой Чеховой, чтобы сразу затем отправиться в Аэропорт.
Экономка тут же согласилась… видимо Гитлер слушал разговор и кивнул той в знак согласия.
– На следующее утро, – пишет мне Ольга Чехова, – они с Лени были на площади Принцрегентенплац.
Гитлер извинился за приглашение в столь ранний час.
– Я слышал, – сказал он, – что дуче пригласил вас к себе? Вы долго пробудете в Риме? Лени ответила отрицательно, но Гитлер вопреки нашему ожиданию не стал говорить о Дуче, а начал рассказывать о своих строительных планах, потом об архитектуре и разных архитектурных памятниках за границей, которыми он восторгался и, к Олиному изумлению, точно описывал их.
Всё это не имело ничего общего с их визитом в Рим.
И лишь когда Оля и Лени уже хотели попрощаться, – фюрер как бы мимоходом сказал: – Дуче – человек, которого я высоко ценю. Я бы сохранил к нему уважение, даже если бы ему однажды довелось стать моим врагом…
– Это было все…, – писала Ольга. – Он даже не попросил Лени передать ему привет.
Было заметно, как Лени испытала облегчение оттого, что ей не нужно ничего говорить Муссолини.
Гитлер поручил своему шоферу точно в заданное время доставить Ольгу и Лени на своем «мерседесе» в аэропорт Обервизенфельд.
В Риме – их самолет приземлялся в «Чампино» близ античной Аппиевой дороги.
Там Ольгу и Лени встретили члены итальянского правительства, некоторые из них были в черной униформе. Был даже Гвидо фон Париш, атташе по вопросам культуры итальянского посольства в Берлине.
От него-то Лени дважды и получала приглашения. В машине он сидел рядом с Лени и прошептал загадочно: – Вы увидите Дуче еще сегодня.
– Вдруг подумалось тогда, – пишет Ольга, – что речь, возможно, идет не об обычной аудиенции. Мысль отнюдь не успокоительная…
Уже через несколько быстро промелькнувших часов Ольга и Лени входили в палаццо Венеция.
Им сказали, чтобы они обращалась к Муссолини «ваше превосходительство». Тяжелые двери медленно раскрылись, и Ольга с Лени вошли в зал.
Далеко от двери стоял большой письменный стол, из-за которого Муссолини вышел им навстречу. Он приветствовал их и подвел поочерёдно каждую к роскошным креслам. Проявляя галантность к дамам… пока те усаживались в них…
– Хотя Дуче был не особенно большого роста, – пишет дальше Ольга, – однако производил весьма внушительное впечатление. Сгусток энергии в униформе, но и немножко Карузо, – сделала она яркое сравнение.
Сделав им несколько комплиментов, кстати, на удивительно хорошем немецком, как написала Ольга, он перевел разговор на фильмы Лени.
– Я была удивлена, – написала Чехова в письме, – что он запомнил так много деталей. Он с трудом поверил тому, что опасные сцены, где играла Лени в Альпах и Гренландии были сняты без дублеров, а также с восторгом отозвался о технике съемки. Потом он заговорил о «Триумфе воли».
– Этот фильм, – сказал он, – убедил меня в том, что документальные фильмы вполне могут быть захватывающими. Потому я и пригласил вас, – обратился он к Лени…
Мне хотелось бы попросить вас снять документальный фильм и для меня.
Лени с удивлением посмотрела на Муссолини.
– Фильм о Понтинских болотах, которые я хочу осушить, чтобы получить новые земли, – это для моей страны важное мероприятие, – пояснил Дуче.
– Благодарю вас за доверие, ваше превосходительство, – сказала ему Лени, – но я должна сейчас делать большой фильм об Олимпиаде в Берлине и боюсь, что эта работа займет у меня добрых два года.
Дуче улыбнулся, встал и сказал: – Жаль, но я понимаю, эта работа важнее. Затем, обогнув стол, он подошел к Лени, пристально посмотрел ей глаза и патетически произнес: – Передайте вашему фюреру, что я верю в него и в его призвание.
– Почему вы говорите это мне? – удивилась Лени.
Муссолини пояснил озабоченно: – Дипломаты, как немецкие, так и итальянские, делают всё для того, чтобы предотвратить сближение между мной и фюрером.
– В это мгновение, – пишет Ольга, – видимо Лени вспомнились напутствия наших австрийских друзей, и она невинно спросила:
– Разве не возникнет никаких проблем с Гитлером из-за Австрии?
– Лицо Муссолини, – как далее пишет Ольга, – помрачнело и он произнёс:
– Можете передать фюреру: что бы ни случилось с Австрией, я не стану вмешиваться в её внутренние дела.
– Хотя я мало что понимала в политике, – написала Ольга дальше в письме, – но смысл этих слов даже мне был совершенно ясен. Они значили ни больше ни меньше как следующее: Муссолини при известных условиях не будет препятствовать Гитлеру «присоединить» Австрию к Германии…
– А вот это информация стратегического значения, – подумал я тогда и похвалил себя мысленно за «вербовку» такого ценного агента, как Ольга Чехова.
Далее Оля сообщала мне, что едва она и Лени успели возвратиться в Берлин, как Лени пригласили в рейхсканцелярию.
– Должно быть, итальянская сторона проинформировала Гитлера о моём отлете домой, – сказала Лени, Ольге, отправляясь туда.
Позже Лени рассказала Ольге, что в рейхсканцелярии господин Шауб отвел её в небольшую комнату для аудиенций.
Вскоре туда вошел Гитлер и приветствовал Лени тепло. Шауб еще не успел выйти, как фюрер предложил ей сесть, а сам остался стоять.
– Как вам понравился Дуче? – спросил он.
Лени ответила ему, что Дуче интересовался её фильмами и спросил, – не снимет ли она и для него документальную ленту об осушении Понтинских болот?
– И что вы на это ответили?, – спросил у неё Гитлер.
Лени сказала ему, что ей пришлось отказаться от этого предложения, так как она занята работой, связанной со съемкой летних Игр в Берлине.
Гитлер взглянул на неё пронзительным взглядом и спросил: – И больше ничего?
– Да, – сказала Лени, – он просил передать вам привет.
После той аудиенции в Риме, Лени записала слова Муссолини и воспроизвела их для Гитлера слово в слово: «Скажите фюреру, что я верю в него и его призвание, скажите ему также, что немецкие и итальянские дипломаты пытаются воспрепятствовать дружбе между мной и фюрером».
– При этих словах, – по словам Лени, как пишет Ольга, – Гитлер опустил глаза, не сделав более ни одного движения.
А затем Лени сказала Гитлеру нечто, чего ей, возможно, – как пишет Ольга, – нельзя было говорить… Она рассказала ему затем о просьбе к Дуче со стороны её австрийских друзей. Гитлер посмотрел на неё с удивлением. Она продолжила и пересказала Гитлеру ответ Дуче: «Можете сказать фюреру: что бы ни случилось с Австрией, я не стану вмешиваться в её внутренние дела».
Затем, как пишет Ольга со слов Лени, – Гитлер зашагал из угла в угол. Потом с отсутствующим взглядом остановился передо ней и сказал: – Благодарю, фройляйн Рифеншталь.
– На этом всё не закончилось, – пишет далее Ольга Чехова.
Освободившись от этой миссии, Лени покинула рейхсканцелярию с чувством огромного облегчения…, – как та ей сказал, – и едва она вошла в квартиру, как снова зазвонил телефон.
У аппарата был Геринг: – Я слышал, что вы были у фюрера, а до этого – в Риме у Дуче, меня интересует, что сказал Муссолини?
– Ничего такого, чтобы вас могло заинтересовать, – ответила ему Лени.
Геринг продолжил: – Не согласились бы вы выпить со мной чашку чаю и немного побеседовать?
Квартира Геринга находилась в правительственном квартале, недалеко от Бранденбургских ворот.
Он с гордостью там стал показывать Лени свои роскошно обставленные апартаменты, буквально напичканные антикварной мебелью, дорогими картинами и тяжелыми коврами.
– В этой роскоши я не вынесла бы ни одного дня, – призналась потом Лени в беседе с Ольгой.
Геринг был в гражданской одежде и держал себя благосклонно-покровительственно.
Лени испытала неприятное чувство, потому что он называл огромные суммы, уплаченные за картины и мебель.
За чаем он сразу же приступил к тому, что его интересовало: – Что, собственно, хотел от вас Дуче? Что он сказал?, – сыпал он вопросами.
Лени ответила ему: – Предложил мне снимать фильм.
– И больше ничего?, – не унимался боров.
– Просил передать привет фюреру, – снова невинно ответила ему Лени.
– Это не всё! Вы что-то утаиваете от меня!, – повысил он требовательно голос.
– Так спросите у фюрера! Ничего другого я не могу вам сказать, – резко отрезала ему Лени.
Некоторое время Геринг еще пытался что-то у неё узнать. Наконец он сдался и отпустил Лени, довольно неласково, – как пишет Ольга Чехова мне в своём письме.
Через неделю после их возвращения из Рима, – сообщает дальше она, – 7 марта 1936 года Гитлер объявил Локарнский договор недействительным и приказал вермахту войти в демилитаризованную зону Рейнской области.
Сразу после этого… в приватной беседе… Лени призналась Ольге Чеховой, что она случайно узнала о том, что храбрости фюреру придало именно то… привезённое ею… послание Муссолини.
И её поездку в Рим спланировал, оказывается, не кто иной, как итальянский посол Аттолико.
– Вот такие дела, – вырвалось у меня тогда.
– И такие вот бывают «специальные посланники»… ничего не знающие и непонимающие…, – пришёл я к неожиданному выводу.
Конечно же все сведения, таким образом мною получаемые, я передавал в сжатых донесениях в Центр, за подписью «Смена», так как не хотел выдавать своих источников, чтобы не подвергать их опасности.
***
1 июня 1936 года в Москве открылся пленум ЦК ВКП(б).
Перед началом заседания все его участники получили для ознакомления проект новой Конституции СССР.
Разительным отличием данного Основного закона от предшествовавшего являлось отсутствие устремлённости к мировой революции. Что не соответствовало первому разделу с Декларации образования СССР.
Кроме того, теперь пролетариат полностью лишался каких-либо преимуществ, что делало ненужной его диктатуру.
В корне менялась избирательная система. Конституция устанавливала чёткое разделение законодательной и исполнительной властей. Провозглашались независимость судей, подчинённость их только закону и выборность народных судей низшей инстанции.
Сталин прекрасно понимал, что такая коренная переработка Конституции могла вызвать обвинения в его адрес и в сторону его соратников в отходе от революционных идей марксизма-ленинизма, в ревизионизме и оппортунизме. Чтобы обезопасить себя и своих сторонников от таких нападок, своё выступление на пленуме Сталин начал с зачитывания полных текстов документов, послуживших основанием для подготовки проекта новой Конституции.
Эти постановления были приняты ещё в феврале 1935 года последовательно пленумом ЦК, VII съездом Советов СССР и сессией ЦИК.
Тем самым… вопрос Сталин поставил так: «товарищи… всё мною делалось во исполнение соответствующих решений, и теперь лишь остаётся обсудить тут, насколько хорошо они были выполнены».
Далее Сталин остановился на том, что предопределяло необходимость разработки новой Конституции, а именно на коренных переменах, произошедших в стране с 1924 года в области экономики, классовой структуры, взаимоотношений народов СССР.
– В результате развития народного хозяйства, товарищи, – сказал Сталин, – в СССР построено социалистическое общество, не знающее кризисов, безработицы, нищеты и дающее все возможности для зажиточной и культурной жизни.
– Рабочий класс, товарищи, перестал эксплуатироваться капиталистами, – заявил Вождь на Пленуме, – а потому его теперь нельзя называть пролетариатом.
– Советское крестьянство стало колхозным крестьянством, – продолжил он. Интеллигенция является полноправным членом общества и вместе с рабочими и крестьянами ведёт строительство нового бесклассового социалистического общества.
– Народы, считавшиеся ранее отсталыми, товарищи, теперь таковыми не являются!, – объявил всем Генсек и добавил:
– Совершенствуется их экономика, развивается культура, растут национальные кадры, крепнут узы дружбы.
– Проблемы эффективного управления страной, – далее продолжил Иосиф Виссарионович, – требуют, товарищи, разделения законодательной и исполнительной властей.
– Таким образом, проект новой Конституции отразил завоевания рабочих и крестьян нашей страны и теперь послужит величайшим рычагом для мобилизации народа на борьбу за новые достижения, за новые завоевания, – громогласно завершил Вождь мирового пролетариата своё сенсационное выступление перед делегатами Пленума ЦК.
Естественно, что против таких положений, логично представленных в докладе Сталина, возразить было нечего.
Но и принимать их делегатам Пленума не хотелось. Поэтому никто из участников Пленума не выступил даже с обычными словами одобрения.
Видя такое молчаливое сопротивление, Сталин выступил с предложением:
– Вынести проект Конституции на всенародное обсуждение.
На которое отводилось четыре месяца. После этого Всесоюзный съезд Советов должен был принять или не принять новый Основной закон.
12 июня 1936 года все газеты опубликовали проект Конституции СССР, а затем ввели на своих страницах рубрику со всенародным обсуждением этого документа.
Здесь стали помещать приходившие в редакции газет отклики рабочих, крестьян, инженеров, врачей, учителей, красноармейцев, командиров Красной Армии.
Не было там только, за небольшим исключением, статей от партийного руководства СССР.
Сложилась парадоксальная ситуация: все члены ЦК единогласно проголосовали за предложенную Конституцию, но никто из них открыто не высказался в её поддержку.
Вокруг группы Сталина возникла неприятная обстановка, вынуждавшая вырабатывать ответные наступательные меры.
По откровенному саботажу Сталин решил нанести удар, который показал бы всем… как и его непреклонность в проведении избранного им курса, так и плачевную перспективу для его противников… в случае продолжения ими сопротивления.
Глава 2
Ещё в свой первый приезд в Испанию, я тут познакомился с выдающимся человеком, зовут его – Игнасио Идальго де Сиснерос – он выходец из старинного аристократического рода, получив традиционное для своего круга военное образование, стал одним из первых военных летчиков в Испании.
На протяжении 15 лет он участвовал в колониальных войнах в Северной Африке, а затем командовал воздушными силами Испании в Западной Сахаре. Буквально до недавна Сиснерос занимал пост авиационного атташе Испании в фашистской Италии и гитлеровской Германии. Имел доступ к секретным документам, в том числе к новейшим моделям самолётов этих стран, которые рассматривали Испанию, как своего союзника. Он, конечно же, передавал их мне, а я в Москву.
На историческом заседании испанского парламента, когда кортесы сместили с поста президента республики дона Нисето Алькала Самора, президентом был избран Мигель Асанья. Новый президент тут же поручил формирование нового правительства дону Сантьяго Касарес Кирога.
Касарес, кроме обязанностей премьер-министра, взял себе портфель военного министра.
А Сиснерос был назначен его адъютантом… о чём его даже не поставили в известность. Он узнал об этом из газет…
Обязанности адъютанта главы правительства и военного министра неожиданно поставили моего друга очень близко к руководителям республики. И я стал от него получать информацию, что называется – «из первых рук».
По словам Сиснероса, Дон Сантьяго, как тот называл своего патрона, обладал мягким характером, хотя и старался скрывать свою доброту и слабоволие.
Он восхищался Сиснеросом, считался с его мнением и относился с теплотой и доверием.
– Я не могу понять, почему многие в Испании считают дона Сантьяго волевым и решительным человеком?, – задавался вопросом мой друг.
Вступление Касареса в должность военного министра, по его словам, тем ни менее … имело в армии большой резонанс.
Офицеры-республиканцы восприняли это решение с огромным удовлетворением. Они возлагали немалые надежды на нового министра, рассчитывая, что он предоставит больше возможностей для «республиканизации» всей армии.
У реакционеров его назначение, естественно, вызвало замешательство. Они были уверены, что Касарес немедленно примет энергичные меры, чтобы сорвать заговор мятежников.
Вначале, когда новое правительство только пришло к власти, у него имелись все возможности нейтрализовать происки врагов республики и ликвидировать заговор и тем самым предотвратить будущее ужасное кровопролитие.
В первое время реакция была так напугана, что не оказала бы серьезного сопротивления. Её единственной опорой являлась армия.
Но вскоре правые поняли, что представляет собой дон Сантьяго.
Они успокоились и с прежней энергией продолжили подготовку к восстанию.
Каждый свой шаг дон Сантьяго согласовывал с президентом Асаньей.
Подобные отношения между президентом республики и главой правительства вряд ли можно считать нормальными.
Фактически Асанья продолжал оставаться и военным министром и премьер-министром.
Мало кто в Испании знал, что «страшный» Касарес находился в полном подчинении у нового президента.
Сиснерос мне рассказал, что Генерал Годет – бывший начальник Управления по аэронавтике и полковник Гальарса – командующий военно-воздушными силами, превратили лётную школу в Алькала-де-Энарес в один из основных центров подготовки к восстанию.
Руководил школой майор Рафаэль Хордана, брат генерала.
И Сиснерос не раз предупреждал премьер-министра Касареса об опасности, которую они представляли для республики. Другие республиканцы также неоднократно настаивал на её роспуске, но всегда встречали непонятное сопротивление министра.
Однажды Сиснеросу доложили, что офицеры привезли в школу пулеметы, патроны и бомбы, а также установили бомбосбрасыватели на имевшихся в их распоряжении трехмоторных самолетах.
Создавалось впечатление, что у них уже все подготовлено к восстанию и они ждут только приказа своих главарей.
Известие было чрезвычайно важным, поэтому мой друг немедленно отправился к Касаресу.
Тот поддержал его предложения по немедленным действиям, но заявил, что должен посоветоваться с президентом Асаньей.
Они договорились, что мой друг поедет вместе с ним к Асанье и лично объяснит президенту сложившуюся обстановку.
Асанья, как я знал, обосновался не в большом дворце эль Пардо, а в так называемом «Касита дель принсипе», маленьком, но чудесном здании, окруженном лесом и обставленном с большим вкусом.
Президент пригласил их даже позавтракать с ним. На трапезе присутствовали его жена, майор-карабинер Куэто – адъютант Асаньи, и Боливар – комендант президентского дома.
В столовой Асанья обратился ко Сиснеросу:
– Вы, кажется, хотите сообщить мне что-то важное?
Сиснерос мне признался, рассказывая об этом, что тогда очень удивился, – почему президент не пригласил его для такого разговора к себе в кабинет, чтобы побеседовать без свидетелей?
Однако, не желая упустить представившуюся возможность поговорить с президентом, мой друг обрисовал ему серьезность создавшегося в армии положения и привел конкретные доказательства подготовки реакционно настроенными военными восстания против республики.
Вдруг Асанья довольно грубо перебил его, заявив, что Сиснерос «очень возбужден», его утверждения опасны и он не должен забываться, разговаривая с президентом.
Асанья встал из-за стола, давая понять, что разговор окончен, и, сопровождаемый Касаресом, вышел с кислой миной из комнаты.
Мой друг был поражен и возмущен слепотой президента.
– Если бы он остался, я бы ответил на столь дерзкую выходку что-нибудь резкое о недопустимой для президента близорукости, – сказал мне мой друг.
Я его понимал… момент был слишком серьезен, решалась судьба его Родины.
Через некоторое время Каксарес вернулся. Заметив состояние Сиснероса, он взял его под руку и повел к машине.
По пути в Мадрид Касарес старался успокоить моего друга, говоря, что не стоит придавать большого значения этому инциденту. Асанья иногда бывает груб, но в глубине души он хороший человек.
– Вы понимаете теперь, – сказал Касарес моему другу, – насколько мне трудно принимать какие-либо меры против подозрительных лиц?
– Он сказал это с некоторым удовлетворением, – сказал Сиснерос мне, – словно политическая слепота Асаньи могла оправдать его… собственное поведение и пассивность как военного министра перед лицом надвигавшейся опасности.
Другой факт, свидетельствовавший о полном непонимании теми, в чьих руках находилась судьба республики, политической ситуации в стране, произошел за несколько дней до восстания.
Из Марокко для представления министру прибыл полковник Ягуэ.
Увидев, что Ягуэ находится в приемной, Сиснерос через другую дверь вошел в кабинет Касареса, решив проинформировать его о человеке, которого тот собирался принять.
Приводя многочисленные факты, он пытался доказать, что полковник Ягуэ является одним из главарей заговорщиков.
В подчиненных ему войсках ведется открытая и наглая подготовка к восстанию против республики.
Уже с 1934 года, со времени событий в Астурии, он откровенно перешел на службу реакции. Этого не видели только те, кто намеренно закрывал глаза на истинное положение вещей.
Сиснерос даже подсказал Касаресу удобный повод, чтобы задержать Ягуэ в Мадриде, а в Марокко послать верного республике офицера.
Ягуэ пробыл у Касареса более полутора часов. По окончании свидания Касарес сам проводил полковника до дверей приемной, что делал крайне редко. Они попрощались как самые лучшие друзья. Министр, видимо, остался доволен беседой.
Когда Сиснерос вновь вошел к министру, то Касарес поучительно сказал ему:
– Ягуэ – безупречный военный, я уверен: он никогда не предаст республику. Ягуэ дал мне честное слово военного верно служить ей, а такие люди, как Ягуэ, выполняют своя обещания. На его слово можно положиться.
***
Фаланга тем временем в Испании поднимала голову…
Как только победил «Народный фронт», консервативно настроенные генералы стали готовить переворот… Особо этого не скрывая…
Мне было известно, что во главе заговора стоит эмигрировавший в Португалию генерал Санхурхо, пытавшийся свергнуть республику еще в 1932 году. Но помилованный тогда и отпущенный…
Позже стало известно, что реальное руководство подготовкой осуществлял генерал Эмилио Мола Видаль – псевдоним «Директор».
Большую роль играл также подавитель октябрьского восстания – Франко.
Уже в марте ко мне поступили первые тревожные сведения и по требованию коммунистов, правительство тоже наконец «заметило» подозрительные приготовления и провело кадровые перестановки, которые ослабили позиции заговорщиков, но не остановили их конспираций.
События следовали одно за другим с удивительной быстротой.
Фашисты перешли к открытому насилию, организуя покушения и уличные беспорядки.
Явно чувствовалось намерение реакции спровоцировать народ, столкнув его лицом к лицу с жандармерией и армией.
Так называемые «силы порядка» продолжали щедро субсидировать группы наемных убийц.
Фашисты совершали покушения не только на таких видных республиканских деятелей, как магистр Педрегал, преподаватель университета Хименес де Асуа или адвокаты Ортега и Гассет, но даже на продавцов левых газет.
Причем правительство не принимало никаких мер, чтобы пресечь эти преступления и наказать подстрекателей и исполнителей, хотя их знала вся Испания.
Каждый раз после очередного, совершенного фалангистами убийства правые газеты с наглым цинизмом обвиняли во всем анархию, ответственность за которую якобы несет Народный фронт.
Однажды утром ко мне приехал Сиснерос и сообщил, что только что в военное министерство прибыл генеральный директор Управления безопасности и принес плохие вести.
Он привёз список с фамилиями четырнадцати военных-республиканцев.
Из них Сиснерос запомнил Фараудо, Кастильо, Морено, Гонсалеса Хила и свою, под четвертым номером.
Оказалось, что несколько дней назад этот список попал в руки полиции. Там не обратили на него особого внимания, так как в Управлении безопасности имелось много подобных списков с именами республиканцев, которым правые угрожали расправой.
Однако в данном случае дело оказалось значительно серьезнее.
В то утро около своего дома выстрелом в спину был убит капитан Фараудо.
С ним расправились только за то, что он был республиканцем. Его имя фигурировало первым в этом списке.
Напряжение в Мадриде достигло предела.
Редкий день мы не получали сообщений, что восстание назначено на такой-то день.
Партии и организации Народного фронта срочно мобилизовывали своих членов, устанавливали ночные дежурства.
С огромными усилиями, несмотря на сопротивление военного министра, нам все же удалось поставить на наиболее важные посты верных республике военных.
К сожалению, офицеров-республиканцев, на которых можно было бы полностью положиться, не хватало.
Среди офицеров было много колеблющихся. Я лично опасался, что большинство из них примкнет к восставшим.
Каждый раз, когда поступали сведения о дне начала восстания, а такие сообщения приходили ежедневно, мы… коммунисты… организовывали по ночам службу специального наблюдения. Все это страшно утомляло и выматывало нас.
С каждым днем дебаты в кортесах становились всё более ожесточенными.
Я занимал место на дипломатической трибуне, откуда наблюдал за горячими спорами депутатов.
Однажды Сиснерос предупредил меня, что предстоит особенно бурное заседание.
Действительно, в тот вечер я стал свидетелем, пожалуй, самых интересных дебатов в кортесах того созыва.
Первым говорил Хиль Роблес – один из главарей реакции, которого безоговорочно поддерживала церковь. Он защищал предложение, выдвинутое правыми.
Я всегда испытывал к нему личную антипатию. Но в тот памятный день после его циничных и наглых обвинений в адрес Народного фронта я почувствовал ненависть и презрение к этому политикану, так бесстыдно искажавшему факты.
Затем выступил Кальво Сотело. Он яростно нападал на Народный фронт, приписывая ему преступления, совершенные правыми и фалангой.
Меня особенно поразила та часть его выступления, где он хвалил НКТ-анархические профсоюзы.
В своей речи премьер Касарес дал отпор Кальво Сотело, обвинив его в антиреспубликанской деятельности.
И наконец, от коммунистов выступила пламенная Долорес Ибаррури.
Её внешность производила на всех сильное впечатление. Она была по-настоящему привлекательна. Её простая, но сделанная со вкусом прическа подчеркивала тонкие и правильные черты лица.
Долорес Ибаррури была женственна и в то же время производила впечатление энергичного человека.
Коммунисты вновь удивили всех…
У Долорес был исключительно приятный голос, и говорила она свободно и легко.
Её выступление, четкое и ясное, простой и понятный язык произвели в конгрессе большое впечатление.
В своей речи Долорес Ибаррури упрекала правительство в пассивности перед лицом открытого наступления реакции. Приведя множество доказательств и неоспоримых фактов, свидетельствовавших о неминуемости восстания, она прямо обвиняла его в попустительстве заговорщикам.
Я почувствовал прилив сил и энергии. Слова Долорес Ибаррури совпали с моими мыслями о положении в стране.
Выступление Долорес Ибаррури было самым сильным.
После окончания заседания в баре конгресса к нам присоединился Хиль Роблес.
Он очень хвалил Ибаррури, но все же не удержался, чтобы не высказать свою антипатию к коммунистам.
– Очень жаль, – сказал Хиль Роблес, – что такая талантливая и выдающаяся женщина находится в рядах коммунистической партии…
На что Долорес только величественно усмехнулась…
А 11 июля фалангисты захватили с оружием в руках радиостанцию и призвали к вооруженным действиям против правительства.
Как мне доложили, Примо де Ривера удалось прямо из тюрьмы сообщить ещё одному военному заговорщику Моле, что Фаланга активно поддержит военный переворот.
Особенно тревожным был отстрел фалангистами тех офицеров «штурмовой гвардии» – «асальто», которые придерживались левых взглядов.
Штурмовая гвардия создавалась как внутренние войска, и от её позиции зависело, можно ли совершить военный переворот.
Убийства офицеров выглядели, как зачистка «асальто» от левых – непосредственная прелюдия к перевороту.
Чашу терпения гвардейцев-республиканцев переполнило убийство лейтенанта Хосе дель Кастильо 12 июля 1936 года.
Гибель лейтенанта стала звеном трагической цепи политической «вендетты». Когда 14 апреля в президентскую трибуну была брошена бомба, возникла сумятица.
Кому-то из охраны показалось, что офицер направил пистолет на президента, и несчастный гвардеец был убит.
Его хоронили 16 апреля, и, хотя политические симпатии покойного не были связаны с Фалангой, та превратила похороны в свою демонстрацию протеста. Фалангистов поддержала молодежная организация СЭДА, ведомая Рамоном Серрано Суньером, что немаловажно, свояком генерала Франко.
Левые шли по другую сторону похоронной процессии, и две колонны обменивались выстрелами.
Это был такой себе вялотекущий уличный бой – предвестник будущей гражданской войны.
«Асальто» не пускали демонстрантов фаланги на кладбище, и здесь тоже развернулась схватка между фалангистами и гвардейцами.
Тогда погибло не менее 12 человек, в том числе двоюродный брат Примо де Риверы-младшего. Его-то и застрелил лейтенант Кастильо.
Самого Кастильо застрелили у ворот его дома 12 июля.
Известие об убийстве лейтенанта Кастильо взволновало страну. Все ждали наказания убийц и организаторов этого преступления. Несколько солдат из «Гвардиа де асальто», подчиненных Кастильо и обожавших его, видя, что правительство бездействует, возмущенные его пассивностью, решили сами свершить правосудие и отомстить за своего любимого командира.
И вот 13 июля… выехав из казармы на броневике, они захватили Кальво Сотело – одного из главарей заговорщиков, которого считали ответственным за смерть лейтенанта и за сотни других преступлений, совершенных пистолерос. На следующий день 14 июля труп Сотело нашли на одном из мадридских кладбищ.
Смерть Кальво Сотело еще больше накалила обстановку в стране.
Правые организовали мощную демонстрацию, превратив его похороны в смотр своих сил.
Напрасно я метался между левыми и правыми и опровергал распространившийся слух, что Кальво «заказали» коммунисты или правительство…»
«Штурмовые гвардейцы левых отомстили правым за убийство своего офицера» – кричали заголовки газет и естественно мне никто не верил…
Даже испанские коммунисты с подозрением на меня стали смотреть… видимо не понимая – Чего это я так пекусь за какого то «правого экстремиста»?
– Ну даже если это и мы его убили?, – задала мне вопрос Долорес.
Я только пожал плечами и отправился к президенту Испании – Асаньи.
От него я потребовал немедленного независимого расследования, дабы предотвратить эскалацию, которая могла вылиться в реальную гражданскую войну.
Президент Асанья меня искренне заверил, что делается всё возможно…
И действительно… вскоре выяснилось, что хоть среди убийц и были члены ОСМ, но инициатор убийства – капитан Кондес, действовал по собственной инициативе.
Он хотел также убить и бывшего президента – Хиля Роблеса, но того не оказалось дома.
Убийство Кальво Сотело вызвало взрыв возмущения в правых кругах, но результаты расследования охладили пыл правых.
Как позже я выяснил, в это время военные заговорщики уже всё подготовили к перевороту.
Убийство Кальво и всплывшая правда никак не изменила их планов, но предоставило моральный козырь.
Политическая напряженность и непримиримость нарастали с каждым днем, с каждым шагом обоих лагерей.
Это касается как «левых», так и «правых».
Я с сожалением констатировал факт, что Народный фронт воспринимался правыми как готовое рухнуть «прикрытие анархизма и коммунизма». Выступая в парламенте, Хиль Роблес говорил: «Страна может жить при монархии и республике, с парламентарной и президентской системой, при коммунизме или фашизме, но страна не может жить при анархии. Сейчас, однако, Испания находится в состоянии анархии. И мы сегодня присутствуем на церемонии похорон демократии».
В ответ на мои тревожные телеграммы, из Москвы и даже от Коминтерна, приходили убаюкивающие ответы в том ключ, что «без паники… всё под контролем». Я догадывался, что источником такого спокойствия являлись сообщения от испанских коммунистов, которые в большинстве своём не видели опасности. И сами открыто говорили, что только и ждут повода, чтобы раздавить всех правых… и начать настоящую Революцию, – «как в России в 17-м».
При этом я отмечал, что накал страстей со стороны правых… удивительным образом не соответствовал той умеренности проводившихся правительством преобразований.
Массовые настроения искусственно «накручивались», радикализировались идеологической элитой… как с права, так и с лева…
Возможность победы политических противников рассматривалась обеими сторонами, как катастрофа.
Умеренная политика правительства либералов-центристов уже не соответствовала глубине социального кризиса, – по моему мнению.
Чтобы развеять свои предчувствия надвигающейся трагедии, я отправился снова к президенту Испании, господину Асаньи.
Тот меня незамедлительно… впрочем как всегда… принял…
За чашкой ароматного кофе мы вели с ним интеллектуальный диспут.
Я выложил перед ним всем известные факты и сказал, что считаю удачным поводом убийство Кальво Сотело 13 июля для запуска уже подготовленного заговора правых.
Асанья покачал отрицательно головою и сказал: «Уважаемый Серж, если в октябре 34-го переворот правых был почти обречен на успех, то в нынешних условиях почти всё против: власть находится у нас…, а армия разобщена как никогда».
Я ему возразил: «Господин Президент, в своем стремлении приукрасить ситуацию Вы забывает, что в октябре 1934 года правые и так находились у власти, так что трудно было бы тогда увлечь консервативное офицерство на борьбу против Республики Лерруса и Хиля Роблеса. Переворот… по моему мнению назрел именно сейчас, потому что теперь у генералов типа… Франко, Молы и их единомышленников появилось что ненавидеть, чего бояться и что жаждать ниспровергнуть».
Так ни к чему и не придя… мы пожелали Республике процветания и каждый при своём мнении так и остался…
И вот… почти уже вечером 17 июля … как гром среди ясного неба… прозвучали слова: «переворот начался». Вернее, радиостанция мятежников из марокканской Сеуты передала условную фразу-сигнал к началу общегосударственного мятежа: «Над всей Испанией безоблачное небо». Позже выяснилось, что генерал Мола так же направил своим сторонникам телеграмму «17 в 17. Директор». Так в пять вечера переворот начался.
Мне тут же всё это доложил взволнованный Жора, узнавший об этом от своих коллег маркони-коротковолновиков, которые обслуживали тут других наших советников.
– Восстали части, расквартированные в испанской колонии Марокко, – коротко он сообщил.
Во второй половине следующего дня 18 июля 1936 года мне позвонил капитан Варела, секретарь премьер-министра, и попросил срочно явиться в министерство – в Мелилье началось восстание.
Когда я вошел в приемную, министр шутил с адъютантами по поводу событий в Марокко.
Дон Сантьяго Касарес, глава правительства и военный министр, не придал столь тревожному известию должного значения.
Как выяснилось, он настолько недооценивал это сообщение, что, получив телеграмму о начавшемся восстании в десять часов утра, вспомнил о ней лишь в конце трехчасового очередного заседания кабинета. Тогда он вскользь передал её содержание министрам.
Сомнений не оставалось – восстание в Мелилье явилось условным сигналом к нападению на республику.
Сведения, поступавшие с разных концов страны, были тревожными.
Сообщения о положении в провинциях были противоречивы. Мелилья находилась в руках мятежников, но о Сеуте и Тетуане ничего конкретного в военном министерстве не знали.
А уже 18 июля мятеж распространился на материковую Испанию.
Армия брала под контроль ключевые центры испанских городов.
По поступающим с мест сведениям быстро выяснилось, что на стороне мятежников оказались 80–85% офицеров.
Днём 18 июля мятежный генерал Гонсало Кейпо де Льяно, имевший репутацию либерала, неожиданно захватил власть в центральном городе южной Испании – Севилье.
Вскоре в городе начались ожесточённые бои между мятежниками и республиканцами.
Несмотря на мои предупреждения, начало мятежа военных оказалось для правительства неожиданностью и дезорганизовало его работу.
Я снова срочно выехал в военное министерство… Там не было ничего, что стояло бы на своем месте. Все было в хаосе.
Касерес, – премьер министр и военный министр, был в состоянии коллапса, неспособным принимать решения.
Я потребовал от имени коммунистов вооружить народ.
Касерес категорически воспротивился раздаче оружия сторонникам Народного фронта.
– Но без их поддержки путчисты имеют очевидный перевес, – попытался я аргументировать.
Кто-то тут же попытался представить мятеж «восстанием против ситуации, которую считали невыносимой не только правые, но также и политики левого толка».
– Милое такое оправдание попытки уничтожения Республики и избиения республиканцев тем, что им самим многое не нравилось в политической ситуации, – ответил я.
Военный министр совершенно переменился. С его лица исчезло ироническое выражение, появлявшееся обычно всякий раз, когда ему говорили об угрозе восстания.
Чувствовалось, что он понял свою ошибку и готов исправить её, но не знает, как это сделать.
Видя, что Касарес пал духом, Нуньес де Прадо взял командование в свои руки. С согласия кабинета министров он начал действовать смело и решительно.
Я всегда был высокого мнения о Нуньесе де Прадо, но только ночью того страшного дня – 18 июля – в полной мере оценил его способности. В то трудное время этот человек оказался просто незаменимым.
Его энергия и хладнокровие подняли настроение у присутствовавших, павших было духом, глядя на растерявшегося премьера Касареса.
Увидев в Нуньесе де Прадо человека, способного трезво оценить обстановку и возглавить борьбу против врагов республики, все охотно подчинились ему.
Я уже знал, что Нуньес де Прадо провел несколько лет в Марокко, командуя туземными войсками.
Положение там больше всего беспокоило генерала, кроме того, он думал, что его присутствие в Марокко поможет республиканцам, поэтому он решил немедленно отправиться туда на самолете.
Касарес и все мы одобрили решение Прадо.
Однако, как стало известно, мятежные части Иностранного легиона совместно с отрядами марокканских войск захватили марокканский Тетуан и уже расстреляли там нескольких республиканских военных.
Приказ об их расстреле, как и о расстреле их командира майора Пуэнте Баамонде, как мы позже узнали, отдал его двоюродный брат генерал Франсиско Франко, прилетевший на английском самолете с Канарских островов, чтобы возглавить мятеж.
Естественно, Нуньесу де Прадо пришлось отменить свой полет.
Продолжавшие поступать к нам сведения о положении в Республике были по-прежнему неясными и противоречивыми.
Ясно было, что Марокко оказалось в руках мятежников.
Нуньес де Прадо позвонил командующему военным округом Сарагосы генералу Кабанельясу.
Прадо считал его преданным республике человеком и всегда говорил, что их связывает крепкая дружба.
После их разговора, Прадо сказал нам, что Кабанельяс, как будто бы колеблется, поэтому он воспользуется самолетом, приготовленным для полета в Тетуан, и отправиться в Сарагосу, рассчитывая повлиять на генерала.
Нуньес де Прадо вылетел в Сарагосу в сопровождении своего адъютанта майора Леона и секретаря.
Как стало позже известно, прибыв туда, он немедленно отправился к Кабанельясу. Через некоторое время в кабинет этого предателя вошло несколько военных в сопровождении фалангистов.
С согласия Кабанельяса они арестовали Нуньеса де Прадо, посадили в машину и вывезли за город.
Там фашисты убили его, бросив труп на дорогу, где он пролежал более недели.
Такая же участь постигла адъютанта и секретаря Нуньеса де Прадо и всех членов экипажа его самолета. Их тоже убили, а трупы бросили на шоссе.
Мы это узнали уже потом…
В этот же вечер мой друг Сиснерос разговаривал при мне по телефону с генералом Кампинсом, военным губернатором Гренады.
Они немного дружили… Со слов Сиснероса, этот генерал был довольно консервативных взглядов и пользовался большим авторитетом в армии.
В течение нескольких лет он командовал Иностранным легионом, снискав уважение за свою прямоту.
Имелись опасения, что и он присоединится к мятежникам.
Разговаривая с ним, Сиснерос не решался прямо спросить о том, как он относится к происходящим событиям, но тот прервал его, сказав: «Оставьте дипломатию, Сиснерос. Вы хотите знать, примкнул я к мятежникам или остался верен республике? Знайте и передайте министру, что я своей честью поклялся верно служить республике и выполню данное обещание».
Генерал Кампинс не изменил своему слову. Однако, как мы узнали позже, на следующий день мятежники схватили и подло убили его.
На рассвете 20 июля в военное министерство стали поступать первые сообщения о начале мятежа в войсках мадридского гарнизона.
Мы создали три небольшие колонны, во главе которых стали лейтенанты Эрнандес Франк, Хосе Мария Валье и унтер-офицер механик Соль Апарисио. К нам присоединились 40 человек – членов Союза социалистической молодежи и коммунистической партии. Они тоже получили винтовки. Общее командование взял на себя капитан Каскон.
Незадолго до рассвета, когда мятежники стали вывозить пушки на позиции, мы начали штурм их казармы.
Казарма была взята, все офицеры арестованы, в том числе полковник, командир полка, и отправлены в мадридскую военную тюрьму.
В тот день впервые в гражданской войне армия и героический народ Мадрида, самоотверженно защищавший республику, выступили вместе.
Действовавшая с нами группа мадридских рабочих замечательно проявила себя, продемонстрировав огромное чувство ответственности.
Они полностью доверились офицерам и добровольно повиновались им.
После взятия казарм, артиллерийскому полку был отдан приказ выступить вместе со своими пушками в Мадрид.
В это же утро артиллерийский полк в полном боевом порядке продефилировал по улицам Мадрида под приветственные крики народа.
Последним редутом мятежников в Мадриде стала казарма Монтанья.
Генерал Фанхуль поднял там мятеж. Казармы Монтанья находились к западу от центра Мадрида.
Однако люди окружили путчистов и сначала просто своей массой преградили войскам путь к центру столицы.
Укрепившиеся там – восставший полк и значительная группа фалангистов оказали довольно упорное сопротивление.
Республиканские силы, атаковавшие казарму, состояли в основном из народных дружин.
Они были очень плохо вооружены; часть из них включилась в борьбу стихийно, другие откликнулись на призыв своих партий и профсоюзов.
В осаде казармы участвовала также небольшая группа жандармов из «Гвардиа де асальто» и военных, присоединившихся к народу.
Поскольку не было общего руководства операцией, наступление велось беспорядочно, то мятежники нанесли республиканцам значительный урон. Наконец удалось договориться о совместных действиях всех групп.
Атака должна была начаться бомбардировкой с воздуха. Первая же бомба попала во двор казармы, и это решило исход боя. Тотчас же в окнах появились белые флаги. Республиканцы ворвались в здание.
Восстание в столице было подавлено.
Народ Мадрида выиграл первую битву с фашистами.
Затем часть мадридцев на автобусах и автомобилях двинулись на Гвадалахару, чтобы не дать мятежникам выйти в тыл к Мадриду.
Наступавшие с севера мятежники были отброшены и остановлены в горах Гвадаррамы.
Во время этих боев в Мадриде и на подступах к нему сформировалась анархистская колонна во главе с Сиприано Мера, рабочим-строителем и соратником Дуррути еще по восстанию в Сарагосе в 1933 году.
В это раннее утро со мной произошел довольно неприятный случай, едва не окончившийся трагично.
Я вышел в четыре часа утра из военного министерства и, сев в машину, один отправился в ЦК Компартии Испании, чтобы сообщить последние новости.
На Гран Виа мою машину остановил патруль из четырех человек с черно-красными анархическими повязками на шеях.
Они открыли дверцу и в упор нацелились в меня из ручного пулемета.
Один из них, видимо очень довольный добычей, не отводя пистолета от моей груди, игривым тоном предложил мне выйти из машины.
Я мгновенно осознал серьезность положения: эти люди были убеждены, что к ним в руки попал один из переодетых офицеров-фашистов.
При малейшей оплошности с моей стороны они, не колеблясь, расстреляют меня.
Стараясь казаться совершенно спокойным, я похвалил их за бдительность.
Это польстило им, однако они продолжали держать свои пистолеты у моей груди.
Затем я сказал, что являюсь советским гражданином, сейчас направляюсь в отель «Палас», где расположился наш штаб для руководства действиями, поэтому не могу терять времени. Если они хотят удостовериться – могут поехать со мной.
Видимо, мое предложение их не особенно привлекло, но тем не менее целиться в меня они перестали.
По выражению их лиц было видно, что им не хочется отпускать меня.
Но они уже начали колебаться. Воспользовавшись их замешательством, я сел в машину и как можно более непринужденно сказал, что больше ждать не имею возможности.
Пока они спорили между собой, я включил мотор, дав себе клятву никогда не ездить одному по ночам.
В первые дни после начала мятежа в Мадриде фактически не было никакой власти.
Поэтому не следует удивляться подобным происшествиям, которые, кстати, не всегда оканчивались благополучно.
Реакция, воспользовавшись растерянностью руководителей республики, всячески старалась опорочить действия республиканцев и оправдать то, что не подлежит оправданию, а именно хладнокровно совершаемые фашистами убийства.
Убийства с ведома и одобрения их главарей и открыто присоединившихся к ним епископов.
Пассивное, неспособное противостоять натиску реакции, правительство Касареса окончательно потеряло авторитет и было вынуждено подать в отставку.
Новым премьером был назначен лидер правой либеральной партии «Республиканский союз» – Диего Мартинес Баррио.
Откровенно правого направления, правительство уже в своем первом заявлении не скрывало намерения пойти на компромисс с мятежниками.
Он попытался по телефону договориться с Молой о прекращении мятежа и образовании правительства из представителей… как и левых, так и правых партий.
Однако Мола это предложение отверг, а среди Народного фронта попытка пойти на компромисс с мятежниками вызвала негодование.
Все отлично понимали: это значило отдать Испанию без малейшего сопротивления фашистам.
Возмущенные офицеры-республиканцы спрашивали меня, – что нужно делать, чтобы не допустить такого позора?
Люди, так решительно ставшие на сторону республики, сражавшиеся за неё и готовые, не жалея жизни, продолжать борьбу, не могли понять происходящего.
Они готовы были решительно воспрепятствовать торгу с мятежными генералами.
Я полностью поддерживал их. Но, не желая подливать масла в огонь – все мы и без того находились в страшном возбуждении, – старался успокоить самых горячих и выиграть время, чтобы выяснить обстановку.
По телефону мне удалось связаться с Альварес дель Вайо. Я разыскал его в редакции газеты «Эль сосиалиста». Там только что получили известие об отставке правительства. Всеобщее недовольство и протест, сказал он, вынудили Мартинеса Баррио подать в отставку.
Третьим за сутки главой правительства стал левый либерал Хосе Хираль.
В его кабинет снова вошли либералы, каталонские националисты и военные, оставшиеся верными Республике. Ни коммунисты, ни социалисты в правительство не вошли по требованиям своих Интернационалов, – третьего и второго соответственно.
Перед зданием военного министерства и помещениями, занимаемыми партиями и профсоюзами, выстроились огромные очереди людей с профсоюзными билетами в руках.
Они требовали оружия для защиты республики.
Хираль, по моему совету, таки санкционировал раздачу оружия республиканцам.
Под давлением масс правительство Хираля приняло решение вооружить народ Мадрида.
Попытка военных положить конец правлению «левых» привела к немедленному контрудару со стороны профсоюзов и социалистических партий, которые только и ждали повода для драки – несмотря на предупредительные призывы из-за границы…
Они обеспечили мобилизацию общества и позднее добились раздачи оружия народу.
В Мадриде и Барселоне некоторое количество оружия у левых было они ждали только повода для развертывания революционных действий.
Первые же сведения о выступлении военных включили организационную машину НКТ на полную мощность.
Из «заначек» вынимали столько оружия, сколько было, но его не хватало.
Сразу же после путча 17 июля Гарсия Оливер прислал мне послание, где говорилось: «в Барселоне мы только и делаем, что считаем и пересчитываем ружья, пистолеты и патроны, которыми мы располагали… но их мало и больше нет».
Я ответил коротко: «Оружие нужно брать силой»
В ночь на 18 июля отряды НКТ стали захватывать оружие на военных складах и брать под контроль улицы Барселоны.
Но тут против них выступила каталонская национальная гвардия. Дело чуть не дошло до сражения между анархистами и каталонскими республиканцами. Но мятеж правых примирил их.
Утром 19 июля мятежники вышли из казарм и двинулись в центр Барселоны. С севера двигалась колонна из казарм Педраблес, с юга из казарм Атарасанас. Солдатам объяснили, что в Барселоне начался мятеж анархистов.
Северная колонна дошла до площади Каталунья и заняла телефонную станцию.
Анархисты бросились штурмовать её, и выбили мятежников.
После того, как факт военного мятежа стал очевиден, Женералитат прекратил сопротивление анархо-синдикалистам.
Извечный их враг национальная гвардия перешла на сторону отрядов НКТ. Фактически анархо-синдикалисты возглавили сопротивление перевороту в Каталонии и Арагоне.
В своём послании мне Дуррути заявил: «Нет времени на разговоры. Мы должны действовать. Мы не хотим становиться жертвами фашизма из-за паралича политиков. С этого момента НКТ и ФАИ будут направлять борьбу».
Все эти сведения, что стекались ко мне из разных источников, я тут же передавал в Центр.
Там сильно заволновались, узнав о мятеже анархистов… испугавшись его больше чем мятежа генералов.
Я вынужден был откровенно ответить: «Думаю, что если бы анархисты не выступили на улицу, то в эту хозяевами Испании могли бы стать фашисты».
В течение нескольких часов рабочие Барселоны были вооружены.
Это событие имело большое значение, так как решительным образом изменило соотношение сил в Каталонии.
Но в Сарагосе рабочие не смогли захватить оружие, и этот оплот анархизма перешел под контроль мятежников.
В Барселоне анархисты и республиканцы теснили мятежников.
С мест пришло сообщение: «Офицеры, командовавшие мятежом в Барселоне, были неспособны что-либо поделать с революционной неортодоксальностью своих противников… второе артиллерийское подразделение, например, было окружено колонной вооруженных рабочих, которые наступали с ружьями, поднятыми вверх, и «энергичными словечками», призывали солдат не стрелять. Затем они убедили войска повернуть оружие против своих офицеров».
В эти дни именно Барселона стала центром борьбы.
Туда прибыл один из вождей заговора генерал Годед. Он обосновался в порту близ казарм Атарасанас.
Но он ничего не мог поделать – рабочие напирали со всех сторон.
Северная колонна была разбита. Порт был взят, Годеда схватили и заставили его выступить по радио.
Генерал униженно просил своих товарищей по мятежу прекратить борьбу и сдаться республике.
После этого выступления Годеда расстреляли.
Некоторое время пулеметчики мятежников поливали огнем подступы к казармам. Но к ночи 20 июля все было кончено.
При штурме казарм погиб знаменитый анархист, соратник Дуррути – Франсиско Аскасо.
Всего погибло около 500 человек.
Центральные улицы города были завалены трупами, но в Барселоне был праздник. Улицы Барселоны перешли в руки вооруженных рабочих, в большинстве своем членов НКТ.
Вечером 20 июля из Барселоны пришло сообщение: «День завершался славно, в блеске огней, в революционном опьянении ото дня народного триумфа… Буквы НКТ и ФАИ начертаны на всех стенах, на каждом здании, на всех дверях, домах и автомобилях, на всем… Это тот момент, когда власть по настоящему попала в руки масс. Мы в НКТ не думали делать революцию в это время, мы просто защищали себя, защищали рабочий класс».
Анархо-синдикалисты еще не воспринимали происходящее как социальную революцию, но уже взяли в свои руки реальную власть.
Там, где рабочие уже 17–18 июля получили оружие, силы мятежников встретили энергичное сопротивление.
Обобщив всю информацию первых дней мятежа, я отправил в Москву послание следующего содержания: «В целом первые дни борьбы против фашистского мятежа стали для НКТ (анархистов) героическим периодом. В условиях полного развала госаппарата и абсолютной беспомощности всех политических партий, кроме КПИ, местные организации НКТ, обладавшие известным опытом вооружённой уличной борьбы и способностью к самостоятельным инициативным действиям, смогли сравнительно эффективно противостоять локальным выступлениям фашистов, а также осуществить первоначальные задачи революции».
В Валенсии докеры-анархисты вывели массы рабочих на центральные площади и стали требовать оружие. Очаги мятежа были задавлены в зародыше.
В Толедо вооруженное население загнало мятежников в замок Алькасар. «Красная» Астурия была отрезана мятежом от Мадрида. Власть в этом регионе перешла к губернатору Томасу – одному из вождей восстания 1934 года и многопартийному комитету.
В правительстве… несмотря на свою беспомощность… пытались преуменьшить значение народного восстания, о котором я им рассказывал, как о примере социальной революции.
Мне там было сказано: «Да, конечно, в городах массы немедленно занимали улицы, бросались против мятежников и играли очень яркую роль. Но за этим красочным и призывным образом скрывается тот факт, что рядом с этими импровизированными дружинами, не имевшими специальных навыков и не знакомыми с тактикой боя, сражались хорошо подготовленные офицеры, отряды и службы безопасности гражданская и штурмовая гвардия и авиация. Победа над мятежниками там, где она имела место, была обусловлена прежде всего действиями этих подразделений, хотя и не стоит пренебрегать вспомогательной и моральной ролью масс».
Я вынужден был согласиться с этим доводом. Действительно… Республиканские «асальто», конечно, не имели бы шансов остановить армию самостоятельно…
– Но вооруженные массы не просто сыграли «моральную роль», они обеспечили моральный перелом и численный перевес, который удержал часть гвардейцев и войск от присоединения к мятежу, – сказал я.
– Кстати, в Гранаде, где такого давления не было, «асальто» выступили против Республики, – вставил я шпильку чиновнику и добавил:
– Что касается навыков городского боя, то у «асальто» их столько же, сколько и у боевиков левых организаций, которые стали авангардом милиции. Так что факт остается фактом – июльские сражения в Мадриде и Барселоне выиграла милиция при поддержке военных, оставшихся верными Республике. А не наоборот…
Тем временем события нарастали со скоростью снежного кома…
Я метался по всему Северу Испании, где особенно непонятной мне была обстановка…
Шахты Астурии… традиционно… как уже было тут не раз за последние годы… перешли в руки советов, в которые входили представители администрации предприятия и рабочих.
Рядом защищалась страна Басков, сохранившая более консервативный уклад. «Баски – добрые католики и хранители национальных традиций», – так охарактеризовала мне их астурийка Долорес Ибаррури, пламенная испанская коммунистка, первый заместитель Генсека КПИ.
Как по мне, баски – типичные националисты-сепаратисты. Но выходить из состава Испании они не стали, хотя и выбрали себе свою власть.
Выборы правительства и президента, некого Хосе Антонио Агирре проводились в Гернике под вековыми деревьями баскских королей.
Поскольку баскская буржуазия была настроена против франкистов, а франкисты видели в баскском национальном капитале одного из своих основных врагов, то в Басконии не получила развитие революция самоуправления, и старая администрация продолжала управлять предприятиями.
Выходило так, что весь северо-запад Испании оказался в руках врагов Республики.
Уличные столкновения на юге в Севилье не стихали более недели, но Кейпо де Льяно в итоге сумел жестоко подавить выступления сторонников Народного фронта и удержал город в своих руках.
Взятие Севильи и соседнего Кадиса позволило мятежникам создать в южной провинции Андалусия надёжный плацдарм.
Однако кроме Севильи мятеж завершился успехом только в ещё двух крупных испанских городах – Овьедо в Астурии и Сарагосе в Арагоне.
Во многом этому помогло то, что там путч возглавили генералы Мигель Кабанельяс и Антонио Аранда, которые подобно Кейпо де Льяно считались лояльными к республике.
Однако Овьедо вскоре был окружён республиканцами, и мятежникам пришлось приложить немало усилий, чтобы деблокировать своих сподвижников.
В «кольце» или «полукольце» оказались путчисты и во многих других взятых ими под контроль городах: Толедо, Кордове, Гранаде, Хаке, Теруэле, Уэске и так далее.
Заняв Сарагосу, один из центров анархистского движения, которое, однако, не смогло захватить оружие, мятежники рассекли территорию Республики надвое.
Но и очаги мятежа также еще были разделены республиканской территорией, часть его сил действовала в окружении.
К 20 июля стало ясно, что на большей части территории страны вооруженный народ смог блокировать и разгромить мятежные части.
Восставшая часть армии и отряды фалангистов не могли обеспечить военный перевес над многочисленной милицией республиканцев.
Флот и авиация Испании в своем большинстве поддержали республику. Основные силы мятежников могли быть блокированы республиканским флотом в Марокко.
Правительство поддержала подавляющая часть ВМС Испании: линкор «Хайме I», 3 крейсера: «Либертад», «Мигель Сервантес», «Мендес Нуньес», 16 эсминцев, все субмарины – всего 27 судов.
На сторону мятежников перешли 17 судов, но затем матросы на многих судах, не знавшие о мятеже и исполнявшие приказы восставших, узнав о нём, арестовали или уничтожили сочувствовавших путчу офицеров и вернулись на сторону республики.
У путчистов в распоряжении остались лишь линкор «Эспанья», 2 строящихся крейсера «Балеарес» и «Канариас», 2 лёгких крейсера, эсминец и 4 канонерки. Почти полностью отказались принимать участие в путче и ВВС Испании.
Это делало для мятежников крайне затруднительной переброску надёжных войск из Марокко в Испанию.
В Испании оставалось три небольших очага мятежа.
В разгар событий в авиакатастрофе как то странно погиб Санхурхо.
Казалось, что попытка переворота кончится полным провалом…
Командование мятежниками взяла на себя учрежденная 23 июля Хунта во главе с генералом Мигелем Кабанельясом.
Фактически руководство мятежом все в большей степени переходило к командующему Африканской армией Франко, который сосредоточил в своих руках контакты с Германией и Италией.
Должен сказать, что странной гибель руководителя путча была для многих, но только не для меня и генерала Пабло, – как «скромно» тот предпочитал чтобы его называли. Это был наш советник. Я ему раскрыл свои предчувствия скорых событий и он вызвался… в случае чего… решить вопрос с Санхурхо…
Африка была дальше португальского Лисбона, по-нашему Лиссабона. И поэтому генерал Франко остался пока жив.
На расширенном совещании в кортесах, чиновники из правительства отчитывались о ситуации.
Как раз один из них бравым голосом говорил:
«В ходе восстания мятежная территория разделилась на три части, каждая из которых находится под командованием уважаемого генерала, и существует риск ослабляющего соперничества. Мола, как кажется, не отличается особыми лидерскими амбициями, но, возможно, они есть у Кейпо. На этом фоне успех рискованных маневров Франко поставил его выше обоих генералов в плане престижа и влияния… и в плане фактического командования. Кроме того, Италия и Германия уже обратили на него внимание…»
Для меня лично имя Франко не было пустым звуком… Моё подсознание давно говорило мне об опасности данного персонажа. Но, как и в случае с Гитлером, тут нельзя было действовать заранее… так как на смену «безвременно ушедшего» мог прийти ещё худший персонаж.
Франко, по моему мнению, был одним из многих лидеров мятежников… и среди них оказался тем, кто сразу понял необходимость связать судьбу движения с фашистскими державами.
Роль внешних союзников мятежа, как я уже знал на все 100%, окажется ключевой – гражданская война в Испании становится частью международной борьбы.
В своём официальном послании советник немецкого посольства в Мадриде Швендеман сообщал 23 июля в Берлин: «Развитие обстановки в начале мятежа… отчетливо свидетельствует о растущей силе и успехах правительства и о застое и развале у мятежников».
С посланником я был «на короткой ноге», и он считал меня своим человеком, так что текст послания был мне известен. Он со мною советовался на этот счёт…
От Риббентропа я узнал, что 25 июля Гитлера достигло письмо Франко с мольбой о поддержке.
Такое же послание ушло и к Дуче…
Там не долго колебались … Германия и Италия протянули руку помощи мятежникам в этот критический для них момент.
28 июля транспортные самолеты стали перебрасывать мятежные войска из Марокко в Испанию.
Авиационное прикрытие позволило Франко переправить часть сил и по морю. Республиканский флот при этом действовал нерешительно.
Москва же хранила гробовое молчание.
На меня и на моих товарищей из СССР стали смотреть с подозрением…
Многочисленные коммунистические бригады так и не вступили в борьбу.
Военные советники, которые фактически руководили этими силами, пожимали плечами и ссылались на приказ: «Не вмешиваться во внутренние дела Испании!»
Я прекрасно понимал такую позицию Сталина, а именно он и только он мог отдать такое указание.
Нужно отдать должное, что кроме косых взглядов испанских товарищей дело не шло.
В официальной риторике они поддерживали позицию СССР по невмешательству. Так как прекрасно понимали, что это может вызвать открытую интервенцию со стороны… как минимум Италии.
Благодаря мероприятиям, проведенным генералом Нуньесом де Прадо, 80 процентов самолетов осталось в руках Республиканцев.
Это дало возможность быть полными хозяевами в воздухе, пока над Испанией не появились военные самолеты, присланные Гитлером и Муссолини.
Вначале эти самолеты использовались для прикрытия перевозок по морю и переброски на полуостров из испанского Марокко отрядов мятежников.
Созданная Франко на базе Иностранного легиона и регулярных марокканских войск армия насчитывала более 20 тысяч человек.
Вместе с несколькими немецкими и итальянскими самолетами она в первое время составляла основную силу фашистов.
Однако позже Гитлер и Муссолини прислали в помощь Франко и свои воинские части.
Прибывать в Испанию немецкие и итальянские самолеты стали с первого же дня мятежа.
Немцы летели без посадки, а итальянцы делали две остановки – в Алжире и французской зоне Марокко.
Так, 18 июля в Алжире для пополнения запаса горючего были вынуждены приземлиться два прекрасно вооруженных итальянских военных самолета, направлявшихся в Испанское Марокко. Об этом писали почти все французские газеты.
Через несколько дней немецкий транспортный самолет «Юнкерс-52», везший оружие мятежникам, по ошибке совершил посадку на мадридском аэродроме Барахас.
Экипаж обнаружил свою оплошность, когда самолет уже приземлился.
Летчик быстро развернул машину и поднял её в воздух, взяв направление на Португалию.
Однако вскоре у немцев кончилось горючее, и пилоту пришлось вновь посадить самолет на нашей территории, где он вместе с экипажем попал в руки республиканцев.
Уже на следующий день республиканцы подготовили этот «Юнкерс-52» для бомбардировки фашистов, но германское посольство, поддержанное представителем Франции, заявило протест, и испанское правительство запретило использовать этот самолет.
Он стоял на аэродроме до тех пор, пока не был уничтожен во время бомбардировки эскадрильей «Юнкерсов-52.
Экипаж захваченного самолета был освобожден по приказу правительства.
Об истории с «Юнкерсом-52», который, израсходовав бензин, приземлился на территории Испанской республики и был конфискован её правительством, мне стало тоже всё досконально известно.
Германский поверенный в делах Ганс Фелькерс рассказал мне, как он, явившись по приказу Гитлера к Августо Барсия – министру иностранных дел Испании, потребовал у того немедленного освобождения самолета.
Через час после того, как Фелькерс вышел из кабинета испанского министра, Барсия посетил французский поверенный в делах, имея инструкцию министра иностранных дел Франции Дельбоса просить испанское правительство немедленно удовлетворить требование Гитлера.
Разговаривая в частной беседе об этих фактах с послом Соединенных Штатов Клодом Бауэрс тот сказал мне:
– Да, мистер Козыреф… неприятный инцидент… он не оставлял никаких сомнений в скором прибытии в Испанию итальянских фашистов.
Вскоре произошёл ещё один случай… Самолеты, посланные Муссолини мятежникам во исполнение предварительных договоров, были вынуждены приземлиться в Северной Африке на французской территории.
Расследовать это происшествие правительство Франции послало генерального инспектора французской авиации генерала Денена. По его сообщению, самолеты вылетели из Сардинии, имея пунктами назначения Мелилью и Сеуту, уже находившиеся в руках мятежников… и поэтому были отпущены…
Я привел эти случаи в своём донесении в Москву, чтобы дать представление о том, с каким цинизмом с первого же дня мятежа действовали нацистские дипломаты в Испании, и об атмосфере, созданной правительствами так называемых демократических стран вокруг Испанской республики.
Через своих дипломатических представителей они в столь трудное для республики время оказывали нажим на законное правительство Испании, заставляя его подчиняться наглым требованиям Гитлера и Муссолини.
Тем ни менее… все тут были убеждены, что, прилагая максимальные усилия, они смогут подавить восстание в течение нескольких дней или, самое большее, недель.
Эта ошибочная оценка положения в стране отчасти имеет оправдание. Тут все знали о прибытии самолетов из Италии и Германии, но не допускал мысли, что эти страны непосредственно вмешаются в их войну.
Они посылали на помощь мятежникам целые эскадрильи истребителей и бомбардировщиков. Таким образом уже вскоре силы восставших в количественном отношении значительно превышали силы Республики.
Я не мог также предполагать, что так называемые демократические государства будут препятствовать законному правительству дружественной страны приобретать необходимые для её обороны средства.
Что такая страна, как Франция, во главе правительства которой стоял лидер социалистической партии Леон Блюм, откажется продать им оружие, нарушив не только законы международного права, но и договор с Испанской республикой, одна из статей которого предусматривала покупку у французов вооружения и военных материалов. Что «демократические» в кавычках страны позволят многочисленным эскадрам Германии и Италии, их подводным лодкам с первых же дней войны так нагло действовать в поддержку мятежников, нападая на суда, направляющиеся в республиканскую зону, и обстреливая различные пункты на побережье, а португальский диктатор Салазар предоставит в распоряжение Франко все имеющиеся у него средства.
Иначе говоря, строя расчеты на быстрое подавление мятежа, тут никто никогда и не думал, что республика, законно установленная в Испании, вынуждена будет вести борьбу не только против мятежных генералов, но и против таких мощных государств, таких как Германия и Италия.
Все тут надеялись, что, приложив максимальные усилия, они в короткий срок смогут сами подавить мятеж.
И это … возможно… случилось бы, если бы республиканцев оставили один на один с мятежниками.
***
С момента моего возвращения из Лондона, где я укрепил свои связи с Риббентропом, наш с ним обмен посланиями участился.
Риббентроп писал мне обо всём на свете…
Так, например, я знал, что он в начале лета этого 1936 года с семьей находился на лечении в Бад-Вильдунгене.
Там он получил приглашение от Гитлера на ежегодный Вагнеровский фестиваль в Байройте. Риббентроп писал мне, что до этого никогда еще не бывал там и очень обрадовался возможности провести в этом городе несколько прекрасных дней.
К сожалению для него, пишет он, их пребывание в Байройте не ограничилось лишь наслаждением столь любимой им музыкой Рихарда Вагнера.
Удовольствия побыть вместе с женой в тиши виллы «Мирные грезы» со всеми её достопримечательностями, напоминающими о несравненном маэстро, – как он красочно выразился, – его лишил Гитлер.
Едва прибыв в Байройт, Риббентроп получил известие о возникшем в Испании серьезном положении и услышал о намерении Адольфа Гитлера принять сторону генералов, поднявшего восстание против мадридского правительства левого направления.
На следующий день, как писал мне Риббентроп, он посетил фюрера, который разместился во флигеле этой виллы.
Он принял Риббентропа довольно предупредительно, и сразу же перешел к разговору об Испании, сказав ему, что генерал Франко запросил самолеты, чтобы по воздуху перебросить войска из Африки в Испанию и начать военные действия против коммунистов.
Риббентроп приводит в письме свой ответ ему: «для нас было бы лучше не влезать в испанские дела. Там нас не ждут никакие лавры, и, по моему убеждению, Испания для нас – дело весьма опасное».
– Ясное дело, – подумал я, прочитав это, – после моей ему информации и сообщении из Германского посольства… о полном развале дела у мятежников…
Своё мнение Риббентроп пояснил Гитлеру тем, что он боится новых осложнений с Англией, поскольку там германское вмешательство, без сомнения, будет рассматриваться как очень нежелательное.
Гитлер же, как пишет Риббентроп, категорически придерживался противоположного мнения. Он разъяснил ему, что Германия ни в коем случае не потерпит существования коммунистической Испании. Его долг национал-социалиста – сделать все, дабы не допустить этого. Он уже распорядился, чтобы самолеты были предоставлены в распоряжение Франко.
Здесь Риббентроп в письме указал, что он снова увидел, что и в данном случае мировоззренческие компоненты все же были решающими во всём Гитлера мышлении.
Все его повторные возражения Гитлер отбросил. Он заявил: в конечном счете в испанской гражданской войне решается вопрос, удастся ли Советам прочно забрать в свои руки одну из западных стран – глава мадридского правительства – человек Москвы, и от Франко поступили сообщения, согласно которым преобладающая часть оружия, имеющегося у Республики, получена от Советской России.
– Муссолини, – писал Риббентроп, – тоже относится к Франко позитивно.
В Берлине считают, что между мадридским правительством и французским Народным фронтом Леона Блюма существуют теснейшие связи.
Как я знал, Леон Блюм, это французский политический деятель, лидер социалистической партии. В июне этого 1936 года возглавил правительство, опиравшееся на Народный фронт.
– Фюрер, – пишет далее Риббентроп, – дословно сказал следующее: «Если создать коммунистическую Испанию действительно удастся, то при нынешнем положении во Франции, большевизация и этой страны тоже всего лишь вопрос времени, ну а тогда дела Германии плохи! Оказавшись заклиненными между мощным советским блоком на Востоке и сильным франко-испанским блоком на Западе, мы вряд ли сможем еще что-нибудь предпринять, если Москве вздумается выступить против Германии».
Далее Риббентроп, пишет, что лично он видит вещи в другом свете. Особенно в том, что касается Франции. Он считает, что французская буржуазия все-таки достаточно сильная гарантия против окончательной большевизации этой страны. Он сказал это фюреру.
– Но, – как далее написал Риббентроп, – ему было бесконечно трудно противостоять его идеологическим принципам, которых, как считал Гитлер, он не понимает.
На новые его возражения, Гитлер реагировал довольно нервозно и резко оборвал разговор, сказав, что он решение уже принял.
– Речь видимо идет о совершенно принципиальном вопросе, и здесь моего чисто реально-политического мышления недостаточно, – констатировал Риббентроп.
– Со времени появления крупного социального вопроса нашего века, – писал далее Риббентроп, – текущую политику следует подчинять этой принципиальной проблеме, иначе однажды внешняя политика зайдет в тупик. В данном случае проявилось то политическое расхождение с Адольфом Гитлером, которое неоднократно уже возникало у него во внешнеполитической области.
В следующем своём послании Риббентроп сообщил мне… между прочим… «…чтобы получить самолеты, Франко сначала обратился к Герингу. Гитлер дал свое согласие, и это решение уже вызвало между Англией и Германией новые трудности».
Далее Риббентроп сообщил мне совершенно потрясающую новость… Когда на следующий день он снова был вызван к Гитлеру, тот совершенно неожиданно для Риббентропа объявил о его назначении статс-секретарем министерства иностранных дел и поздравил его с этим назначением. Он сказал ошарашенному Риббентропу: «Я только что говорил с министром иностранных дел фон Нейратом, и тот с этим согласен».
Риббентроп приписал, что прежний статс-секретарь министерства иностранных дел Бернгард Вильгельм фон Бюлов умер в июне.
– Фюрер, надеется, что мы хорошо сработаемся, – далее пишет Риббентроп.
Сам он поблагодарил Адольфа Гитлера за оказанное ему доверие.
– Затем, – как сообщает Риббентроп, – фюрер перевел разговор на тему о вакантности поста германского посла в Англии ввиду смерти фон Хёша и спросил у него, – кого надобно послать в Лондон?
В связи с этим у них возникла продолжительная беседа о германо-английских отношениях.
Фюрер пожелал узнать, – как Риббентроп расценивает шансы на достижение взаимопонимания с Англией?
Риббентроп пишет, что исходя из совершенно трезвых соображений, он сказал Гитлеру, что не считает эти перспективы в настоящее время хорошими. Однако, судя по тому, что он слышал, король Эдуард VIII отнюдь не настроен недружественно к Германии. При той огромной любви, которой он пользуется у английского народа, можно полагать, что взаимопонимание было бы достижимым, если бы король поддержал идею германо-английской дружбы, хотя обычно британский суверен оказывает на политику своего правительства влияние небольшое.
Гитлер весьма скептически высказался насчет того, что изначально отстаивавшаяся им идея союза с Англией остается как-либо осуществимой.
– Мне стало ясно, – пишет Риббентроп, – насколько важное значение имеет точное представление фюрера о ситуации в Англии и возможности её изменения, поскольку он, несмотря на все сомнения, все ещё стремился к взаимопониманию с нею.
Поэтому Риббентроп высказал мысль: «не будет ли наиболее правильным послать его в Лондон послом, а не назначать статс-секретарем министерства?» Идея эта так понравилась Гитлеру, – пишет Риббентроп, – что он тут же ухватился за неё и сказал, что целиком согласен.
Договорились, что в течение одного дня они вполне спокойно обдумают этот вопрос, а затем будет принято окончательное решение.
На следующий день они решили, что эту попытку следует предпринять.
Затем фюрер пригласил к себе министра иностранных дел рейха – господина фон Нейрата и сообщил ему, что желает послать Риббентропа в Лондон.
– Это решение, как сказал фон Нейрат, он нашел особенно удачным, – пишет Риббентроп. Оказалось, министр тоже считал весьма важным окончательное выяснение германо-английских отношений.
Риббентроп далее пишет, что со всей определенностью снова сказал Гитлеру: шансы на союз с Англией невелики, скорее надо рассчитывать на противоположный результат, но, несмотря на это, он еще раз попытается сделать все возможное для достижения этой цели.
Далее Риббентроп сказал Гитлеру, что сам он достаточно хорошо знает англичан, чтобы совершенно трезво и объективно сообщать ему о британском отношении к данному вопросу. В остальном же многое, естественно, зависит от дальнейшей германской политики.
Риббентроп, с его слов, недвусмысленно высказал мнение, что Англия… во всяком случае как можно судить по имевшемуся до сих пор опыту… будет держаться за свой тезис о равновесии сил и противодействовать им, если убоится, как бы Германия не стала сильной.
Таким образом, – резюмировал Риббентроп, его пребывание в Байройте оказалось гораздо больше посвящено политике, чем ему хотелось.
– Итак, дорогой Серж, я отправляюсь послом в Лондон!, – заканчивал своё послание Риббентроп восклицательным знаком.
В приписке он сообщил: «Хотя я и настроен скептически, но поставленная передо мной задача действительно радует меня: может быть, все-таки еще есть возможность достигнуть этой великой цели!»
В след за этим письмом, пришло следующее… В нём он написал: «Нам пришлось провести в Байройте еще один день, занимаясь всевозможными делами, в частности надо было разослать приглашения на приём в саду под открытым небом, который я устраиваю у себя в Далеме в связи с начинающимися 1 августа в Берлине Олимпийскими играми».
К письму прилагалось официальное приглашение на этот приём для Специального посланника НКИД СССР Козырева Сергея.
***
Тем временем в Кремле…
Сталин с интересом читал донесения из охваченной огнём Испании…
По данным РазведУпра РККА на стороне мятежников оказалось около 50 000 солдат, на стороне Республики около 22 000, в том числе около 10 000 офицеров. Основная часть из которых в первые дни бежала и с республиканцами осталось только около 1 000 офицеров.
Из 10 000 карабинеров – около 4000 остались верны республике.
Большинство военнослужащих авиации – 3000 против 2000, флота – 13 000 против 7 000, гражданской гвардии – 18 000 против 14 000, «асальто» – 12 000 против 5 000, поддержали республику.
В мятеже сразу приняли участие около 14 000 карлистов и до 50 000 фалангистской милиции.
Самая грозная сила врагов Республики – Африканская армия – 32 000 хорошо по испанским меркам подготовленных бойцов – находилась в Марокко.
Из-за отсутствия офицерского состава старые военные части, оставшиеся на стороне Республики, были дезорганизованы и не могли активно действовать. Республиканская армия формировалась на ходу.
Основу новой армии Республики составила милиция – ополчение гражданских людей, которые впервые держали винтовку в руке.
Козырев так описывает формирование милиции в Мадриде: «Группа мужчин – членов клуба любителей домино – решает вступить в народную милицию и избирает своим начальником секретаря клуба – так как он хорошо знает всех членов клуба и лучшего игрока в домино – так как все восхищены его талантом.
Парикмахеры пригорода Мадрида тоже хотят вступить в милицию и избирают руководителем одного из парикмахеров за то, что у него есть брат в армии, а он сам награжден золотой медалью. То обстоятельство, что медаль выдана ему за стрижку, не имеет для них значения.
Обе группы направляются в военное министерство и выясняют, что там все очень заняты и их не ждут.
Тогда они решают отправиться на войну самостоятельно – идут в помещение политической партии или профсоюза, к которым принадлежат некоторые из них и получают винтовки, а может быть, и несколько пулеметов…
Потом они садятся в какой-либо транспорт и едут на войну».
Однако, Сталин, прошедший свою гражданскую, понимал, что при всей комичности этой картины, в поведении республиканцев была своя мудрость. Времени на мобилизацию и обучение не было. Если человек хорошо знает сослуживцев – он и командир.
Затем «военная демократия» милиции позволяла выбрать новых командиров, которые будут в большей степени соответствовать обстановке.
Проблема республиканцев, – по мнению Сталина, – заключалась ещё и в том, что «испанцы, не имея опыта мировой войны, как они тут в России в 17-м… не имеют в массах старых солдат с боевым опытом».
Также, как отмечали советские военные специалисты, «народ в Испании, несмотря на сравнительно развитую культуру и образованность, весьма беззаботен и безалаберен, большая экспансивность, но выдержки нет никакой, быстро воспламеняется, но столь же быстро поддается упадническим настроениям».
Борьба с мятежом там сопровождалась актами насилия и вандализма, такими характерными для гражданских войн.
Сталин и это прекрасно понимал и помнил по своему опыту нашу Гражданской…
Вся ненависть, накопившаяся у низов к старой Испании, вышла наружу. Бойцы левых движений… в основном анархистов… и просто уголовные элементы, убивали офицеров и священников, жгли церкви, которые были символом идеологического деспотизма предыдущих веков.
По словам писателя Эренбурга, «люди мстили за гнет, за оброки и требы, за злую духоту исповедален, за разбитую жизнь, за туман, века простоявший над страной. Нигде католическая церковь не была такой всесильной и такой свирепой».
Когда Эренбург сказал своему попутчику, что не нужно было сжигать церкви – в таких хороших зданиях можно было бы устроить что-нибудь полезное, например клуб, тот возмутился: «А вы знаете, сколько мы от них натерпелись? Нет уж, лучше без клуба, только бы не видеть это перед глазами!..»
По мнению других свидетелей испанских событий: «это были акции протеста, потому что церкви не были в глазах людей тем, чем они должны были быть. Разочарование человека, который верил и любил, и был предан».
Однако великолепные центральный собор Барселоны и монастырь Педраблес были сохранены, так как революционеры признали их художественную ценность.
Сталин, как бывший семинарист, близко к сердцу принял эти строки…
В донесении также сообщалось, что сразу по окончании боев в Барселоне, ФАИ, то есть анархисты, принялась бороться против террора с помощью таких, например, воззваний: «Если безответственные лица, которые распространяют по Барселоне террор, не остановятся, мы будем расстреливать каждого, кто будет уличен в нарушении прав людей».
Несколько активистов НКТ – профсоюз анархистов, были расстреляны за самоуправство.
В донесении указывалось, что самочинные расстрелы и убийства у республиканцев к августу прекратились.
Страсти были охлаждены, стала работать республиканская юстиция, гораздо осторожнее применявшая «высшую меру».
Пленные франкисты и активисты правых партий … особенно Фаланги, содержались в лагерях и тюрьмах.
Условия содержания были лучше, чем у франкистов.
Республика наказывает за расстрелы заключенных, предпринимаются систематические меры к облегчению их участи.
Зато в это время набирал силу франкистский террор на мятежных территориях.
К этому времени всю власть у мятежников прибрал к рукам генерал Франко, – как отмечалось в донесении.
«К стенке» там ставят не только сторонников социализма или анархизма, но даже и людей, известных как просто республиканцы.
Так, мятежниками был расстрелян известный испанский поэт Гарсиа Лорка.
У франкистов расстрелы заключенных стали обычной практикой.
Далее в донесении говорится: «Сразу становится ясно, что франкистский террор был навязан сверху, с высшего уровня руководства. Для начала кровавые расправы над республиканскими массами и их элитой были предопределены мозговым центром заговора, генералом Эмилио Молой. Он установил террор без промедления…. тем не менее, это было ничто по сравнению с той формой, в которой ведёт военные действия генерал Франко. Он увидел в войне блестящую возможность стереть с лица земли испанских левых, – неисправимых в своих грехах…, – как он говорил».
Республиканское же насилие, – как хорошо понимал Сталин, – в основе своей было следствием крушения государственного аппарата.
Но оно не долго длилось, хоть было впечатляющим, о чем свидетельствует факт убийства 6 тысяч церковников.
Однако республиканское правительство с самого начала пыталось его сдерживать. И ему это удалось.
Ведь террор сдерживало не только республиканское государство, но и общество, которое взяло на себя задачи рухнувшего государственного аппарата.
Далее Сталин перешёл к читке различных просьб от советских специалистов и советников, находящихся в Испании.
Общую их канву он уже знал: «оружие и боеприпасы».
Но имелись также призывы отдать приказ и нашим бригадам, которые там в тайне были сформированы, – вступить в бой.
На всём этом Сталин своим размашистым почерком вывел: «Отказать».
Лишь на одной просьбе он написал: «Согласен».
Это Козырев просил разрешения посетить Берлин, где открывалась Олимпиада, а Риббентроп к тому же давал приём в честь его назначения послом в Лондон.
– Нужно продемонстрировать Гитлеру моё расположение, – подумал Сталин.
Глава 3
Получив разрешение Москвы, я тут же отправился из Мадрида рейсовым самолётом немецкой авиакомпании «Люфтганза» в Берлин.
По дороге была посадка в Барселоне…
Самолет коснулся земли, чуть подпрыгнул и покатился по зеленому кочковатому лугу.
Навстречу бежали и приветственно размахивали руками люди. Тяжелый густой зной опалил глаза, стиснул мне горло.
Здесь на лётном поле, как и в Мадриде… соседствуют и фактически смешались военная авиация с гражданской, испанская с иностранной.
Прямо от самолета меня отвели в павильон начальника военно-воздушных сил Каталонии.
В изящном павильоне тесно, толчея, на широких диванах отдыхают лётчики, на столах навалены карты, фотоаппараты, оружие.
Ординарец беспрерывно обносит всех напитками и кофе.
Прямо против двери начальника, полковника Сандино, поставлена стойка импровизированного бара, перед ней на высоких табуретах, со стаканами в руках, галдят пилоты и механики. – Всё как и на мадридском … да и на любом испанском аэродроме…, – подумал я.
Сам полковник Фелипе Сандино, каталонский военный министр и начальник авиации, небольшого роста седоватый человек в синей блузе с закатанными рукавами, в кабинете не сидит, а бродит, довольно оторопело, по всему павильону, заговаривает то с одной, то с другой группой людей, пробует сосредоточиться, вникнуть в карту, которую ему подносят, но его сейчас же отвлекают другим разговором, он переходит к другому человеку.
Я передал ему привет от его товарища Сиснероса.
Он обрадовался, но извинился за свою занятость. Но авто мне всё же выделил… Я хотел воспользоваться возможностью съездить в город… пока будут заправлять и обслуживать наш самолёт и обедать пассажиры.
Внезапно кто-то шлёпнул меня по плечу… Я обернулся и узнал в «обидчике» Мишу Кольцова…
Оказалось, что он сюда прибыл из Москвы, вслед за Эренбургом, освещать события…
Тут же он напросился ко мне в попутчики до города…
Машина промчалась из Прата, где аэродром, в Барселону.
При выезде из Прата, через дорогу, огромное полотнище: «Виска Сандино!» – по-каталонски: «Да здравствует Сандино!».
Миша крутит головою на все 360 градусов… ему тут всё в диковинку…
Всё чаще попадаются баррикады на шоссе – из мешков с хлопком, из камней, из песка.
На баррикадах красные и черно-красные знамена, вокруг них вооруженные люди в больших остроконечных соломенных шляпах, в беретах, в головных платках, одетые кто как или полуголые.
Одни подбегают к нам, спрашивают документы, другие просто приветствуют и машут винтовками.
На некоторых баррикадах кушают – женщины принесли обед, тарелки расставлены на камнях, детишки в промежутке между ложками супа ползают по бойницам, играют патронами и штыками. – Такая картина по всей Испании…, – в который раз комментирую я ошеломлённому Кольцову.
И чем ближе к городу, с первыми улицами предместий, мы вступаем в «поток раскаленной человеческой лавы, неслыханного кипения огромного города, переживающего дни высшего подъема, счастья и безумства», – как метко описал всё это мой друг.
– Была ли она когда-нибудь такой, как сейчас, празднующая свою победу, неистовая Барселона?, – воскликнул Миша восторженно.
Всё сейчас тут, как и в Мадриде, было наводнено, запружено, поглощено густой, возбужденной людской массой… «Всё всколыхнуто, выплеснуто наружу, доведено до высшей точки напряжения и кипения», – ярко и красочно сказал об этом мой московский друг.
С трудом продвигаемся в сплошной толчее, среди молодежи с винтовками, женщин с цветами в волосах и обнаженными саблями в руках, стариков с революционными лентами через плечо, среди портретов Бакунина, Ленина и Жореса, среди песен, оркестров и воплей газетчиков, мимо свалки со стрельбой у входа в кино, мимо уличных митингов и торжественного шествия рабочей милиции, мимо обугленных развалин церквей, пестрых плакатов…
Беспрерывно движется по улицам и густой поток автомобилей…
Это сборище машин всех марок, большей частью новые, дорогие, роскошные машины.
Они все исписаны белой масляной краской, огромными кривыми буквами по кузову и по крыше: названия разных организаций и партий или просто лозунги.
Краска тяжелая, крепкая, несмываемая, – исписанную так машину её бывший владелец не сможет без полной перекраски вернуть в частное своё пользование.
В машинах выбиты и прострелены стекла, текут радиаторы, сорваны подножки… некоторые украшены цветами, бусами, лентами, куклами.
В машинах ездят все, возят всё… они скопляются на перекрестках, на площадях, сшибаются друг с другом, ездят по левой стороне, – это озорной праздник вырвавшихся на свободу автомобилей, – комментирует Кольцов.
– Такие же процессы происходят по всей Испании… и Мадрид с Барселоной не исключение…, – говорю я в который раз Мише, когда он в очередной раз раскрывает рот от удивления.
Все большие здания и тут тоже уже заняты, реквизированы партийными организациями и профсоюзами.
Анархисты взяли отель «Риц». Другой громадный отель, «Колумб», занят Объединенной социалистической партией.
В десяти этажах «Колумба» ноев ковчег комитетов, бюро, сборных пунктов, комиссий и делегаций. Сильно напоминает мне Смольный в 17-м, каким я его видел в кино про Революцию.
По лестницам тащат тюки газет, связки оружия, арестованных, корзины винограда, бутылки с оливковым маслом.
Между взрослыми бегают и играют в пятнашки дети, – их оставляют на день родители, несущие караульную службу в милиции. Здесь работают и спят. Кроме каталонцев и испанцев много иностранных лиц и голосов.
Немец приводит в порядок склад оружия, американки устроили санитарную службу, венгерцы сразу занялись любимым делом – создали пресс-бюро, стучат на восковках и крутят на ротаторе информационный бюллетень на пяти языках, итальянцы смешиваются с испанской толпой, но чувствуют себя старшими.
Рабочие приводят в отель «Колумб» захваченных фашистов. Им объясняют, что этим должна заниматься республиканская полиция. Но они этого не понимают и уходят, оставив пленников, их бумаги, их золото, бриллианты и пистолеты.
«Сегуридад» – управление безопасности, не торопится принимать арестованных – так при комитетах всех партий образовались маленькие кустарные полиции и тюрьмы.
На втором этаже «Колумба» военный отдел. Здесь формируют рабочие отряды для взятия Сарагосы.
– Записывается много молодежи, но есть и старики. Уже отправлено пять тысяч человек. Не хватает винтовок, – мне говорят, а город ими наводнен.
– Такая же картина и в Мадриде…, – говорю я Мише, с огорчением.
На бульварах все гуляют с винтовками. За столиками кафе сидят с винтовками. Женщины с винтовками. С оружием едят, с ним ходят смотреть кинокартины, хотя уже есть специальный декрет правительства – оставлять винтовки в гардеробе под номерок.
– Рабочие получили в руки оружие – они не так легко отдадут его, – сказал со знанием дела Кольцов, который прошёл нашу гражданскую.
По улицам проходят похоронные процессии, призывают живых продолжать борьбу.
Вслед за похоронами несут растянутые одеяла и простыни – публика щедро швыряет в них серебро и медь для помощи семьям убитых.
Но, несмотря на оружие и ежечасные беспорядочные стычки и перестрелки, в городе нет озлобления.
Атмосфера скорее взвинченно-радостная, лихорадочно-восторженная.
Ещё длится столь неожиданный и столь заслуженный триумф уличных боев народа с реакционной военщиной.
– Безумство храбрых, дерзость рабочей молодежи, пошедшей с карманными ножами на пушки и пулеметы и победившей, гордость своей пролитой кровью наполняет огромный пролетарский город упоением и уверенностью, – восторженно говорит Миша.
– Да, верно, – соглашаюсь я, – все преклоняются перед «человеком с винтовкой», все льстят ему. В кафе и кабачках отказываются брать с него деньги.
– Лучшие артисты поют для него на бульварах, тореадоры обнимаются с ним на перекрестках, элегантные звезды кабаре и кино дразнят его прославленными своими ногами, они не жалеют цветных каблуков в танцах на асфальтовой мостовой, они серебристо смеются соленым остротам портовых грузчиков, – описывает виденные нами картины Миша.
– Такова романтика любой Революции… её «медовый месяц»…, – соглашаюсь я.
Затем, оставив Мишу Кольцова на попечение местного хозяина города и главаря всех анархистов – Дуррути, который был рад меня видеть, я убыл назад на Аэродром.
Вернувшись, я на скорую перекусил у полковника Сандино в его павильоне в Прате.
За столом было шумно, говорят по-испански и по-французски. Сандино сказал, что пока все идет отлично. Сегодня республиканцы взяли остров Ибицу. Теперь Мальорка зажата с двух сторон – с Ибицы и с Менорки.
Валенсийцы собрали, за свой счет и своими людьми, экспедицию для занятия Мальорки. Там держится около тысячи человек мятежников.
Под Сарагосой республиканцы ждут подкреплений. Как только отряды из Барселоны подойдут, можно будет штурмовать город.
Этим Арагонский фронт будет ликвидирован.
Конечно, неправильно называть его фронтом. Никаких сомкнутых фронтов здесь, в Испании, пока нет.
Есть отдельные разобщенные города, в которых держатся либо правительственная власть и комитеты Народного фронта, либо восставшие офицеры.
Сплошной линии фронта между ними нет. Даже телефонная и телеграфная связь кое-где работает по инерции – мятежные города разговаривают с правительственными.
Подробно говорить мне с ним не довелось – всё время нас прерывали, поднимали тосты и ссорились.
Я только спросил у Сандино, – есть ли единоначалие и кому подчинены все военные силы? Он ответил, что единоначалие уже есть, что в Каталонии все вооруженные силы подчинены ему, Сандино, а об общих вопросах он договаривается с Мадридом.
На этом мы с ним попрощались, и я продолжил свой полёт в сторону столицы третьего рейха…
В Берлине меж тем разразилась настоящая олимпийская горячка.
Город был украшен множеством флагов, и сотни тысяч туристов заполонили его улицы и площади.
Как сообщили мне в нашем полпредстве, где я остановился, в городе работало более восьмидесяти театров, ночные клубы были забиты битком, а в кино с аншлагом шли такие фильмы, как «Траумулус» с Эмилем Яннингсом, «Новые времена» Чарли Чаплина и незабываемая «Бродвейская мелодия».
Тогда я еще не подозревал, какие человеческие трагедии разыгрывались за кулисами этой суматохи и блеска.
Первого августа 1936 года настал великий час – открытие Олимпийских игр в Берлине.
В шесть часов утра я были готов к старту.
Программа первого дня Игр была грандиозна: торжественное вступление делегаций на стадион, прибытие бегуна с факелом, приветственная речь Гитлера, сотни взлетающих в небо голубей, сочиненный Рихардом Штраусом гимн. А вечером у меня был ещё и приём у Риббентропа…, которому я сразу по прибытии вчера послал весточку и благодарность за билеты в правительственное ложе на олимпийском стадионе, которые меня дожидались в полпредстве СССР в Берлине.
Чтобы везде успеть, я поднялся рано утром и отправился прямиком на стадион…
И не прогадал… Там я встретил известную мне Лени Рифеншталь… с которой мы были шапошно знакомы, видясь пару раз на приёмах у Гитлера.
Видимо что-то про меня ей говорила наша общая подруга – Ольга Чехова, так как несмотря на занятость, она уделила мне внимание…
– Вы представляете, Серж, чтобы все это охватить, мы дополнительно задействовали еще 30 кинокамер, – затараторила она с энтузиазмом. Затем она поведала мне, что саму церемонию открытия будут снимать шестьдесят операторов.
Большую проблему представляли собой два звукозаписывающих аппарата, которые из-за нехватки места пришлось прикрепить канатами к парапету трибуны дая почетных гостей.
Канатами были привязаны также оператор и его помощник, они могли стоять лишь с внешней стороны парапета.
Когда мы с ней переходила от одного оператора к другому, чтобы Лени дала им последние инструкции, её вдруг позвали.
Взволнованный сотрудник кричал: – Эсэсовцы пытаются снять оба звукозаписывающих аппарата!
Она в испуге побежала к трибуне для почетных гостей. Я пошёл за ней, так как у меня там было место.
И действительно, там какие то люди уже начали развязывать канаты.
Я увидел выражение отчаяния, написанное на лице оператора. Лени не оставалось ничего иного, как встать перед аппаратом, защищая его своим телом.
Эсэсовцы объяснили ей, что они получили приказ рейхсминистра Геббельса, отвечающего за порядок размещения почетных гостей на трибуне.
В гневе Лени заявила им, что распоряжение ей дал лично фюрер и аппараты должны оставаться на своих местах.
Эсэсовцы неуверенно переглянулись. Тогда Лени им сказала, что останется до тех пор, пока не начнутся Игры… они, в растерянности пожимая плечами, покинули трибуну.
Я же пошёл занимать своё место, опасаясь, что его могут занять.
Прибыли первые почетные гости, в основном иностранные дипломаты. Трибуна и ярусы стали заполняться.
Тут появился Геббельс. Когда он увидел Лени и её аппараты, в его глазах от злости засверкали молнии.
Он закричал: – Вы с ума сошли! Вы разрушаете всю картину церемонии. Убирайтесь немедленно, чтобы вас и ваших камер духу не было!
Дрожа от страха и возмущения, Лени в слезах пролепетала: – Господин министр, я заблаговременно попросила разрешения у фюрера – и получила его. Больше нет другого места, где можно было бы записать его речь при открытии Игр. Это историческая церемония, которая обязательно должна быть в фильме об Олимпиаде.
Геббельса это нисколько не убедило, он продолжал кричать: – Почему вы не поставили камеры на другой стороне стадиона?
Лени пролепетала, что это технически невыполнимо. Слишком велико расстояние.
– Почему вы не построили вышки возле трибуны?, – не унимался министр пропаганды рейха.
– Мне не разрешили, – почти плача ответила Лени.
Казалось, Геббельс вот-вот лопнет от злости. В этот момент на трибуну для почетных гостей взошел генерал-фельдмаршал Геринг… как всегда нарядный… в белой парадной форме.
А я подумал: – Для посвященных в этой встрече была особая изюминка. Многие знали, что они терпеть не могут друг друга.
Насколько я понял… Лени особенно не повезло из-за того, что именно Геббельс отвечал за размещение почетных гостей на трибуне, – и, как назло, у места, которое он оставил для Геринга, – одного из лучших в первом ряду – стояли её камеры и заслоняли собой вид.
Чтобы оправдаться перед Герингом и продемонстрировать свою невиновность, Геббельс стал кричать ещё громче на Лени.
Тут Геринг поднял руку – министр пропаганды замолчал, после чего Геринг повернулся к Лени и ласковым тоном сказал: – Да не плачь ты, девочка. Я уж как-нибудь умещусь.
Тут я понял, что не совсем стоит верить письмам Ольги про отношения Лени с боровом…
Фюрер еще не прибыл, но многие гости были свидетелями этой неприятной сцены.
С этого момента всего меня без остатка поглотила феерия первого дня Игр…
Я следил как за стадионом, так и за поведением Гитлера… котрого хорошо видел со своего места…
Самое сильное впечатление на Гитлера произвело неистовое торжество берлинцев, когда французская команда вступила на Олимпийский стадион. Она прошла мимо почетной трибуны Гитлера, подняв руки в приветствии и тем самым вызвала стихийный восторг многих зрителей.
Но Гитлер, как мне показалось, уловил в продолжительных аплодисментах голос народа, в котором была слышна тоска по миру и взаимопониманию с соседней западной страной.
Если я правильно понял то, свидетелем чего я тогда стал, это торжество берлинцев его скорее обеспокоило, чем обрадовало…
А вечером, сменив обычный костюм на положенный фрак, я отправился на дипломатический раут к новоиспечённому послу…
Ради справедливости следует отметить, что посол становится послом только после принятия от него верительных грамот в стране его миссии. Но для нацистских выскочек это были мелочи и чествование обещало быть громким…
Я и на раут прибыл раньше всех, дабы иметь возможность перекинутся с Риббентропом парой слов… ну и конечно при приветствии я уже его назвал «ваше превосходительство посол», чем вызвал у того на лице широчайшую улыбку.
Он тут же затараторил:
– Дорогой Серж… Очень рад… Голова кругом с этим приёмом… Из одного только Лондона ожидается чуть ли не нашествия моих друзей.
Затем я узнал от него, что дал своё согласие прибыть лорд Монселл, с которым он заключал военно-морское соглашение.
Пожелали присутствовать также лорд Ротермир, лорд Бивербрук и другие видные деятели английской прессы.
Были приглашены все его друзья… он ожидал и личных гостей из Парижа, Италии, из всех европейских стран, а также из Америки.
Тут я заметил, что спортивные соревнования служат весьма благоприятным поводом для установления контактов с влиятельными личностями из самых различных лагерей.
– Да, вы правы Серж…, – согласился Риббентроп, – к моей, радости приняли приглашение и сэр Роберт Ванситтарт с супругой, – шепотом сообщил он, видимо, чтобы не сглазить.
Но вот стали прибывать гости и Риббентроп, извинившись, побежал встречать следующих…
Поскольку дом Риббентропа в Берлинском пригороде Далеме был не слишком вместительный для такого наплыва гостей и попросту оказался тесен, талантом неизвестного для меня устроителя торжеств, небольшой сад был превращен в праздничный луг.
Над газоном и теннисным кортом был натянут тент, и при вечернем освещении все это выглядело весьма эффектно: прекрасная трава, которой всегда гордятся ценители английских газонов, усеянный кувшинками плавательный бассейн, великолепные рододендроны и празднично накрытые столы.
Позже я узнал от Риббентропа, что это его жена Анна-Лиза превзошла самое себя.
На приеме по случаю открытия Олимпийских игр, так звучало официально название этого мероприятия, на ужин собралось около 600 гостей.
С немецкой стороны присутствовали в числе других Геринг и Гесс со своими женами.
Почетными гостями наряду с иностранными были так же члены Олимпийского комитета и дипломатический корпус.
Однако не обошлось и без небольшого недоразумения: в течение нескольких минут Риббентропу и его жене пришлось полностью изменить размещение за столом нескольких сотен гостей.
Дело в том, что президент Олимпийского комитета граф Байе-Латур совершенно неожиданно появился не одни, а с супругой, между тем как протокольный отдел немецкого МИДа ошибочно посчитал, что графини в эти дни нет в Берлине.
– Тот, кто разбирается в протокольных вопросах на приемах, знает, что означает такое изменение в самый последний момент, – посочувствовал я в мыслях хозяевам.
Поскольку в первой половине этого дня было объявлено о назначении Риббентропа послом в Лондоне, это заранее придало вечеру определенное германо-английское звучание, и сэр Роберт Ванситтарт особенно дружески поздравлял его.
После шикарного, как для немецкой кухни, ужина публика танцевала на покрытом кокосовыми матами теннисном корте под звуки скрипки любимого ею венгерского скрипача Барнабаса фон Гежи.
До серьезных разговоров дело на таком вечере, конечно, не дошло, но зато было очень весело.
Праздник продолжался до раннего утра.
Среди наиболее поздно удалившихся гостей были и сэр Роберт Ванситтарт с женой, они много танцевали и по виду были очень довольны.
– Было ли это добрым предзнаменованием? Не перестал ли сэр Роберт считать Берлин таким уж вызывающим отвращение городом?, – допытывался у меня Риббентроп в конце раута. В тот вечер он был словно в розовых очках, во всяком случае хотел видеть всё в розовом свете.
Прощаясь, он пригласил Ванситтарта на завтрак, а также сказал ему, что фюрер охотно познакомился бы с ним.
Сэр Роберт принял приглашение с благодарностью.
Я так же был приглашён на этот завтрак, да к тому же и принял приглашение хозяев… ввиду поздней ночи или вернее раннего утра… заночевать у них.
На следующий день печально выглядел только их старый садовник Бонхауз.
Я до сих пор вижу, как он, качая головой, с огорчением обходит свой теперь, как он считал, безнадежно вытоптанный английский газон, за которым он так заботливо ухаживал более десяти лет.
Но добряк счел делом своей чести как можно скорее устранить последствия того вечера, о чём гордо сообщил хозяевам.
Завтрак с Ванситтартом … вернее ланч, что больше был похож на поздний континентальный обед, проходил в отеле «Кайзерхоф».
И тут Риббентроп, как мне показалось, совершил дипломатическую ошибку. Вместо того, чтобы просто закрепить хорошее расположение его давнего недруга, он…
Короче, позже он сказал, что: «… мне Серж пришлось нажать на все регистры моего искусства убеждать».
В итоге… как казалось Риббентропу, он старался как можно проникновеннее втолковать сэру Роберту, что личность фюрера, который «может решать единолично и суверенно», дает уникальную возможность надолго свести Германию и Англию вместе и на пользу обеим «создать солидную базу доверия и общих интересов».
– Фюрер готов к искренней договоренности на паритетной основе, – заявил Риббентроп англичанину.
К сожалению Риббентропа, говорил преимущественно только он, и у меня с самого начала было такое ощущение, словно перед ним стена.
Ванситтарт, как настоящий брит, слушал его спокойно, оставаясь «наглухо застегнутым на все пуговицы» и уклоняясь от любой попытки Риббентропа перейти к открытому обмену мнениями.
После, Риббентроп мне признался, что он за свою жизнь вел разговоры с сотнями англичан, но никогда ни одна беседа не оказывалась столь бесплодной, не вызывающей никакого резонанса у партнера и характерной отсутствием у него даже малейшего желания подойти к сути дела.
В ходе их беседы, Риббентроп просил сэра Роберта выразить своё мнение по определенным пунктам, «спокойно и открыто подвергнуть их критике или же объяснить ему, в чем они принципиально или в деталях расходятся во взглядах?»
Но в ответ не услышал ровным счётом ничего, кроме словесных выкрутасов. Наблюдая за этим, я пришёл к положительному выводу: «С Ванситтартом германо-английского взаимопонимания не достигнуть».
Тем ни менее… расстались они вполне дружески, и англичанин ещё раз сказал, что рад скорому приезду Риббентропа в Лондон.
Чтобы подсластить горькую пилюлю, что сейчас проглотил мой «берлинский шеф», я ему сказал: «Дорогой Иоахим… не расстраивайтесь… В лице Ванситтарта вы сейчас имел перед собой человека предубежденного, с заранее сформулированным мнением, человека Форин офиса, который не только отстаивал тезис balance of power1, но и, более того, воплощал принцип сэра Эйра-Кроу: «Что бы там ни было, никогда не идти на пакт с Германией».
Он согласно и с благодарностью закивал головою и произнёс:
– Спасибо мой друг за поддержку… Вы Серж правы… Этот человек не сделает даже никакой попытки к сближению – такое впечатление вполне определенно сложилось и у меня. Говорить с ним бесполезно…, – махнул он рукой и продолжил:
– Фюрер меня предупреждал, что в поведении Ванситтарта, должно быть, играют свою роль и другие причины, влияния идеологического порядка.
– Я этого не знаю и в это не верю, но выяснить попытаюсь, – сказал он в конце.
Наш разговор продолжился снова уже на вилле Риббентропа за ужином…
– Однако, Серж, каково бы ни было это влияние, – продолжал Риббентроп наше обсуждение британца, – главным принципом для него является: «Никогда не идти вместе с Германией!», – воскликнул он.
– Когда некоторые … утверждают, что ванситтартизм и вся содержащаяся в этом слове ненависть к Германии – следствие политики Гитлера, я вопреки этому заявляю: политика Фюрера является следствием политики Ванситтарта!, – снова повысил голос подвыпивший хозяин дома.
– Адольф Гитлер провозгласил совместные с Англией действия как свой политический принцип еще с 20-х годов и в течение всего своего правления… и даже незадолго до нынешней встречи… постоянно говорил мне об этом, – почти кричал будущий немецкий посол в Лондоне.
– Так разве не имеет права политик,… с 26-го года… почти 10 лет отстаивавший этот тезис, ожидать, что будет по крайней мере предпринята попытка достигнуть широкого взаимопонимания, дабы подвергнуть проверке его стремление и подлинные намерения?, – вопрошал Риббентроп небеса, так, как туда был обращён его взор и протянуты руки…
– Я, Серж, – теперь он обратился ко мне, – непоколебимо верю: Адольф Гитлер при всех условиях соблюдал бы заключенный с Англией союз!
– И только растущая антигерманская позиция Лондона и вечное английское стремление играть роль гувернера, – как это называет Гитлер, – толкают его на путь, по которому он, по моему мнению, совсем идти не хочет, но по которому он всё же пойдёт, так как он считает это в интересах своего народа, – с предельным пафосом закончил мысль Риббентроп.
Чтобы перевести тему, я наугад спросил:
– Иоахим, а о чём вы так энергично вчера на рауте беседовали с тем японцем?
Риббентроп махнул неопределённо своим бокалом и пустился в пояснения:
– Это всё фюрер… Носится с антикоминтерновским пактом…
Затем он рассказал мне, что еще несколькими годами ранее Гитлер говорил с ним о том, – нельзя ли в какой-либо форме завязать с Японией более тесные отношения?
Риббентроп тогда ответил ему, что у него есть кое-какие связи с японцами и что он установит с ними необходимый контакт. При этом выявилось, что японское правительство занимает такую же антикоммунистическую позицию, как и германское.
Из этих бесед, имевших место в 34-м и 35-м годах, выкристаллизовалась идея сделать одинаково направленные стремления предметом переговоров.
Один из сотрудников Риббентропа, господин фон Раумер, сформулировал затем эту идею, как заключение Антикоминтерновского пакта.
Я тут вспомнил, что доложил тогда еще… до моего отъезда из Берлина в Париж… про этот план Сталину.
И вот сейчас я узнал, что Гитлер с этой идеей согласился.
Фюрер пожелал, чтобы подготовка к осуществлению данного плана велась не по линии германской официальной политики, поскольку здесь речь шла о мировоззренческом вопросе. Поэтому он поручил Риббентропу подготовить указанный пакт, имя ввиду и Италию тоже…
Формально не закрепленная связь Германии, Японии и Италии существовала уже довольно длительное время.
Гитлер, по словам Риббентропа, рассматривает противоречие между национал-социализмом и коммунизмом, как один из решающих факторов своей политики.
Поэтому, он решил, что следовало проверить, каким способом можно найти путь к тому, чтобы привлечь и другие страны к противодействию коммунистическим стремлениям?
Таким образом, речь шла о вопросе мировоззрения.
Смыслом и целью будущего пакта являются совместные меры по отражению коммунизма.
Пакт должен воспрепятствовать разлагающим стремлениям Коминтерна в разных странах.
Это недвусмысленно вытекает из преамбулы, в которой говорится: «Исходя из того что Коммунистический Интернационал постоянно угрожает цивилизованному миру на Востоке и Западе, нарушает и разрушает их мирное состояние и их строй; будучи убежденной, что только тесное сотрудничество всех заинтересованных в сохранении мира и порядка государств может уменьшить и устранить эту опасность; принимая во внимание то, что Япония с несгибаемой решимостью борется против указанной опасности и готова рука об руку с Германией, дать отпор Коммунистическому Интернационалу и бороться против общего врага».
По словам Риббентропа, заключение пакта с Японией планируется на ноябрь этого 1936 года.
– Пакт возник из сознания, что только созданный на длительный срок общий оборонительный фронт всех здоровых государств мог положить конец угрожающей всему миру опасности, – распалялся Риббентроп. – Поэтому я, Серж, надеюсь на то, что остальные культурные государства тоже осознают необходимость своего объединения против деятельности Коммунистического Интернационала и пожелают присоединиться к данному соглашению.
– А вам не кажется, дорогой Иоахим, что связи по Антикоминтерновскому пакту могут быть истолкованы таким образом, будто бы вы… сплочением вместе с Японией и Италией… например планомерно готовите вторую мировую войну, чтобы обеспечить этим державам мировое господство?, – спросил я у него между прочим, пока он прервался чтобы отпить из своего бокала.
Он энергично замаха руками и головой, и чуть было не выронил свой бокал, возразил:
– Это ваше предположение, Серж, весьма фантастично… На самом деле ось будет существовать только на бумаге… В намерения Гитлера сейчас входит подтолкнуть к участию в антикоммунистическом фронте Британскую империю. Именно данная мысль не в последнюю очередь побудила его поручить мне, будущему германскому послу в Лондоне, дипломатическое формирование этого блока стран, выступающих за сохранение существующего мирового порядка…
– Когда я был в Лондоне, – продолжил Риббентроп, – у меня состоялась беседа по этому поводу с английским министром иностранных дел Иденом. Я хотел доказать ему значение этого идеологического сплочения для всего культурного мира. Иден заявил мне, что в Англии подписание Антикоминтерновского пакта будет воспринято с неудовольствием…
Дальше Риббентроп рассказал, что он со всей откровенностью растолковал ему смысл и цель пакта и его значение для всего некоммунистического мира, а тем самым и для Британской империи. Он указал на то, что этот пакт не направлен ни против кого другого, кроме мирового коммунизма, и что он открыт для вступления в него и Британии.
Но натолкнулся на полное непонимание со стороны Идена.
– В Англии не хотят видеть коммунистической опасности, – с разочарованием констатировал Риббентроп.
На этом деловая честь нашего ужина закончилась.
Затем мы обсудили ход Олимпиады… триумф негров-спортсменов и отказ Гитлера пожимать им руки…
В завершение встречи мы тепло попрощались, и я на следующий день отправился назад в Мадрид… снова прямым рейсом немецкой авиакомпании «Люфтганза».
Большую часть пассажиров в этот раз составляли переодетые военные.
Но они особо этого не скрывали и открыто говорили, что направлены в помощь Франко.
Это были немецкие лётчики, будущей эскадрильи «Кондор», которая уже полным ходом формировалась в столице Португалии – Лиссабоне.
Правда в Париже они вышли, так как делали пересадку на другой рейс.
Их место заняли частью мои соотечественники. Они правда скрывали тщательно свою принадлежность к армии и к СССР, в частности.
Другая шумная компания представляла собой «интернационалистов», как они себя называли. Это были антифашисты из разных стран, которые спешили на помощь Республике.
Они принесли в салон парижские газеты, из которых я узнал довольно тревожные новости из Испании…
По прибытии Мадрид … мне из разных источников подтвердили, что ситуация действительно напряжённая.
Товарищ Мигель, наш советник военного министра, говорил мне:
– Товарищ Козырев, нужно понимать, что даже небольшие силы Африканской армии могут переломить ситуацию, когда им, имевшим реальный боевой опыт в войне против рифов, противостоит тут… по сути… пока совсем неподготовленное ополчение.
– А ведь только за один день 5 августа… по нашим сведениям… было переброшено 3 000 человек.
Я из его информации понял, что переброска идёт интенсивно, и уже до своего завершения оказывает большое воздействие на ход войны.
Переброска Африканской армии на территорию Пиренейского полуострова становится критически важным фактором спасения мятежа и превращения его в полноценную гражданскую войну.
Германия уже поставила мятежникам 73 самолета и в планах поставить ещё сотню, Италия поставила пока 14, но сотню тоже пообещала.
Это были данные из открытых источников. Враги Республики ничего не таили. Расчёт был также на панику и испуг в рядах республиканцев.
Вскоре к мятежникам стали прибывать боеприпасы и инструктора.
Германия направила в зону конфликта военно-воздушный легион «Кондор». Италия «не препятствовала» отправке «добровольцев» – немедленно было отправлено около 70 тыс. человек, организованных в полки и дивизии.
Позже сообщили о появлении на фронте португальских частей.
Я прекрасно понимал, что для Гитлера гражданская война в Испании была настоящей дипломатической находкой.
Сотрудничество в Испании помогало Гитлеру окончательно перетянуть Муссолини на свою сторону в дипломатическом противостоянии в Европе.
А для Дуче – Франко был вообще идейным братом.
Гитлер, как я понял, со слов Риббентропа, относился к ситуации в Испании более цинично и высказывался за затягивание войны – «чем дольше она будет длиться, тем большее раздражение Великобритании и Франции будет вызывать итальянское вмешательство», – как он выразился.
Сама Германия планировала действовать осторожнее… ограничиваясь посылкой авиации, инструкторов и финансированием каудильо.
Франко понимал, – как я думал, – что если Италия реальный его союзник, то Гитлер просто играл на европейских противоречиях, стремясь разжечь и затянуть испанскую трагедию.
Кстати, моё подсознание ещё почему противилось ликвидации Франко?
Как я сейчас уже точно знал, во время будущей мировой войны Франко… останься он жив и одержи верх тут в Испании… отплатит Гитлеру той же монетой, уклонившись от прямого участия в войне…
Сейчас же со всей остротой встал вопрос оружия для республиканской армии…
Собственная военная промышленность Испании была слабо развита, современное оружие можно было только купить за границей.
Ещё в конце июля Испания запросила дружескую Францию о возможностях закупки вооружений.
Премьер Блюм ответил согласием: почему бы нет, подавление мятежа – внутреннее дело Испании. А министр авиации Кот с одобрения Блюма предложил поставить в Испанию 20–30 бомбардировщиков.
Поставки готовились в тайне, но испанский военный атташе в Париже Барросо решил посодействовать мятежникам и сообщил о предстоящих поставках прессе.
Противники Народного фронта подняли скандал – Франция решила вмешаться в дела соседней страны!
Французский премьер Блюм слыл пацифистом, но он же был и лидером Народного фронта Франции.
Как пацифист, Блюм не хотел «разжигать войну» в соседней стране, как социал-демократ – хотел помочь Народному фронту Испании.
Одновременно испанский премьер Хираль стучался и в другие двери.
Он просил горючее и оружие у англичан, СССР, а сначала даже у немцев.
В этой ситуации Блюм прибыл в Лондон, чтобы обсудить возможности политики невмешательства, которая могла бы предотвратить помощь участникам внутрииспанского конфликта.
Блюму казалось, что этот пацифистский план сможет остановить вмешательство Германии и Италии в обмен на обещание Франции и Великобритании не помогать Республике.
Таким образом Франция избегала угрозы конфликта с Германией и Италией к югу от своих границ.
В это время французское правительство то запрещало, то снова разрешало продажу французского оружия Испании.
За это время Кот протолкнул первую поставку. До начала советской помощи Республика получила 17 истребителей и 12 бомбардировщиков, по качеству уступающих немецким и итальянским.
2 августа Франция обратилась к Великобритании и Италии, а затем ко всем заинтересованным странам, включая Германию, СССР и США, с предложением организовать режим «невмешательства» в испанские дела, полностью исключив поставку в этот очаг конфликта военных материалов. Это было бы выгодно Испанской республике, так как она в августе меньше нуждалась в помощи, чем Франко.
Германия обусловила своё участие в «невмешательстве» тем, что к нему должен присоединиться также СССР.
Для французской дипломатии было важно привлечь к соглашению СССР.
В этот момент Франция была важным партнером СССР по «коллективной безопасности». Тогда же в СССР начались массовые демонстрации солидарности с Испанской республикой и сбор средств в помощь ей.
Экстренная помощь стран «Оси», как их уже можно называть, помогла мятежникам оправиться от первого удара, полученного в июльские дни.
И тут всем стало ясно, что республиканская милиция, превосходившая армию в условиях противоборства в городах, не может вести наступательную войну. Попытка наступления милиции НКТ на Сарагосу не удалась. Здесь фронт стабилизировался.
В других регионах, где милиционная система не опиралась на прочную синдикалистскую структуру анархистов в тылу, милиция не могла организовать и достаточного сопротивления фронтальному наступлению армии мятежников.
Во время прошлой мировой войны технические средства обороны были более развиты, чем средства наступления, что позволило создавать прочные фронты, пробивание которых было невероятно тяжелой задачей.
Отсюда «застойность» той мировой, которая и определяла сейчас военную «моду» в Западной Европе.
Теория де-Голля – Тухачевского пока не проверена в реальных боевых условиях.
В СССР уже есть опыт Гражданской войны – маневренной, полной драматических перемен.
Революционная война вообще тяготеет к манёвренности.
Массовые армии, непрочные тылы враждующих армий – всё это способствует драматизму событий и быстрому перемещению войск.
Эпоха моторов дала этой стратегии материальную подкладку.
К развернувшимся событиям в Испании уже были прикованы взоры военных специалистов: какая стратегия возобладает – революционной войны, подобной Российской «гражданке», или позиционной мясорубки, как минувшая мировая?, – задавались вопросами в местном Генштабе… как испанские военные, так и наши советники.
Мне же виделось, что ответ на этот вопрос зависел не только от военных, но и от политических обстоятельств.
Испанская гражданская война начиналась как мобильная. Всё было перемешано: здесь победили мятежники, там – республиканцы.
В августе мятежники контролировали Кастилию, но на юге располагали лишь небольшим плацдармом. Перед ними лежала Андалузия. Здесь крестьяне были заняты социальной революцией, а не организацией армии.
У местных анархистов и социалистов не нашлось организатора, подобного Дуррути, который сосредоточился бы на укреплении фронта.
Высадившиеся с итало-германской помощью в Испании части Африканской армии во главе с Хуаном Ягуэ в начале августа двинулись на север, в сторону территории, находящейся под контролем Молы.
Опираясь на Севилью, марокканцы 10 августа взяли Мериду и 14 августа – Бадахос.
Одновременно другая часть африканцев под командованием генерала Хосе Варелы захватила Андалузию, деблокировав гарнизоны Кордовы и Гранады. 20 августа франкисты двинулись на Мадрид.
Под Медельином генерал Ягуэ столкнулся с республиканской армией Эстремадуры генерала Рикельме.
Однако у Ягуэ были лучшие испанские войска, обстрелянные и спаянные во время колониальной войны в Марокко, профессионалы своего дела.
Им противостояли разрозненные части, оставшиеся верными республике, и многочисленная, но еще совершенно не научившаяся воевать милиция. Главной силой франкистов в этой ситуации была способность скоординированно маневрировать – чему республиканцы еще не научились. Мятежники сумели обойти позиции Рикельме, и тот приказал отходить. Анархисты не подчинились и с 2000 бойцов атаковали трехтысячную группировку Ягуэ при Сан-Висенте.
Но эта храбрая атака лишь ненадолго могла задержать движение франкистов. Республиканцы сосредоточились в Талавере-де-ла-Рейна, но и здесь повторилась ситуация с Медельином, только уже без контратаки анархистов – они не хотели зря проливать кровь, зная, что их не поддержат.
В этот критический момент последовал вызов меня в Москву…
***
С начала испанских событий, Артузов, работая на должности заместителя начальника IV разведывательного управления Штаба РККА, просто собирал общую информацию для передачи её в Кремль.
Его агенты в Берлине, Риме, Гамбурге, Генуе, Бремене, Неаполе регулярно сообщали о помощи, получаемой мятежниками из Италии и Германии.
Всю эту информацию в Кремле встречали молчанием.
Никаких секретных указаний относительно Испании по-прежнему в РазведУпр не поступало.
Публично Советское правительство тоже никак не высказывалось.
Коминтерн, разумеется, поднял великий шум, но никто тут, из практических работников, не принимал этого всерьез.
Упомянутое учреждение, давно прозванное «лавочкой», было отселено теперь в тихий пригород Москвы и превратилось из огненного факела, разжигавшего мировую революцию, в простой придаток внешней политики СССР, иногда полезный – как средство косвенного действия, иногда составлявший досадную помеху.
Как знал Артузов, последней большой заслугой Коминтерна в международной политике было проведение тактики так называемого Народного фронта.
Она означала, что во всех демократических странах послушные его приказам коммунисты отказались во имя «демократии» от своей оппозиции властям и сомкнули ряды с другими политическими партиями.
Нехитрая техника состояла в том, чтобы с помощью всякого рода «попутчиков» и просто идеалистов ставить у власти правительства, дружественно настроенные к Советскому Союзу.
Артузов признавал гениальность этого хода Сталина, так как не раз это шло на пользу СССР, оказывало ему поддержку.
Например, во Франции Народный фронт поднял на пьедестал фигуру умеренного социалиста Леона Блюма.
В прочем, с наступлением кризиса в Испании, под крики Коминтерна в защиту республики и его истошные призывы к борьбе с мятежом, сам премьер Блюм, при поддержке Лондона, предпочел объявить политику невмешательства в Испании.
В самой же Испании призывы Коминтерна встречали меньший отклик – численность коммунистов была там относительно небольшой.
Испанские профсоюзы и все крупные революционные группировки – синдикалисты, анархисты, партия марксистского единства, партия социалистов, упорно стояли на антикоммунистических позициях.
Тем не менее, Коминтерн проводил массовые митинги и сборы средств по всему миру в пользу Испанской республики.
Из Советского Союза начали посылать бойцами в Испанию десятки иностранных коммунистов, объявленных вне закона в своих странах и проживавших в качестве эмигрантов в СССР.
Артузов знал это проблему и горячо поддерживал решение Сталин так от них избавиться.
Атрузову было хорошо известно и то, что многие ветераны Коминтерна, еще преданные всей душой идеалам мировой революции – считай троцкисты, черпали в борьбе в Испании новую надежду.
Старые революционеры и вправду надеялись, что испанская гражданская война заново подожжет энтузиазм в мире.
Но их энтузиазм не производил на свет ни боеприпасов, ни танков, ни самолетов, ничего из того, чем фашистские державы снабжали Франко. Артузов прекрасно понимал, что сейчас реальная функция Коминтерна… в этот конкретный момент… сводилась к тому, чтобы заглушить своим громким шумом леденящее молчание Сталина.
Известия об итало-германской помощи генералу Франко и отчаянных призывах испанских революционных лидеров, казалось, не проникали через стены Кремля.
Гражданская война в Испании разгорелась в большой пожар, но Сталин не трогался с места, не реагировал на поток панических новостей, в том числе проходивших через руки Артузова.
По данным советской разведки, правительство в Мадриде располагало золотым запасом Испанского банка в сумме 140 миллионов фунтов стерлингов, но его попытки произвести закупки оружия у Виккерса в Англии, Шкоды в Чехословакии или у немецких пушечных королей встречали противодействие.
Тем временем ни одного слова не звучало от советских властей.
Только в конце августа, когда хорошо организованные силы Франко повели успешное наступление на Мадрид, три высокопоставленных представителя Испанской республики были наконец приняты в СССР.
Они прибыли для закупок военного оборудования и предложили в обмен большие суммы испанского золота.
Но и теперь их не допустили в Москву, а держали инкогнито в Одессе.
Чтобы замаскировать эту операцию, в «Правде» был опубликовал 28 августа через Комиссариат внешней торговли специальный указ, запрещающий «экспорт, реэкспорт и транзит в Испанию любых видов оружия, боеприпасов, самолетов и военных кораблей».
Попутчики Коминтерна и иже с ними, втайне приходившие в отчаяние от отказа Сталина помочь Испанской республике, теперь решили, что он оказался вынужденным подчиниться политике невмешательства Леона Блюма.
– А тут ещё и Козырева срочно отозвали из Мадрида, – размышлял обо всём этом Артузов.
***
Сталин слушал доклад по испанским делам заместителя наркома иностранных дел Крестинского…
Он его терпеть не мог… – Скрытый троцкист, – подумал про него Сталин.
А тот … в это время, не подозревая ничего, с энтузиазмом говорил:
– Как Вы знаете, товарищ Сталин, французское правительство обратилось к итальянскому правительству по вопросу о невмешательстве в испанские дела. Сейчас же нами получена телеграмма с ответом английского и германского правительств на аналогичное обращение французского правительства. Английское правительство в своем ответе отмечает, что оно считает целесообразным заключение соглашения о невмешательстве в испанские дела между Англией, Францией, Германией, Италией и Польшей.
– По достижении соглашения между этими странами к участию в нём могли бы быть приглашены и другие заинтересованные страны.
– Германское правительство, товарищ Сталин, в ответе, подписанном их министром иностранных дел Нейратом, заявляет, что оно согласно заключить соглашение о невмешательстве в испанские дела при том лишь условии, если в этом соглашении примет участие и Советский Союз.
– В связи с изложенным, товарищ Сталин, французское правительство считает весьма желательным принятие Советским Союзом принципа невмешательства во внутренние дела Испании и участие СССР в отмеченном соглашении.
– Так же, товарищ Сталин, Вы уже знаете, что мы уже дали положительный ответ, но высказали при этом два пожелания: а) привлечение к этому соглашению Португалии и б) немедленное прекращение помощи, оказываемой некоторыми государствами мятежникам.
– Из Парижа, товарищ Сталин, мы получили сообщение, что Франция уже обратилась к Португалии…
Сталин перебил Крестинского:
– Товарищ Крестинский… если лорд Галифакс будет делать попытку рассматривать денежные сборы наших рабочих как вмешательство в испанские дела, Ви, конечно, должны со всей энергией и убедительностью доказывать, что сборы, производимые населением СССР, конечно не являются вмешательством Советского правительства в испанские дела. Ведь такие сборы производятся повсеместно, в том числе и в Англии, и английскому правительству, стоящему на точке зрения невмешательства, не приходило тем не менее в голову запрещать эти сборы. Если Галифакс будет упорствовать, можете выразить удивление по поводу того, что английское правительство не выступило открыто против чисто военной помощи, оказываемой Германией и Италией мятежникам, и в то же время член кабинета, управляющий МИД, находит возможным ставить в вину правительству СССР денежную помощь, оказанную законному испанскому правительству трудящимися массами СССР, – закончил Сталин, взмахнув трубкой.
Крестинский согласно качнул головой и продолжил:
– Товарищ, Сталин, события в Испании послужили толчком к развитию в Италии нового взрыва злобной враждебности по отношению к нам.
– Вообще, товарищ Сталин, поскольку международное положение становится все более и более острым, поскольку определяются группировки в будущей мировой войне, итальянскому правительству при всей гибкости Муссолини, становится всё труднее и труднее сохранять по отношению к нам хотя бы внешнее приличие.
– Итальянская печать, товарищ Сталин, усваивает всё более и более немецкие гитлеровские приемы по отношению к нам. Да и правительственные люди, сохраняя, конечно, в разговорах с нами дружелюбие и корректность, все меньше и меньше могут скрывать противоположность итальянской международной позиции нашей политической линии.
– Итальянское правительство, как Вы знаете товарищ Сталин, скрывает от своей общественности то обстоятельство, что итальянские тяжелые самолеты в большом количестве посланы испанским мятежникам и что при их помощи и под их прикрытием франкисты начинают перебираться из Испанского Марокко в европейскую часть Испании.
– В то же время, товарищ Сталин, по указке правительства итальянская печать раздувает нелепые, явно неправдоподобные истории о том, что наше маленькое нефтеналивное судно принимало участие в бомбардировке испанскими правительственными судами одного из мятежных портов.
– Сейчас итальянское правительство, конечно, центр своей антисоветской кампании перенесет на произведенные у нас рабочими денежные сборы.
– В своем ответе Франции итальянское правительство, давая согласие не вмешиваться в испанские дела, обусловливает его тем, чтобы были прекращены митинги и выступления печати в защиту испанского правительства, чтобы не производилось денежных сборов и не оказывалась денежная помощь испанскому правительству.
– Итальянское правительство, конечно, понимает, что денежные сборы рабочих, производившиеся не только в СССР, но и повсеместно, и военная помощь, оказываемая итальянским и германским правительствами испанским мятежникам, – не одно и то же.
– Но ему выгодно будет кричать о том, что вмешиваются з испанские дела не итальянское правительство, не Германия, а Франция и в первую голову Советский Союз.
– Мы, конечно, товарищ Сталин, и в нашей печати, и в мировой печати будем разоблачать позиции итальянцев и клеймить их за помощь, оказываемую ими совместно с Германией реакционным мятежникам, но мы считаемся с тем, что итальянская печать и итальянское правительство, в связи с испанскими событиями, во все время гражданской войны в Испании будут, конечно, резко враждебны нам.
– Французское правительство, товарищ Сталин, как Вам известно, свой дипломатический демарш по вопросу о невмешательстве начало без согласования с нами.
– Оно обратилось прежде всего к Англии и к Италии.
– Италия на несколько дней задержала ответ, англичане же сразу дали положительный ответ, но при этом высказали пожелание, чтобы к переговорам о невмешательстве были привлечены также Германия, Бельгия и Польша, а затем и другие страны.
– СССР англичанами, как мы знаем из переданного нам французами английского ответа, назван не был.
– Затем французы обратились к немцам. Сделали они это в результате высказанного англичанами пожелания или еще до получения ответа – мы достоверно не знаем, товарищ Сталин.
– Но мы знаем, что немцы сразу же ответили, что они готовы принять на себя обязательство о невмешательстве, если аналогичное обязательство примет на себя Советский Союз.
– Французский поверенный в делах довел до нашего сведения ответ Англии и Германии и по поручению МИД высказал пожелание, чтобы мы признали принцип невмешательства и присоединились к соглашению Франции, Англии, Италии и Германии по вопросу о невмешательстве.
– В тот же день … по Вашему поручению товарищ Сталин… вечером я ответил им, что мы принимаем французское предложение о невмешательстве, но высказываем при этом два пожелания:
– Первое пожелание относится к тому, чтобы к соглашению была привлечена также и Португалия.
– Второе – это немедленное прекращение помощи, оказываемой некоторыми государствами мятежникам против законного испанского правительства.
– Мы знаем, товарищи Сталин, что французское правительство удовлетворено нашим ответом и что оно готово обратиться с соответствующим предложением к Португалии.
– Может быть, впрочем, предложение Португалии было сделано и несколько раньше нашего ответа.
– Хотя расстояние, отделяющее нас от Испании, делает очень трудным вопрос об оказании нами какой-либо военной помощи, мы тем не менее поспешили дать недвусмысленный положительный ответ, потому что мы понимали, что Италия и Германия будут продолжать помогать мятежникам и притом будут оправдывать свои действия тем, что мы якобы вмешиваемся в испанские дела и оказываем помощь другой борющейся стороне.
– Мы решили, товарищ Сталин, поэтому придать нашему ответу возможно более краткий принципиально положительный характер…
Сталин снова прервал Крестинского вопросом:
– Каково… по Вашему… будет дальнейшее развитие переговоров в связи с французским предложением?
Тот собрался с мыслями и чётко ответил:
– Я, товарищ Сталин, не сомневаюсь, что итальянцы и немцы, как это видно уже из первых сообщений о содержании итальянского ответа, будут, конечно, утверждать, что кампания митингов и сборов, проводимая трудящимися Советского Союза, есть вмешательство в испанские дела и что это дает им право оказывать помощь другой борющейся стороне или по крайней мере не препятствовать отдельным гражданам Италии и Германии помогать мятежникам в добровольном порядке.
– Я, товарищ Сталин, не жду поэтому никакой официальной договоренности по этому вопросу и вo всяком случае ни одной минуты не сомневаюсь, что до окончательного разгрома испанских мятежников, Германия и Италия будут им самым активным образом помогать….
Сталин махнул своей трубкой и прервав Крестинского, сказал:
– Мне трудно представить себе, чтобы в условиях Италии Ви могли бы в какой-либо мере противопоставлять в итальянской печати нашу точку зрения обвинениям и утверждениям итальянской стороны. Но в разговорах с коллегами по дипломатическим каналам Ви должны, конечно, твердо подчеркивать разницу между добровольными денежными сборами, проводимыми совершенно спонтанно трудящимися массами Советского Союза и других стран… сборами, направляемыми при этом законному испанскому правительству, и между организованной военной помощью, которую правительства Италии и Германии предоставляют мятежникам против законного испанского правительства…
То согласно кивал и когда Сталин закончил, спросил:
Товарищ Сталин, позвольте зачитать Вам Ноту французского правительства?
– Да, конечно, зачитайте, – согласился Сталин.
Крестинский подобрался и важным голосом начал читать:
– Господни Народный Комиссар, Имею честь подтвердить Вам текст Декларации, переданной 15 августа Министром Иностранных Дел Французской Республики Послу Великобритании в Париже, следующего содержания: «Правительство Республики, сожалея о трагических событиях, театром которых является Испания, полное решимости строго воздерживаться от всякого прямого или косвенного вмешательства во внутренние дела этой страны, руководствуясь стремлением избежать всяких осложнений, вредных для сохранения добрых отношений между народами, заявляет следующее:
1. Французское Правительство запрещает в том, что его касается, экспорт, прямой или косвенный, реэкспорт и транзит в направлении Испании, испанских владений или испанской зоны Марокко всякого оружия, амуниции и военных материалов, а также всяких воздушных судов как в собранном, так н в разобранном виде и всяких военных кораблей.
2. Это запрещение применяется также к уже заключенным контрактам. 3. Французское Правительство будет информировать другие правительства, участвующие в этом соглашении, о всех мерах, принятых им для того, чтобы ввести в действие настоящую Декларацию. Французское Правительство в том, что его касается, начнет применять эту Декларацию с того момента, как Правительство Его Британского Величества, германское правительство, итальянское правительство, Правительство СССР и португальское правительство присоединятся к Декларации».
По мере поступления сообщений о присоединении заинтересованных правительств Французское Правительство позаботится о доведении их до сведения Правительства СССР, – закончил Крестинский.
Сталин внимательно слушал, а затем спросил:
– Ви подготовили наш ответ?
– Да, товарищ Сталин…
– Зачитайте…
Крестинский снова приосанился и достав нужную бумагу, прочитал:
– Нота НКИД СССР…
– В связи с переговорами, имевшими место по вопросу о линии поведения по отношению к положению в Испании, имеем честь сделать Вам следующее сообщение: Правительство Союза Советских Социалистических Республик, сожалея о трагических событиях, театром которых является Испания, полное решимости строго воздерживаться от всякого прямого или косвенного вмешательства во внутренние дела этой страны, руководствуясь стремлением избежать всяких осложнений, вредных для сохранения добрых отношений между народами, заявляет следующее:
1. Правительство СССР запрещает в том, что его касается, экспорт, прямой или косвенный, реэкспорт н транзит в направлении Испании, испанских владений или испанской зоны Марокко всякого оружия, амуниции и военных материалов, а также всяких воздушных судов как в собранном, так и в разобранном виде и всяких военных кораблей.
2. Это запрещение применяется также к уже заключенным контрактам.
3. Правительство СССР будет информировать другие правительства, участвующие в этом соглашении, о всех мерах, принятых им для того, чтобы ввести в действие настоящую Декларацию.
– Правительство СССР в том, что его касается, начнет применять эту Декларацию с того момента, как сверх Французского и Британского Правительств, к Декларации присоединятся также германское, итальянское и португальское правительства.
Сталин внимательно прослушал и в конце сказал:
– Оставьте проект Ноты у меня…
На этом аудиенция замнаркоминдел закончилась и он поспешно покинул кабинет Генсека.
Глава 4
Когда за Крестинским закрылась дверь, Сталин позвонил своему секретарю Поскрёбышеву и поручил тому на завтра собрать внеплановое тайное заседание Политбюро.
– Да, скорее всего… Нота, что лежала сейчас у него на столе выйдет в таком виде…, – решил хозяин кабинета.
Но на самом деле Сталин готовил коварный способ действий в пользу республиканцев.
Пока их официальные представители ждали ответа в Одессе, он собирал экстренное заседание Политбюро.
Когда на следующий день поздно вечером все были в сборе, он предложил им свой план осторожной интервенции в Испании – под прикрытием объявленного СССР нейтралитета.
– Я считаю, что старая Испания кончилась, а новая не может быть предоставлена сама себе, – сказал он веско членам Политбюро.
– Она должна примкнуть или к итало-германскому лагерю, или к лагерю его оппонентов, – махнул он трубкой.
– По моему убеждению… ни Франция, ни Великобритания не согласятся с тем, чтобы Испания, от которой зависит вход в Средиземноморье, оказалась под контролем Рима и Берлина…
– Дружественная Испания жизненно необходима Парижу и Лондону, – пояснил он.
– Я, товарищи, пришел к мнению, что, не прибегая к открытому вмешательству, одним лишь использованием позиции СССР, как источника вооружений, ми сможет создать в Испании режим, контролируемый нами, – говорил Сталин, чеканя каждое слово и пристально следя за реакцией соратников.
Те сидели молча, не шелохнувшись, так как буквально перед этим утвердили Ноту советского правительства совершенно противоположного содержания и просто не знали, как им реагировать.
А Сталин продолжал:
– Тем самым, товарищи, СССР сможет внушить уважение французам и англичанам, чтобы добиться от них предложения о союзе и тогда либо пойти на такой союз, либо превратить его в предмет торга, дабы достичь нашей постоянной долговременно цели – договоренности с Германией.
Таковы были главные мысли Сталина по поводу вмешательства в дела Испании.
Неожиданно для членов Политбюро, Сталин резко сменил тему:
– Товарищи, как мне кажется… сложилась парадоксальная ситуация: все члены ЦК единогласно проголосовали за предложенную новую Конституцию, но никто из них открыто не высказался в её поддержку….
– По такому откровенному саботажу нами было решено было нанести решительный удар…
– Как ви знаете… 19 июня 1936 года продолжилась приостановленная в конце марта работа «по немедленному выявлению и полнейшему разгрому троцкистских сил».
– НКВД и прокуратура представили в Политбюро список из 82 наиболее опасных троцкистов, которым можно было предъявить обвинение в подготовке террористических актов.
– Кроме того, оба ведомства поставили вопрос о необходимости повторного процесса по делу Зиновьева и Каменева.
– Суд над руководителями и участниками очередного «раскрытого антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского блока» ми с вами решили провести, как важную пропагандистскую акцию, обращённую к политическим силам как внутри страны, так и в странах Запада, продемонстрировав решительный и окончательный отказ от старого курса, ориентированного на мировую революцию.
– В целях разъяснения обстановки, 29 июля 1936 года, от имени ЦК было разослано закрытое письмо по этому вопросу.
В нём указывалось, что задачей блока, возглавлявшегося Зиновьевым, Каменевым, другими троцкистами и имевшего свои группы во многих городах, являлись террористические акты против Кирова, Ворошилова, Кагановича, Орджоникидзе и других руководителей партии и правительства…, – сказал Сталин спокойно, не упомянув себя среди целей заговорщиков.
Не выдержал Ворошилов и добавил:
– И тебя… Иосиф хотели убить…
Сталин довольно кивнул и продолжил:
– Так как главари блока уже находились в тюрьме, всё руководство террористической деятельностью в СССР взял на себя Троцкий.
– Ми с вами посчитали необходимым «ещё раз приковать внимание всех членов партии к вопросам борьбы с остатками злейших врагов нашей партии и рабочего класса, к задачам всемерного повышения большевистской революционной бдительности».
– Открытый судебный процесс над 16 основными троцкистами, как Вам известно, прошёл на днях…
– На заседания были допущены корреспонденты советских центральных газет, Коминтерна и иностранной буржуазной печати…
– Обвиняемые полностью подтвердили предъявлявшийся им обвинения в террористической деятельности…
– В соответствии с приговором все они, включая Зиновьева, Каменева, и других, были расстреляны…
– Как ви знаете… это уже подействовало… как на членов ЦК, так и на делегатов предстоящего Всероссийского съезда Советов…
– Уже поспешили отмежеваться от обвиняемых и от своего идейного вождя Троцкого пока ещё находящиеся на свободе Раковский, Пятаков, Радек, Преображенский, которые выступили в центральных газетах с заявлениями, имевшие один общий смысл: «Беспощадно уничтожать троцкистско-зиновьевско-фашистскую банду презренных убийц и предателей!»
– И вот… товарищи… в дополнение ко всем трудностям в это время произошли события в республиканской Испании, которые ненароком проверяют и нашу власть на прочность…
Этот… снова резкий переход от троцкистов к Испании… совершенно сбил с толку членов Политбюро.
Но Сталин, не замечая их растерянности, продолжил:
– Это заставляет нас действовать…
– Необходимо дать хоть какой-то ответ иностранным друзьям Советского Союза, которые стали свидетелями великой чистки и расстрелов их товарищей-коммунистов у нас…
– Западный мир не сознает, насколько ненадежно в этот момент наше положение и насколько важным для нас является оправдание перед иностранными коммунистами и другими… известными приверженцами идеалистических взглядов…
– Их поддержка, товарищи, нам жизненно важна. Ми рискуем её лишиться, если ми не сумеем оказать помощи Испанской республике, и не примем никаких мер против устрашающего эффекта великой чистки и процессов над «предателями» внутри страны…
– К тому же, товарищи, меня привлекает груда испанского золота – 140 миллионов фунтов, которую их правительство готово было потратить на военное снаряжение…
– Какая часть этого золота может отправиться в СССР в оплату военных поставок в условиях, когда Советский Союз официально должен придерживаться политики строгого невмешательства?, – задал Сталин вопрос. И добавил:
– Этот вопрос требует безотлагательного решения.
Политбюро, конечно, приняло план Сталина.
В секретном постановлении Политбюро строго указывалось, что советская помощь Испании должна быть неофициальной, оказываться тайно, так, чтобы устранить всякую возможность втягивания СССР в войну.
Итоговый наказ Политбюро, отданный всем, повязанным ответственностью в этом деле, гласил: «Подальше от артиллерийского огня!»
***
Тем временем в небе Европы…
Моя дорога в Москву, даже с учётом передвижения на самолётах французских авиакомпаний, составила почти двое суток.
И у меня было время о многом подумать. В том числе и о текущем моменте на моей Родине.
Разобраться в причинах, происходивших сейчас в СССР общественно-политических событий, как я считал, было сложно без учёта сложившихся к середине 1930-х годов международных отношений.
К этому времени возросла агрессивность таких стран, как Германия, Италия и Япония, неуклонно усиливавшаяся на фоне непротиводействия им со стороны великих держав победительниц в мировой войне – Великобритании, Франции и США.
В Германии сразу после прихода Гитлера к власти началась ремилитаризация страны, на которую с полным равнодушием и безучастностью взирали западные демократии, являвшиеся гарантами стабильности и безопасности в Европе.
Хотя, в планы Гитлера входило возрождение военного могущества третьего рейха, восстановление его старых границ, расширение их на восток с перспективой в дальнейшем безграничного господства сначала на континенте, а затем и в мире.
Япония открыто готовилась начать войну на Дальнем Востоке.
Великие державы лишь пассивно наблюдали за этими действиями.
Италия к этому времени полностью захватила в Африке Эфиопию, что не вызвало никакого действенного осуждения. Даже со стороны СССР… Ну кроме вербальных нот и так далее…
Западные демократии вели политику умиротворения, стремясь за счёт жизненных интересов других стран, их территориальной целостности и даже независимости удовлетворять неуёмные аппетиты возникшего военного блока, получившего название ось Берлин-Рим-Токио.
Подобная реакция на ничем не прикрытую агрессию стран оси позволяла им чувствовать себя безнаказанными, давала уверенность в том, что любые их действия не встретят осуждения или сопротивления.
Мир начал неуклонно сползать к военной катастрофе уже не просто в моей голове и снах.
Гитлер перестал скрывать, что первыми жертвами его завоеваний станут Австрия, Чехословакия и Польша.
В сложившихся условиях, я считал своей главной задачей, чтобы советское руководство отчётливо понимало, что угроза войны становилась реальностью и что рано или поздно третий рейх, в соответствии с давними замыслами Гитлера и пособничеством Запада, обрушится на СССР.
Помимо борьбы с коммунизмом как идеологией, фюрер заложил в программу нацизма – поход на Восток, в результате которого должны произойти расчленение Советского Союза, захват и колонизация его европейской части с превращением этих территорий в житницу и сырьевой придаток Германии. Такие наступательные планы, как мне казалось, несмотря на устную риторику, вполне устраивали западные правительства и тайно финансово поддерживались мировой закулисой.
При этом следовало учитывать и то обстоятельство, что моя Родина – страна Советов, уже полтора десятилетия находилась в политической изоляции, была исключена из жизни мирового сообщества, а потому не имела никаких международных договоров, обеспечивавших ей безопасность и поддержку в случае нападения извне.
Нельзя было исключать и наиболее опасный вариант, при котором мог произойти сговор между великими державами, позволявший преднамеренно нацелить агрессивно настроенную нацистскую Германию именно против СССР.
Сражаться в одиночку против всего капиталистического мира Советский Союз пока не имел возможности.
Красная Армия была по прежнему в основной своей массе была слаба в техническом отношении в связи с отсутствием мощной оборонной промышленности, которая только недавно получила базу для своего развития.
Все эти обстоятельства и вынудили, по моему мнению, советское руководство прийти к единственно правильному решению: попытаться как можно скорее инициировать создание системы коллективной безопасности, охватывавшей бы всю Европу.
В таком случае, как ошибочно считал прежде всего Сталин, агрессивные действия Германии удалось бы сдерживать как с запада, так и с востока.
Но для того, чтобы успешно вступать в переговоры с другими странами, Сталин видимо решил, что и Советскому Союзу самому следовало изменить свою внешнюю и внутреннюю политику.
По всей видимости, Сталин считал, что все неудачи возникали из-за того, что мировое сообщество не признавало страну Советов в качестве достойного и равноправного партнёра из-за провозглашенного даже в Конституции СССР 1924 года раскола мира на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма.
Это, по мнению Сталина, и обусловливало не только отстранение СССР от других стран, но и возможность столкновения с ними.
В связи с этим видимо Сталин и решил отказаться от ориентации на мировую революцию, определявшую классовый принцип внешнеполитического курса.
– Ох, не записали ли и тебя… Серёжа … в троцкисты?, – подумал невесело я.
Как стало известно в последнее время, во внутренней политике Сталин задумал провести конституционную реформу, отказавшись от упомянутого выше положения, противопоставлявшего СССР всему миру.
А главное, Сталин намерен был коренным образом изменить систему формирования государственных органов так, чтобы народ сам мог отстранять от власти негодных руководителей.
Фактически это означало отказ от диктатуры пролетариата.
Для ортодоксальных коммунистов, как я прекрасно понимал, которые заполняли все руководящие советские и партийные органы, все эти мероприятия рассматривались отходом от марксизма, скатыванием на позиции ревизионизма. Об этих настроениях я слышал и от советских спецов в Испании.
Я прекрасно понимал, что это не могло не вызвать сильного противостояния с их стороны.
Тут мои мысли перешли на личность самого Иосифа Виссарионовича Сталина, стоявшего во главе Коммунистической партии и всей страны. И с которым мне снова предстояло встретится и иметь непростой разговор…
Я считал, что всем, чего достиг Сталин, он обязан только самому себе, своей одарённости и работе над собой. В этом я брал с него пример…
Конечно, если бы в России не сложилась специфическая ситуация, вызванная войной и Революцией, мир так ничего бы не узнал «о мальчике с отдалённой окраины огромной империи», ставшем сейчас руководителем огромной страны. Да, собственно говоря, как и многие другие… Да и я сам был бы, наверное, заурядным служащим, как мой покойны отец…
После возвышения, Сталину необходимо было проявлять свои положительные качества, поскольку, не обладая важными достоинствами, к власти прийти невозможно, а тем более долго её удерживать.
Соперники Сталина в лице Троцкого, Зиновьева, Каменева, как я теперь знал, считали его «серой, недалёкой, заурядной личностью», и не заметили, насколько он был «масштабен, многообразен, решителен и одарён».
Анализируя психологические качества Сталина, я констатировал, что память у вождя была «выдающаяся, исключительная, замечательная, феноменальная».
Обладая лучшей памятью, чем все его политические соперники, Сталин умел обоснованно опровергать своих оппонентов, совершенно точно воспроизводя приводившиеся ими самими доводы и при необходимости противопоставляя им дословные цитаты из произведений своего учителя – Ленина.
Ходила шутка-быль: «Троцкий жалуется: я ему цитату, а Сталин мне ссылку!»
Достоинством памяти Сталина являлось и то, как я заметил, что запоминание новой информации всегда происходило у него одновременно с точной оценкой.
Ничего в этом плане не было «в общем», – только по делу. Лишними сведениями он себя не загружал: необходимую справку легко находил в книгах.
Всё, что знал Сталин, ему помогало в политической борьбе. Конкретность и практическая направленность ума позволяли ему вовремя, к месту вспоминать нужные сведения.
Кроме того, у Сталина, по моим наблюдениям, была хорошая память на людей.
Не менее выдающейся, чем память, была у Сталина и способность к восприятию.
При общении Сталин был полностью нацелен на своего собеседника, всесторонне к нему расположен, абсолютно внимателен.
Пристальный взгляд в глаза в сочетании с активным слушанием, как я теперь понимал, помогал Сталину при оценке людей, в которых он, во всяком случае в отношении к себе лично, практически не ошибался.
В целом же его взгляду свойственно было спокойно-пристальное оценивающее выражение.
Он, по моему мнению, способен был обращать внимание на то, что другие не замечали, и придавать значение тому, что иные просто игнорировали.
Но такое ёмкое восприятие порождало и тревожность личности, которая выражалась «в бдительности, настороженности, недоверчивости».
По складу своего мышления Сталин всегда стремился к простоте выражения мысли и умел этого достигнуть.
То есть мог представить сложное в доходчивой и понятной форме, легко воспринимаемой простыми людьми: рабочими, колхозниками, служащими, партийными активистами. А это очень важно для политика – быть понятым сразу большим числом граждан. Тем более, когда излагаемое выступающий тесно связывает с теми действиями, к которым призывает, да ещё подкрепляет сведениями о собственных интересах слушателей, сформулированными всегда чётко и конкретно.
Сталин обладал практическим складом ума, необходимым государственному деятелю для выработки правильных и своевременных решений.
Он, по моему мнению, всегда трезво, реалистично и прагматично оценивал обстановку.
При этом в нём имелось умение правильно сочетать соотношение общего и единичного.
Образно говоря, видеть и лес в совокупности, и отдельные деревья в нём.
Это позволяло ему закладывать в принимаемые им решения здравый смысл, диктуемый и общей стратегией, и конкретными жизненными проблемами.
В чём Сталин превосходил своих соперников, – по-моему, так это в способности к гибкому и быстрому мышлению, то есть в сообразительности, в конкретной ситуации.
Это достигалось за счёт мгновенной оценки ситуации и всех её изменений, а также готовности сразу же, по ходу дела вносить необходимые коррективы в свои действия.
Выдающаяся воля Сталина также уже признавалась всеми.
По оценке старых большевиков, которые долго знали Сталина, – по энергетике воли Сталин несколько отставал от Ленина или Троцкого, зато у него была самая организованная воля. Это означает «способность к волевому контролю максимально широкого круга действий в максимально широком круге ситуации».
Но такое состояние опять же всегда порождает тревожность.
Сталин, как я заметил, никогда не проявлял, общаясь с людьми, высокомерия или снисходительности, но зато все и всегда должны были держать перед ним ответ по всей строгости и без всякого снисхождения.
В процессе анализа и размышлений, по моему мнению, политик может сколько угодно сомневаться, колебаться, испытывать неуверенность. И вот лишь когда ум всё «рассчитает и соотнесёт намерение с возможностью», только тогда, «внутренне определившись», настоящий политик подключит в полной мере свою сильную волю и проявит настойчивость в выполнении принятого решения.
Как раз Сталин, как показали события, среди всех иных соратников того же Ленина, часто просто увлекавшихся собственными идеями, был наиболее сбалансирован в этом отношении.
Вместе с тем при проведении решения в жизнь он был твёрд, но не упрям.
Если ситуация кардинально менялась, мог что-то пересмотреть. То есть анализ текущей информации и корректировка решения продолжались у Сталина и после того, как наступала стадия реализации.
Мне лично показалось, что психологически у него вообще не было окончательных оценок и выводов. При всей определённости своего мнения он всегда был готов что-то изменить или уточнить, если это подсказывалось ситуацией.
Конечно, в сталинских решениях часто много безжалостности и твёрдости, но никогда не присутствовало гнева.
Сталин, по моему глубокому мнению, был не кровожадным тираном, а являлся беспощадным полководцем, в сложнейшей внутренней и внешней обстановке поведшим за собой советских людей от полной разрухи и предательства к строительству могучей и великой державы.
И если на этом тернистом и неизведанном пути требовались определённые жертвы, то они неотвратимо приносились…
В общем, в психологическом плане Иосиф Виссарионович Сталин представлялся мне весьма цельной личностью, качества которой взаимно дополняли друг друга и тем самым определяли успешность его деятельности.
Придя к такому заключению, я вернулся мысленно к вопросу преобразований, которые задумал Сталин.
Итак, изменение внешнего и внутриполитического курсов означало на деле решительный отказ от ориентации на мировую революцию с провозглашением приоритета защиты национальных интересов и намерением закрепить всё это в Конституции страны.
В связи с этим ещё в 1933 году решением Политбюро Советский Союз перестал поддерживать все коммунистические и антиколониальные движения, выступления и восстания, которые порождали самоизоляцию страны Советов и её противостояние мировому сообществу.
Кардинально был изменён и курс Коминтерна. Вместо экспорта революции деятельность этой международной организации стала направляться теперь на предотвращение глобальной войны, на единство действий с социал-демократами и на объединение всех сил, способных защитить мир, то есть на создание народных фронтов.
Произошедшее в результате этого улучшение взаимоотношений с рядом государств привело к тому, что в 1934 году СССР приняли в Лигу Наций, которую ещё недавно революционеры клеймили как сугубо буржуазную организацию.
Это позволило Сталину начать активную работу по созданию системы безопасности в Европе.
Как известно, при моём действенном участии, 2 мая 1935 года СССР заключил с Францией договор, предусматривавший проведение немедленных консультаций в случае угрозы нападения на одну из сторон и оказание помощи той из них, которая стала объектом неспровоцированного нападения третьей европейской державы.
А 16 мая аналогичный по содержанию договор был подписан с Чехословакией. Советское руководство стремилось тем самым убедить западные демократии в своей надёжности как партнёра и возможного военного союзника, а также доказать, что с СССР следует взаимодействовать так, как он этого заслуживает в силу своего геополитического положения и экономического потенциала.
Это был достаточно серьёзный успех советской дипломатии…
Москва встретила меня августовской жарой…
Закинув скромные свои пожитки в номер гостиницы «Москва», где мне НКИД забронировало номер, я поспешил на улицу…
По улице Горького шли веселые демонстранты, по-летнему нарядные, почти все в белом. Я к ним присоединился…
Шесть стройных, загорелых девушек пришли в коротких спортивных туниках – видно, прямо со стадиона, – подумал я. Они держались за руки и кричали по слогам: «Фран-ко до-лой! Фран-ко долой!»
Митинг на Красной площади начался в пять часов дня. Была жара и страшная теснота.
Я так и не смог пробраться поближе к трибуне, но мне всё было отлично слышно через усилители.
Оратор призывал народы Советского Союза оказать материальную помощь бойцам Испании.
Как я узнал от ребят в колоне, с которыми познакомился по дороге сюда, что уже и до этого призыва, несколько недель на многих заводах идут сборы для Испании.
Заканчивая, оратор сказал:
– Трудящиеся Советского Союза, миллионы рабочих, объединенные в профессиональные союзы, создавшие социалистическое общество, выражают свою братскую солидарность с испанским народом, героически защищающим демократические завоевания от озверелых банд фашизма.
Как я узнал, эту демонстрацию не подготавливали, только сегодня утром её решили провести, – но она уже не первая.
И за это время, уже сколько успели сделать плакатов, надписей, огромных карикатур на испанских мятежников!
Франко был изображен с длинной седой бородой и в русской генеральской форме… рядом с ним несут попов-иезуитов и итальянского фашиста, у которого пасть открывается и защелкивается.
Всех волнует упоминание о германских и итальянских самолетах и пушках, посылаемых мятежникам.
Рабочие с шоколадной фабрики рядом со мной толковали: – не начало ли это войны, мировой?
Работница Быстрова сказала с трибуны: – Наши сердца с теми, кто сейчас кладет свои жизни в горах и на улицах Испании, защищая свободу своего народа. Мы шлем наше слово братской солидарности, наш пролетарский привет испанским рабочим и работницам, испанским женам и матерям, всему испанскому народу. Мы заявляем: помните, вы не одиноки, мы с вами.
Слесарь завода имени Сталина – Клевечко сказал: – В годы гражданской войны, когда мы, русские пролетарии, отражали натиск белогвардейцев и интервентов, нам помогали пролетарии Запада. Наш священный долг – помочь теперь морально и материально испанским братьям, героически отстаивающим свою свободу. Я предлагаю отчислить в пользу испанского народа полпроцента от месячного заработка и послать пламенный привет тем, кто сейчас с оружием в руках борется с фашистами!
Уже рабочие сборы в помощь испанским борцам за Республику дали сумму в 12 миллионов 145 тысяч рублей.
От имени ВЦСПС Шверник перевел эту сумму во франках, то есть 36 миллионов 435 тысяч франков, на имя премьер-министра Испании Хираля, в распоряжение испанского правительства.
После митинга все полтораста тысяч человек двинулись пить прохладительное.
На два километра кругом были «захвачены» все кафе, киоски с водой и мороженым.
Даже на Пушкинской площади надо было долго дожидаться бутылки лимонада.
Как я уже понял, начиная с конца июля, все тут начинают читать газеты с испанских событий.
– Но по телеграммам ничего не понятно, – говорят мне мои новые знакомые, рабочие «Красного Октября».
– Из Лондона ТАСС передает о занятии правительственными войсками какого-то Састаго на севере страны. У Севильи рабочие взорвали мост. В центре Гибралтарского пролива стоит большое итальянское судно, якобы занятое исправлением кабеля. Что за селение Састаго, важно ли оно? Кто хозяин в Севилье, фашисты или рабочие? Мятежники в пятидесяти километрах от Мадрида, а где правительство Республики?, – задавались они вопросами, а я вынужденно пожимал в неведении плечами, сохраняя своё инкогнито.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/georgiy-komissarov/poslannik-mid-kniga-chetvertaya-70313482/chitat-onlayn/?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
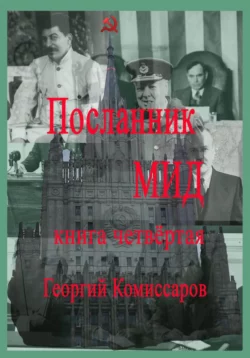
Георгий Комиссаров
Тип: электронная книга
Жанр: Шпионские детективы
Язык: на русском языке
Издательство: Автор
Дата публикации: 30.04.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Грозные 30-е годы ХХ века. Сражения шли не только на полях, в море и в небе. Менее кровопролитные, но не менее решающие шли и в тиши кабинетов, на светских раутах и просто в непринуждённых беседах различных государственных деятелей с работниками дипломатических миссий всех стран и рангов. Именно там создавались и рушились союзы, коалиции, тайные сговоры и пакты. Именно так мир развивался по той исторической линии, которую потом все изучают и утверждают, что это закономерности. А на самом деле кто-то «просто» пролил стакан воды на важные документы или бокал с шампанским на платье жены всемогущего премьера… Вот про эти «случайности» мировой политической истории эта книга. И про её скромных героев, благодаря которым мы всё ещё живы.Это продолжение цикла.Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно.