Порубежники. Далеко от Москвы
Порубежники. Далеко от Москвы
Петр Викторович Дубенко
16 век – для Руси тревожное грозное время. На глазах рушатся старые устои и через кровь, мучения, борьбу рождаются новые. А на рубежах молодое государство терзают внешние враги. В этой обстановке далеко от Москвы, в верховьях Оки живут простые люди: любят, растят детей, мечтают. Но совсем скоро перед ними встанет непростой выбор. И сделать его придётся каждому.
Петр Дубенко
Порубежники. Далеко от Москвы
КНИГА ПЕРВАЯ
Перевяжите вену – вы вызовете болезнь. Перегородите реку – поднимется наводнение. Преградите будущее – начнутся революции.
Виктор Гюго
Часть первая
Глава первая
Все восемнадцать лет жизни князь Андрей Петрович Бобриков свято верил, что однажды злодейка-судьба непременно воздаст ему за страдания, а потому терпеливо ждал этого дня и однажды, дождался.
Причин считать свою долю незавидной он имел предостаточно. Отец его, Пётр Иванович, происходил из рода знатного, но обмельчавшего настолько, что Бобриковы владели самой маленькой вотчиной среди всех верховски?х княжеств – земель по обе стороны Оки в её верхнем течении. Столицей служил небольшой городишко: слободка из дюжины дворов, посад на три десятка домов и тесный детинец с обычным пятистенком вместо терема князя[1 - Детинец – центральная и наиболее укреплённая часть города, внутренняя цитадель; поса?д – часть города за пределами детинца, с крепостной стеной или без неё; слобода – отдельное поселение около города, население которого временно освобождалось от местных повинностей.]. Всё это сгрудилось на вершине каменистого холма с высоким обрывистом склоном. У его подножия в Оку падал мелководный Бобрик. В одном месте он сильно раздавался вширь, из-за чего вода становилась почти неподвижной, и над её поверхностью выступали верхушки камней. Прыгая по ним, можно было пересечь реку не замочив ног, поэтому брод назывался Ленивым. А за ним уже начиналось то самое Дикое поле – первобытный мир, что испокон веку манил русских людей безграничной волей и пугал волчьей лютостью царивших там законов.
Оттуда каждый год приходила беда. То налетят стремительным вихрем черкесы, то огненным смерчем пройдут ногайцы, то прокатится крымская орда, а то нагрянет за поживой шайка степных бродяг без роду и племени. С кем-то из них и рубился Пётр Иванович на Ленивом броде поздней осенью 1545 года, пока слуги и повитуха суетились у постели молодой княгини, что готовилась разрешиться первенцем. За ночь защитники отбили четыре приступа, и на рассвете незваные гости собрались уходить, но перед этим в порыве бессильной злобы обрушили на переправу ливень стрел. И одна из них угодила князю в шею чуть выше ключицы, задев яремную вену. За пару мгновений Пётр Иванович потерял столько крови, что уже не мог стоять на ногах. Его принесли в терем, уложили на кровать. Сутки семейный священник не отходил от образов, а знахарь смазывал страшную рану вонючим зельем и поил князя секретным отваром. Но всё оказалось тщетно, и когда старая холопка прибежала из женской части хором с радостной вестью, в опочивальне князя её встретили скорбным молчанием.
Так, едва появившись на свет, Андрей Петрович остался без отца. А вскоре потерял и мать. Ирина Ивановна была дочерью князя Ивана Васильевича Белёвского. Господь подарил ему ещё четырёх сыновей, но до зрелых лет дожил лишь один. И как единственный наследник Иван Иванович всегда видел в сестре обузу – хочешь, не хочешь, а закон обязывал выделить ей на жизнь кусок общих семейных владений. А отдавать не хотелось. Не для того предки пядь за пядью собирали эти земли, чтобы теперь вот так разбазаривать их, отдавая всяким проходимцам только за то, что они женились на засидевшейся в девках дуре. Поэтому, когда сразу после смерти отца подвернулся случай отдать Ирину за небогатого и захиревшего князька, Иван Иванович даже не раздумывал – ведь Пётр Иванович Бобриков так стремился породниться с богатым знатным семейством, что согласился взять сестру Белёвского князя почти без приданого.
В гибели Петра Ивановича белёвский князь увидел возможность полностью прибрать к рукам владения южного соседа. Ведь Иван Иванович как ближайший родственник мог стать опекуном новорожденного княжича и до его взрослых лет распоряжаться Бобриком как душе угодно. Правда, по всем порядкам, законам и обычаям опекать Андрея должна была мать. Но после семейного совета, что проходил за плотно закрытой дверью, Ирина Ивановна нежданно объявила, что уходит от постылой мирской жизни в монастырь, а двухмесячного сына доверяет заботам старшего брата.
О том, как именно белёвский князь заставил сестру сделать это, ходили самые разные слухи, один несусветней другого. Спросить бы у самой Ирины Ивановны, да спустя четыре года после пострига она скончалась в Оптиной пустоши, о чём Андрей узнал только в 11 лет.
Первым делом попечитель избавился от огнищного тиуна[2 - Огнищный тиун – старший управляющий княжеским хозяйством.], который верой-правдой служил не только Петру Ивановичу, но помнил ещё его деда. Сначала Иван Иванович отстранил его на время, а потом вовсе дал путь чист: в таком городишке свой управляющий ни к чему, со столь малым хозяйством справятся его люди, которые будут приезжать раз в месяц. Остальная дворня, устрашённая печальной судьбой старого тиуна, перечить уже не посмела.
Иван Иванович сразу же взялся за дело, и от его неустанных хлопот княжество, без того не шибко цветущее, с каждым годом скудело всё больше. Через пять лет в казне уже не осталось даже полушки, а по амбарам насквозь гулял ветер. И чтобы малолетний Бобриков не голодал и худо-бедно мог содержать десяток воинских людей, белёвский князь от имени племянника каждый год брал взаймы у самого себя немаленькую сумму, половина которой даже не приходила в Бобрик, под множеством благовидных предлогов оставаясь в Белёве. Долги росли как снежный ком, и поскольку отдавать их было не чем, Иван Иванович начал в счёт уплаты отрезать куски от опекаемых земель.
Благодаря такой заботе за двенадцать лет владения Бобриковых уменьшились настолько, что теперь их из конца в конец за один день пешком прошёл бы и хромой калека. Поначалу всё это не печалило малолетнего князя. Отроком он уже начал понимать, что происходит, но по закону слова в делах ещё не имел. А к тому времени, когда достиг, наконец, взрослых лет и вознамерился взять всё в свои руки, долг перед дядей вырос до таких чудовищных размеров, что стоило Белёвскому потребовать уплаты хотя бы десятой его части, и юный князь Бобриков пошел бы по миру с сумой. Так что, даже став совершеннолетним, Андрей Петрович продолжал терпеть опеку дяди.
Пользуясь этим, Иван Иванович гнул свою линию и через пару лет предложил племяннику вовсе отказаться от владений.
– Сам посуди, на что тебе сия маета? – мягким вкрадчивым голосом объяснял он. – Поднять хозяйство не под силу, только пуп надрываешь зря. А мне земли уступишь, и заботам конец. Я тебя из Бобрика гнать не буду, разрешу остаться, по-свойски. Ну, племянник всё же.
Возмущенный Андрей, не ответив, вышел вон и даже хлопнул дверью. Но потом, остыв, в сотый раз пересчитал гроши в казне и понял, что ему, урождённому князю, потомку Рюрика, придётся стать безземельной голытьбой и жить на подачки богатой родни.
Так бы и случилось в самой скорости, однако 17 января 1558 года войско великого князя московского вторглось в Ливонские переделы. И пусть от Бобрика их отделяла тысяча вёрст, именно это событие самым решительным образом изменило судьбу юного князя.
Началась война удачно. «Братство рыцарей Христа Ливонии», что зиждилось на древних орденских началах и воевало по старинке, не смогло дать достойный отпор. Русские полки, у которых уже имелись волконеи[3 - Волконея – (стар. от искаженного иностранного «фальконет») мелкокалиберная, короткая пищаль.], пищали и даже большие осадные пушки, легко разбивали рыцарей в поле и брали крепость за крепостью. Очень быстро стало ясно: орден доживает последние дни. И это вдохновило всех его соседей. Они тоже хотели получить кусочек от ливонского наследства. А потому, одной рукой помогая уже обречённым рыцарям сопротивляться русским варварам в восточных землях ордена, другой они торопливо рвали его западную часть. Пока московские воеводы осаждали и штурмом брали города, ландсмейстер Кетлер добровольно уступил шведам Ревель, за тридцать тысяч таллеров продал датчанам остров Эзель, после чего признал себя вассалом Сигизмунда – короля Польши и великого князя Литовского в одном лице.
Так стало ясно, что в скором времени Москва неизбежно схватится с Литвой. И тут, конечно, вспомнили, что всего сто лет назад многие верховские князья служили Вильно, даже воевали против русского царя. И далеко не все ушли под руку Москвы добровольно, многих пришлось покорять огнём и мечом, так что кое-кто до сих пор грезил обратным переходом. И если в мирную пору даже Иван Васильевич, неспроста названный Грозным, часто смотрел сквозь пальцы на выходки верховских князей, то на пороге войны любая оплошность могла стать для них роковой.
Никто не знал в точности, что именно послужило поводом для опалы белёвского князя. Одни верили, что Иван Иванович пострадал без вины, ибо слугу более верного царь вряд ли сыскал бы во всём порубежье. Другие говорили, что он и прежде позволял себе многое, и его верёвочка вилась слишком долго. Как бы то ни было, но в один из летних дней белёвского князя схватили, заковали в кандалы и отправили на Вологодчину, в Белозёрский монастырь.
Там Иван Иванович и скончался 24 августа 1563 года. А поскольку детей завести он не успел, и братьев у него не осталось, то единственным наследником становился сын сестры. Вот так, нежданно-негаданно, восемнадцатилетний Андрей Петрович Бобриков из горемычного сироты и обиженца, стал вдруг владельцем Белёвского княжества – одного из самых больших и богатых во всём верхнем Поочье.
На девятый день после смерти дяди Андрей Петрович собрался в Белёв, чтобы устроить там достойные сороковины, а после вступить в законное наследство. Ранним утром, едва розовый свет зари разлился над детинцем, юный князь вышел из терема, готовый к дальней дороге. Старая отцовская шуба на щуплом мальчишке висела мешком, так что по?лы стелились по земле. На выходной шапке в соболиный околыш, изрядно потраченный молью, вклинились куски заячьих шкурок. Крупная серебряная пряха с семейным гербом украшала простой тканевый пояс. Сапоги сверкали до блеска начищенной яловой кожей, но каблуки без подков сточились чуть не до подошвы.
У крыльца ожидала свита: два послужильца, двое огнищан и один домашний слуга. Андрей Петрович, конечно, хотел взять людей побольше. Хорошо бы десятка три, но в конюшне нашлось всего шесть лошадей, а въезжать в Белёв с караваном подвод князю не пристало.
К неудовольствию семейного попа Андрей Петрович даже не дослушал его молитву, легко впрыгнул в седло и, не оглянувшись на отчий дом, ткнул пятками в конские бока. За ним тронулся весь небольшой отряд. Сначала они шагом пересекли лобное место. Застеленный досками пятачок справа упирался в длинный барак гридницы[4 - Гридница – большое помещение для рядовых дружинников (гридей) в княжеском дворце], гнилые брёвна которой почернели от старости и заросли цветущим мхом. Слева от площади плотной цепью тянулись конюшня, сенники, склады и амбары, половина которых пустовала, а потому прорехи в их соломенных крышах последние лет десять даже не латали.
За церквушкой с единственным деревянным куполом и покосившимся крестом всадники пустили коней в лёгкую рысь. Миновали дубовые ворота, по обе стороны которых над невысоким частоколом торчали маленькие стрельни, и оказались на мосту через ров шириной в три сажени. За ним начинался посад, втиснутый меж Бобриком и его старым руслом, которое теперь превратилось в заросший заболоченный овраг с крутым обрывистым краем. С обеих сторон единственной улицы, прямой, как стрела, лепились друг к другу тесные дворы: низкие щелястые заборы из горбылей; срубы с кровлей из старой соломы; сараи и плетеные пуни. В их беспорядочную гущу уползали узкие проходы, где не разойтись было и двум встречным.
Внешней границей посада тоже служил ров длиной шагов триста, соединявший речной овраг с балкой. Дальше начиналась слобода – около сотни отдельных дворов раскидало вдоль тёмно-жёлтой ленты дороги, которая у края поселения разделялась надвое: одна часть уходила на север – к Белёву, другая на юг – к Ленивому броду. У развилки Андрей Петрович остановил коня и обернулся. И пусть Бобрик ещё скрывала полутьма незрелого рассвета, юный князь легко узнал в смутных размазанных очертаниях знакомый город. Узнал и злорадно улыбнулся. Сегодня он покидал это проклятое место, в котором безвыездно провёл восемнадцать лет, полных унижений, душевной боли и потаённых слёз. Покидал, твёрдо уверенный в том, что больше сюда никогда не вернётся.
Глава вторая
За двадцать вёрст Андрей Петрович не сделал ни одного привала и перестал хлестать коня, лишь когда разглядел на горизонте Белёв, над которым высоко в небе парил огромный янтарный шар – это сверкал позолотой купол Успенского собора. Тёплый ласковый свет разливался над городом и посадом, отражался в голубых лентах рек и казался юному князю торжественным, благодатным знаменьем, возвещавшим о начале новой жизни. Счастливой, радостной и полной великих свершений.
Правда, когда Андрей Петрович въехал в Завырскую слободу, на мгновение ему показалось, что он просто дал большой круг и вернулся обратно в Бобрик. Повсюду встречались ему заросшие дёрном землянки и неказистые избушки, от которых за версту разило гнилой репой и прелым зерном – знакомый с детства запах нищеты. Но вскоре князь увидел детинец, с севера и юга стиснутый меж Белёвкой и Выркой. Две мелководные речушки за версту друг от друга падали в Оку, что подпирала городскую цитадель с востока. По берегам вдоль крутого обрыва тянулись дубовые тара?сы[5 - Тараса – часть крепостной стены в виде прямоугольного сруба, засыпанная землёй и камнем.] в два человеческих роста, а над ними ещё на сажень поднимались вышки стрелен с щелями бойниц.
Дорога, пройдя сквозь слободу, вывела к широкому мосту, на другом конце которого высилась трёхэтажная громада проезжей башни – брёвен, что ушли только на её постройку, вполне хватило бы на два ряда частокола вокруг всего Бобрика. Проехав через захаб – узкий коридор длиной шагов двадцать, который кончался подъемной решёткой из толстых прутьев – Андрей Петрович попал в детинец. Его неровный прямоугольник от Козельской проезжей башни до Болховской наискось рассекала широкая лента единственной улицы. С правой её стороны стояли дома местных огнищан – крытые осиновой дранкой многостенные срубы на каменных подклетах. Слева в три ровных, словно по линейке расчерченных ряда, тянулись бараки амбаров, складов и житниц, а также конюшня с повозником и сеновалом.
В центре кремля улица растекалась в большое бесформенное пятно лобного места, сплошь замощённого булыгой. Во главе площади, на самом высоком месте тянулся к небу главный городской собор: белокаменные стены украшал узор затейливой лепнины; глубоко утопленные стрельчатые окна сверкали разноцветным стеклом; над ломаной многоугольной крышей высоко взмывала звонница, которую венчал золотой купол с большим восьмиконечным крестом. При виде такой красоты Андрей Петрович восхищенно присвистнул, но когда увидел терем, то даже не заметил, как широко разинул рот в беззвучном возгласе восторга. Это были двухэтажные хоромы из брёвен в обхват толщиной с просторным высоким крыльцом под навесом на резных столбах и широкой лестницей в два пролёта; с прирубом для домашних слуг на одном торце и огромной поварней на другом; с широким крытым гульбищем[6 - Гульбище – терраса или галерея, является характерным элементом русской деревянной архитектуры.], где и сотне человек не стало бы тесно; с тёсаной крышей, над которой торчали кирпичная труба и луковки двух повалуш[7 - Повалу?ша – башня в комплексе жилых хором.].
Но ещё больше потрясло князя то, что он увидел внутри. В главной горнице – она одна оказалась раза в два больше княжеских хором в Бобрике – пол сплошь покрывали домотканые ковры разных цветов и размеров. На трёх стенах висели медвежьи и бычьи шкуры, а заднюю, глухую, почти полностью занимала кирпичная печь в расписанных изразцах. Стол, за которым могло свободно разместиться два десятка человек, заполнила серебряная утварь, в центре стоял шестиголовый бронзовый подсвечник, а над ним с потолочной матки нависала большая лампада. В красном углу начищенной позолотой сверкал подвесной трёхстворчатый киот с пятью иконами в лакированном окладе.
От одной только мысли, что всё это богатство, красота и роскошь теперь принадлежат ему, у юного князя кружилась голова и путались мысли. С малых лет влача жалкое существование в убогом нищем мирке, Андрей Петрович, догадывался, конечно, что где-то есть другая жизнь – чудесная, безбедная, полная земных радостей. Бурная детская фантазия часто рисовала её, эту другую жизнь, но даже в самых смелых мечтах маленький Андрейка не видел и десятой части того, с чем столкнулся в Белёве. И уж тем паче неимущий бесправный княжич сроду не смел подумать, что когда-нибудь войдёт в этот прекрасный мир как его полноправный хозяин.
Первым делом Андрей Петрович распорядился собрать всех белёвских огнищан. Вскоре перед ним стояли два десятка человек, и каждый в руках держал огромные писчие книги или стопки тетрадок. Князь медленно прошёлся вдоль строя, просто скользя взглядом по испуганным растерянным лицам, но у края шеренги задержался, внимательно посмотрел на невысокого мужчину с большим округлым животом и узкими плечами. Это был старший тиун Белёва. По нескольку раз в год без малого десять лет он приезжал в Бобрик и вёл себя там по-хозяйски нагло, распоряжался в чужой вотчине как законный её владелец. Теперь же в покорной рабской позе замер перед юным князем и по-собачьи заглядывал в глаза господину, стараясь угадать его мысли. Андрею Петровичу это польстило, и он властно потребовал с довольной усмешкой:
– Сесть найди.
Тиун с готовностью пробежал к изголовью стола, выдвинул большое массивное кресло, поднял его, покраснев от натуги, и засеменил обратно. Андрей Петрович дождался, пока тиун поставил кресло рядом с ним, а потом отошёл на несколько шагов и ткнул пальцем в пол:
– Сюда.
Плюхнувшись на мягкое сиденье, Андрей Петрович откинулся назад и широко, по-хозяйски расставил ноги.
– Ну вот что. Как тебя? – Не дождавшись ответа, князь небрежно махнул рукой и продолжил. – Мне на тиунском месте верный человек надобен. Дабы я ему как себе верил. Сам понимаешь, сие не ты. Отныне из моих людей тиун будет.
Андрей Петрович повернулся к бобринцам, которые стояли чуть в стороне, и коротким жестом подозвал одного из них. Невысокий сухой человек вздрогнул и растерянно огляделся, словно не верил, что князь обратился к нему. Ростом и сложеньем он больше походил на мальчика-подростка, но морщинистое лицо, почти лысая голова с остатками редких волос и длинная седая борода выдавали его немалый возраст.
– Вот Захар Лукич Бобышев. Люби и жалуй.
В Бобрике все знали, как Андрей Петрович привязан к старому холопу. Ведь с малых лет князя Захар Лукич Бобышев был при нём сразу нянькой, учителем, матерью и отцом. В иные особо трудные зимы, когда в житницах Бобрика становилось хоть шаром покати, только заботы Захара Лукича, его добычливость и сметка спасали маленького князя от голодной смерти. Потому решение Андрея Петровича не удивило никого из бобринцев. Кроме Захара Лукича. Тот не на шутку испугался и на какой-то миг даже потерял дар речи, а когда он к нему вернулся, Андрей Петрович не позволил возразить.
– Время даром не теряй, Захар Лукич. Сразу за дело берись! – князь говорил деловито, с уверенным напором, но на гласных голос ломался, выдавая волнение. – Сыщи мне всех недоимщиков. Хоть бы кто и полушку должен, всё одно – в роспись их. Разумеешь? А коли так, не медли. Тем паче посошные книги все тут.
Андрей Петрович широким движением руки обвёл неровный строй белёвцев, а потом указал на стол.
– Сносите. А ты, Захар Лукич, нынче же проведай, кто из них кто есть, и каждому замену подбери. Из наших, бобринских. – По толпе приказчиков пробежал сдержанный ропот. Андрей Петрович сурово сдвинул брови и повысил голос. – А как хотели? Мне огнищанам доверять надобно. А вы меня сколько лет обирали? Так что нынче не взыщите. Ну, чего остолбенели? Сноси книги, сказано.
Первым подчинился теперь уже бывший тиун. Он подошёл к столу и молча положил на него большую печать с золотой цепочкой. Это стало сигналом для остальных, и они друг за другом вереницей потянулись через горницу.
– А ты, Захар Лукич. – Андрей Петрович повернулся к новому тиуну. – Всё проверь и каждого, кто хоть полушку задолжал, в особый список. Отдашь его Ваське Филину. А ты время не теряй, недоимщиков сразу в оборот и хоть душу вытряси, но пусть всё выложат. Понял?
Не получив ответа, князь посмотрел на горстку своих людей. Взгляд его остановился на невысоком кряжистом бобринце, который нарочито стоял в стороне ото всех, даже от земляков. На левом боку у него висела дорогая сабля, на правом – длинный турецкий кинжал, но при этом кафтан из дорогой малиновой ткани едва сходился на животе, что небольшой складкой свисал над кожаным ремнём. Розовощёкое лицо с полными губами и прямым точёным носом могло бы считаться красивым, но всё портил уродливый обрубок, торчащий вместо левого уха. Плечом привалившись к бревенчатой стене, Васька Филин с мечтательной улыбкой следил за сенной девкой, что суетилась у стола, выставляя блюда с угощением и большой серебряный кувшин.
– Слышишь, что ли, Васька?!
Филин вздрогнул, растерянно огляделся и безотчётно тронул пальцами остатки уха. Он лишился его три года назад. Тогда известный на весь Бобрик потаскун подкараулил в подклете юную холопку с княжеской поварни, но та не далась добром, а когда Филин попытался взять её силой, зубами вцепилась ему в ухо и не отпустила, пока на Васькин вой не сбежалась вся домашняя челядь. Это случай стал единственным, когда Филин получил отпор и не смог добиться своего. Правда, спустя две недели девушка вдруг бесследно исчезла, а потом её случайно нашли в Оке, сильно посечённую кнутом, с ожогами по всему телу и без левого уха.
– Да, Андрей Петрович, чего?
– Чего-о-о… – раздражённо передразнил князь. – Говорю, возьмёшь у Захар Лукича список недоимщиков, и чтоб всё, до полушки.
– Понял, ага. – кивнул Филин и расплылся в довольной улыбке.
– Вот то-то. – строго сказал князь и повернулся к другому бобринцу. – Тонко?й, Сидор Михайлович, с тобой теперя.
Вперёд с готовностью шагнул высокий и худощавый мужчина лет сорока. Кудлатая копна русых волос, оттенённая бронзовой кожей, казалась белоснежной. Узкий лоб, сильно выпиравшие скулы, болезненно впалые щёки и острый голый подбородок – всё это делало лицо похожим на хомячью мордочку, и разбавляли сходство лишь густые вислые усы с концами кисточкой.
– Ратным головой отныне будешь. – сообщил Андрей Петрович и взглядом отыскал бывшего тиуна. – Сколько здесь послужильцев?
– Двадцать восемь. – глухо ответил тот, не поднимая головы.
– Да наших девять. Итого – тридцать семь. Так что из своих трёх десятников подбери.
Сидор поморщился словно от внезапной зубной боли.
– Помилуй бог, Андрей Петрович. Надо ли? – натужно прохрипел Тонкой, большим пальцем потирая красное пятно на гортани.
Когда-то давно в это место вонзилась крымская стрела. Рана оказалась не опасной, но с тех пор Сидор не мог говорить нормально – голос звучал хрипло и натужно, будто каждое слово давалось с трудом. Потому говорил Сидор мало, отрывисто и грубо, будто лаял старый цепной пёс, шею которого до кровавых мозолей истёр стальной ошейник.
– Может, прежних оставить? От греха подале.
– Какого такого греха? – Князю казалось, что он говорит сурово и властно, хотя голос его прыгнул почти до визга. – Это что же? Мне своих же холопов опасаться, стало быть? А может, мне разрешения княжить у них спросить ещё? Городишь не пойми что.
– Да не в опаске дело. Тут, Андрей Петрович, другое. Десятным оно ведь как – не каждый смогёт. Тут особый норов надобен.
– Потому и говорю наперёд. – раздражённо ответил Бобриков. – Подумай, кого прочишь? Тебе в сём деле, никак, видней меня, вот и думай. А мне не досуг. Всё.
Андрей Петрович жестом остановил возражения Тонкого и, откинувшись в кресле, капризно надул губы.
– Пущай велят обед подавать. Нешто мне голодным целый день сидеть?
Глава третья
Так уж случилось, что местом сбора для белёвских послужильцев всегда была конюшня. Когда-то давно имелась в кремле гридница, но потом её снесли, а посещать кабак на посаде покойный князь запрещал под страхом тяжких наказаний. Поэтому обсудить насущные дела или просто потрепаться ни о чём, когда на это находилось время, городские ратники зимой собирались в большой пристройке, где хранились сбруя, седла и попоны, а летом – у загона для объездки жеребят. Туда-то и отправился Сидор Тонкой сразу после разговора с князем.
Двадцать пять послужильцев обступили его полукругом и подавлено молчали, лишь иногда в гнетущей тишине слышался чей-то печальный вздох. Чуть впереди всех стоял теперь уже бывший ратный голова – Корней Семикоп. Поджарый ветеран с покривлённым носом и выпуклым шрамом на левой щеке за одно утро постарел на два десятка лет: плечи опустились, спина сгорбилась, и даже морщин на лице, казалось, стало вдвое больше.
– Да уж, выслужил за двадцать лет награду, – криво усмехнулся он, выслушав Тонкого.
Сидор пожал одним плечом, избегая смотреть Семикопу в глаза. Хотел было сказать, мол, не держи зла, не моя на то воля, но решил, что в разговоре с подначальным людом это ни к чему. Ещё подумают вдруг, что он лебезит перед ними. А потому, наоборот, добавил сухо и холодно:
– Десятников тоже… Ну, того. Новых ставить буду. Так что…
– Погодь-ка, – раздался в ответ низкий гудящий бас и вперёд вышел один из десятников.
Фёдор Клыков походил на пень векового дуба с двумя толстыми корнями вместо ног. Крупная косматая голова в длинных и густых каштановых кудрях сидела на бычьей шее. Пышная борода делала без того квадратный подбородок ещё крупней и тяжелее.
– Сдаётся, рано ты, мил человек, нас хоронишь. – Клыков встал рядом с Корнеем, порывистым движением сорвал с головы рыжий лисий малахай и повернулся к послужильцам. – Мыслю так: мы хоть и холопы княжьи, а всё же не рабы. Власть князей она, конечно, от бога, спору нет, да нынче не старое время. Нынче над князьями тоже божья власть есть – царь. А он за служилых людей стоит. И собор земской по всеобщему слову неспроста новые правды народу даёт. А по ним выходит, дескать, хоть ты и князь, а служилый люд забижать не моги. Потому как наша кровь в порубежье мир держит, и, стало быть, нам слово иметь до?лжно. Верно?
По рядам послужильцев пробежал сдержанный одобрительный ропот.
– Верно! – подтвердил Илья Целищев, молодой ратник в лихо заломленном колпаке. – В прошлый год на козельском рынке слыхал, дескать, князей да бояр великий князь в кулак жмёт, а служилым людям почёт и уважение.
– Вот-вот. Всё нынче по-другому станет. Так что неча молчать, братцы. – Запальчиво продолжил Фёдор, так и не дождавшись ответа от остальных. – Ведь и в пьянку-то с кем ни по?падя не сядешь. А уж на сечу идти – подавно. Корней Давыдович у нас уж тринадцать лет голова. Мы его как облупленного знаем и как себе верим. А ты, мил человек, уж не забижайся на нас, но тебя мы вперво?й видае?м, и каков ты в деле есть, ведать не ведаем. Може, ты уме?лей нас вместе взятых, а може, мордофиля дыролобый. В перво?м же деле по дурости сам пропадёшь и нас всех погубишь. Быват таково?
– Ещё как быват! – опять за всех выкрикнул Целищев.
Сидор хотел возразить, но тут в разговор вступил самый старший послужилец Платон Житников. На крупной его голове почти не осталось волос, лишь на затылке и висках ещё белели короткие жидкие пряди, зато седая борода густой лопатой свисала до середины груди.
– Ну, покуда говоришь ты верно, Фёдор Степанович. Токмо к чему ведёшь, никак в толк не возьму.
– К тому, чтобы собраться всем миром и князю поклон бить, – объяснил Фёдор. – Мол, милости просим. Пущай над ратью старшим Семикоп останется. Его человек, бобринец этот, он, може, не хужей нас всех разом взятых, а всё же… Не ведаем, каков он, и в бой за ним иттить нам опасливо. Потому за Корнея просим.
– Эка… князю, стало быть, перечить? – осторожно вставил Роман Барсук по прозвищу Зяблик. – Как бы с того беды не вышло.
– Беда, Ромка, уже вышла, – возразил Клыков. – Товарищей ваших, аки псов шелудивых, под зад коленом гонят. И ежели ты мнишь, что вас сия доля минует, так зря. Сперва Корнея, после нас, десятников, а там и за вас возьмутся.
– А дело Фёдор Степанович толкует, – согласился Ларион Недорубов, поглаживая жидкую бородку ладонью, на которой не хватало мизинца.
– Верно! – поддержал его Целищев, и следом подали голос ещё несколько послужильцев.
Фёдор с благодарностью кивнул каждому из них и, приободрившись, хотел продолжить, но тут из толпы вышел Кудеяр Тишенков. Это был не обычный послужилец, его покойный князь держал при себе для особых поручений. Каких именно – никто не знал.
– Так ты, Фёдор Степанович, по совести нынче скажи… – нерешительно начал он. – Взаправду об Корнее и всех нас радеешь, али свой шкурный интерес блюдешь?
– Чего? – растерянно переспросил Клыков. – Каков интерес?
– Каков интерес… – усмехнулся Тишенков, избегая смотреть на Клыкова. – С десятников слететь не хочешь, вот каков.
Клыков быстро пришёл в себя и даже рассмеялся в ответ на такой упрёк.
– Ну, братцы. Сколь годов я служилую лямку тащу? Шестнадцать? А десятником стал – без году неделя. Так что я за сей чин не держусь. Допрежь того без него не тужил и дальше б тужить не стал.
– Это ещё с какого боку гля-я-я-януть… – возразил Кудеяр, со значением растягивая предпоследний слог и поглаживая свою жидкую бороденку – единственное, что росло на его бледно-желтом безбровом лице. Обычно гладкое, как репа, в ехидной улыбке оно словно потрескалось, разойдясь от уголков рта крупными морщинами. – Всем ведомо, за ради чего тебе князь, упокой господь его душу грешную, десятство дал. Чтоб Сёмку сосватать, не инше.
О предстоящей женитьбе младшего Клыкова судачил чуть ли не весь Белёв. А всё потому, что жених и невеста жили хоть и в одном городе, да в разных мирах, не имевших ничего общего. Семён Клыков – единственный сын боевого холопа, готовился в скором времени, едва исполнится пятнадцать, тоже стать послужильцем, каким был его дед, прадед и ещё более дальние предки. А вот отец его невесты Лады – Елизар Устинович Горшеня служил старшим закромщиком[8 - Закромщик – амбарный, хлебный смотритель, ключник.]. Весь хлеб, что поступал в белёвские амбары, проходил через Горшеню, и без его ведома никто не получал из княжеских запасов даже крошки.
Потомством бог наградил Горшеню щедро. Первая жена родила ему пять мальчишек, а вторая подарила девочку. Сыновей Елизар Андреевич ценил только как работников, которым не приходится платить, а дочку надеялся как можно выгодней продать, то есть отдать замуж. Среди княжеской дворни каждый мечтал породниться с Горшеней. Так что женихи вились роем – один завиднее другого. Но угораздило красну девицу на масленой забаве повстречать Семёна Клыкова.
С того дня Лада и Семён даже думать не хотели о других женихе или невесте. Да вот беда – оба родителя встали на дыбы. Ибо где такое видано, чтобы единственный сын почтенного служильца женился на дочери чернильной крысы, выжиги и скупердяя. Да и какой же закромщик отдаст дочь замуж за огрызка тупоумного рубаки. На том бы всё и кончилось, не будь влюблённый юноша из Клыковых, на весь Белёв известных дурной прытью и упрямством. Семён заявил, что женится только на Ладе, и твёрдо стоял на своём. Фёдор испробовал всё. Сначала пытался образумить сына, увещевал житейской мудростью, мол, не в свои сани не садись. Потом стал грозиться, а после дошёл и до наказаний. Но всё было тщетно. И тогда он решил насильно женить сына на дочери Платона Житникова.
Будущие сваты уже назначили день свадьбы, готовилось приданое, когда Фёдор, задавая корм лошади, случайно нашёл в ворохе сена узловатую верёвку с крюком на конце. А ещё заплечный мешок, со снедью – как раз на двух беглецов. В ярости Фёдор выволок сына на улицу и выпорол до полусмерти, но, перед тем как потерять сознание, Семён успел сказать три слова:
– Всё одно – сбегу.
Вот тут Фёдор и сдался. Знал ведь, что сын пошёл в него не только видом, но и норовом. И уж если что втемяшилось ему в башку, так хоть кол на ней теши, а хочешь, с плеч долой снеси – не отступится. Либо своего добьётся, либо кончит плохо. А ведь во всём огромном мире у Фёдора не осталось никого, один только Сёмка. Он родился уже через девять месяцев после свадьбы и Фёдор, которому тогда едва исполнилось семнадцать, на крыльях летал от счастья. Но дальше как отрезало, и за восемь лет брака больше детей господь Фёдору не дал. А потом неведомая хворь сожрала мать Семёна. Она сгорела на глазах. Изошла кровавой рвотой и поносом, всего за неделю из цветущей пышнотелой бабы превратилась в обтянутый кожей скелет. Местный батюшка по привычке объяснил необъяснимое наказаньем божьим. И хотя Фёдор, как ни старался, не смог вспомнить своих грехов, за которые могла бы так пострадать жена, всё же в словах протоирея сомневаться не посмел. А раз так, чтобы его вина не испортила жизнь кому-то другому, решил больше не жениться. Иногда, конечно, по мужскому естеству ходил к какой-нибудь марухе, но о женитьбе не думал. Так и жили они с Сёмкой – одни на всём белом свете. Так что, как бы ни был суров и горяч Фёдор Степанович Клыков, но при одной только мысли, что может лишиться сына, от ужаса в жилах у него стыла кровь.
И Фёдор смирился с выбором Семёна: уже следующим утром единственный раз в жизни пошёл на поклон к господину. Иван Иванович принял просьбу благосклонно и обещал помочь. Князю Горшеня, понятно, отказать не мог, а чтобы Елизару проще далось согласие, покойный Иван Иванович сделал Клыкова десятником. На декабрь назначили свадьбу, Сёмка ожил, окрылился и начал приводить в порядок холостяцкий дом.
Никто не сомневался: если Фёдор Клыков слетит с десятников, Горшеня тут же ухватится за это и отменит свадьбу. На что и намекал Тишенков.
– Боишься, что вильнёт Горшеня, потому и взвился, – заявил он, наконец найдя в себе силы поднять голову и посмотреть на Фёдора, при этом глаз Тишенкова нервно задёргался. – Сам на рожон лезешь – это ладно, дело твоё. А нас в свою крамолу не тяни! Мы за твой барыш страдать не желаем.
– Да ты меня… В чём винишь… паскуда? Что я за свой барыш брато?в продать хочу? Да я…
Густые брови Клыкова сошлись к переносице, глаза из светло-голубых стали тёмно-лиловыми, а ладони сжались в кулаки – по пуду каждый. Но когда Фёдор уже шагнул к Тишенкову, между ними появился второй десятник.
Иван Пудышев при росте без малого в сажень был тощ, как осиновая жердь. Длинные худые ноги напоминали ходули, а руки из костей и сухожилий доставали чуть не до колен. Тонкий крючковатый нос и густой ёршик коротких волос делали его похожим на ястреба, а тяжёлый взгляд сощуренных мутно-серых глаз усиливал это сходство.
– Погодьте сва?риться. – Иван в стороны раскинул руки, уперев их в грудь Клыкова и Тишенкова. – Не об том здесь дело.
– И то верно. Как быть решаем, а вы тут… – Ларион Недорубов тоже встал промеж спорщиков и, чтоб повернуть разговор, робко предложил. – Коль так, давай, Иван Афанасьевич, и ты скажи слово. Тоже, никак, десятник.
Иван не ожидал такого поворота, но остальные послужильцы тоже поддержали Лариона. Пудышев покраснел и несколько раз дёрнул правой щекой, по которой наискось от краешка носа до скулы протянулся страшный рубцеватый шрам. Потом смущённо откашлялся и заговорил медленно, будто сначала несколько раз повторял по себя каждую фразу, и только потом произносил её вслух.
– Я так мыслю. Царь да правды евонные, новь всяка – это хорошо. Токмо Москва далеко, а князь и его ратные люди – вот они. Здесь, рядом и с нами заодно. Коли наше воинство нынче десятком бобринцев прирастёт, плохо разве? Да токмо ежели с изначальства промеж нас чёрна кошка пробежит, к добру ли выйдет? И чем для нас кончится? Не добром уж точно. И ежели на одну длань весь Белёв покласть с семьёй моею, а на другую десятство моё… – Пудышев поднял обе руки ладонями вверх, изображая колебание весов. – Так ответ ясен. Для меня наперёд всего – чтоб Белёв целым был. Инше ежели Белёв не уцелеет, так всё, чем дорожу, тоже сгинет. А потому за место держаться не буду. Хоть кем служить стану. Раз уж князь решил, так тому и быть. Я над вами три года началил, и коль уважения хоть капля ко мне есть, вот от меня вам слово. Бузить нынче не дело. И я за то не встану, уж прости, Фёдор. Да и ты, Корней Давыдович, зла не держи. За службу и дружбу поклон земной. Прощайтесь с десятником Иваном Афанасьевичем, да принимайте Ивана – ратника простого. Вот таков мой сказ.
Клыков всплеснул руками и разочарованно произнес:
– Не дело вы затеваете, братцы! Волков бояться, так и в лес не ходить. А зараз отступимся, так и станут гнуть. – Взволнованно, с упрёком высказал он. – Ну, ежели вправду мните, что я за шкурный прок вас хочу на крамолу смутить, так я один пойду, без вас. Уж не испугаюсь…
Внезапно Клыков замолчал, на плечо ему легла сухая костлявая ладонь Семикопа.
– Ладно, Федь, не горячись. – спокойно сказал Корней с печальной ласковой улыбкой. – Что заступь дать хотел, благодарствую и по гроб жизни помнить буду. Токмо… Не во мне ведь дело. Прав Ванька, всё верно сказывал. Не за честь служим, за совесть. Да и годами я уже не молод. Тяжко. Потому… а, ладно, чего там. Стало быть, за службу и дружбу благодарствую, а лихом меня не поминай.
Корней тяжко вздохнул, махнул рукой в ответ собственным мыслям и, не прощаясь, понуро двинулся прочь. Послужильцы, не шевелясь, провожали его виноватым взглядом, но, едва Семикоп скрылся за углом конюшни, из толпы, гордо приосанившись, снова вышел Кудеяр Тишенков. Он мельком взглянул на молчавших белёвцев, потом повернулся к Тонкому, откашлялся со значением, чуть склонил голову в знак почтения и размашисто зашагал к лобному месту. Чуть погодя за ним потянулся ещё один послужилец, потом второй, третий, четвёртый, и вскоре у конюшни остались только два бывших десятника и Сидор Тонкой. Но последний тоже задержался ненадолго, ибо старый рубака, знавший много воинских хитростей и уловок, словами владел плохо, и в нужный момент они всегда разбегались от него, ка цыплята от коршуна.
– Ну, ладно, чего уж. Свидимся еще, – только и смог сказать он со смущённой улыбкой, после чего тоже покинул жеребячий загон.
– Идёшь? – спросил Иван спокойно и буднично.
Пудышев и Клыков семнадцать лет жили бок о бок. Их дворы разделяла худая изгородь, которую забором называли только в шутку, и при нужде соседи ходили друг к другу напрямик. Потому, обычно, закончив все дела по службе, домой они всегда возвращались вместе. Кроме тех редких дней, когда были в ссоре.
Не дождавшись ответа, он махнул рукой и медленно двинулся по амбарному проулку. Но не успел выйти на главную дорогу, как Фёдор догнал его и пошёл рядом. Пока Пудышев делал один длинный тягучий шаг, Клыков успевал шагнуть два раза, но всё равно отставал от товарища, так что иногда ему приходилось догонять Ивана семенящей трусцой.
Так они миновали лобное место и через три двора остановились у хлипких ворот с намалёванным на досках петухом, выцветшим и облезлым. Слева, в щелястом заборе из горбылей открылась калитка и на дорогу вышла женщина в простом суконном летнике[9 - Летник – старинная верхняя женская одежда, длинная, сильно расширяющаяся книзу. Застёгивалась до горла.] с большим деревянным ведром на верёвочной ручке. Не глядя по сторонам, она вылила грязную воду и только тут заметила мужчин.
– Ох, здравствуй, Фёдор Степаныч. – Поставив пустое ведро, она со смущённой улыбкой поспешила заправить под платок белокурую прядь.
– Здравствуй, соседушка.
Марья Пудышева была на девять лет моложе мужа. Изначально родители сосватали Ивану её старшую сестру Анну. Случилось это, когда невесте исполнилось десять, а жениху – двенадцать. Иван даже помнил, как во время сговора двухлетняя Машка с задорным визгом голышом носилась по избе и всё норовила забраться к нему на колени. Тогда он и подумать не мог, что это и есть его суженая. Но через четыре года Анна померла от тяжёлой простуды, а родители, чтобы не нарушать семейных обещаний, решили отдать Пудышевым младшую дочь. Свадьбу, правда, пришлось отложить ещё на девять лет, но отец Ивана согласился, ибо всех подходящих годами белёвских невест к тому дню уже обещали другим, а родниться с кем попало Афанасий Иванович не желал. Так и вышло, что только в двадцать пять, уже будучи зрелым мужем и не раз познав женщин, Иван Афанасьевич Пудышев женился на юной красавице пятнадцати лет.
С тех пор минуло четыре года, жена подарила Ивану троих детей: двух дочек и сына, но тот умер во младенчестве. Роды сильно изменили Марью, от былой её красоты, точёной фигуры и милого лица даже следа не осталось. Она погрузнела, раздала?сь книзу и, наоборот, иссохла в груди; когда-то розовые щёки впали и побледнели; сахарные уста превратились в тонкую линию сухих бескровных губ; на лбу уже появились складки, в скором времени обещавшие первые морщины, и только глаза цвета речной воды сохранили прежний задорный блеск, хотя под ними тоже залегли глубокие тёмные круги от бессонных ночей и тяжких трудов.
– А у меня как раз вечерять поспело, – обрадовалась Марья. – Уважишь по-соседски?
Фёдор вопросительно посмотрел на Ивана, и тот кивнул с добродушной усмешкой.
– А мёду нальёшь, хозяйка?
Марья удивлённо вскинула брови, но Иван успел ответить за жену.
– Сегодня нальёт.
Они прошли на двор: клочок земли, по задней стороне очерченный небольшим огородом – пять грядок и вырец[10 - Вырец – некое подобие клумбы.] со всякой зеленью. Справа – обычный пятистенок с холодным прирубом под зимние припасы; слева – длинный сарай для скотины; а в проходе между ними едва бы втиснулась телега.
Через клеть с лазом в подпол хозяин и гость попали в большие тёмные сени, где стояли короба, мешки и кадка с водой, а оттуда – в горницу. Едва Иван перешагнул порог, как на нём с радостным визгом повисла трехлетняя Настенька. Старшей дочери Пудышевых – Анне, что сидела за пряхой в бабьем заку?те[11 - Бабий кут – угол (кут) избы, примыкавший к челу русской печи, где производили женские работы: готовили пищу, пряли, ткали, шили и т. д. Отделялся от горницы занавеской, иногда дощатой загородкой в виде неглубокого шкафа для кухонной посуды.], уже исполнилось четыре и она, как взрослая, чинно поздоровалась с отцом, потом поклонилась гостю, после чего вернулась к работе.
– Садись. – Без церемоний предложил Иван, подставляя под ручонки дочери усы и бороду.
Фёдор подошёл к столу, накрытому серой чуть не до дыр застиранной рогожей, но сесть не успел. Матерчатый полог у задней стены с тихим шелестом отодвинулся в сторону и в узком пространстве запечья появился то ли человек, то ли невесомый бестелесный призрак. С трудом, натужно кряхтя, старый Афанасий Пудышев на четвереньках добрался до края лежанки, сел и свесил две тонкие, как палки, ноги. Абсолютно лысая голова с редкой прядью бородёнки смотрелась неестественно огромной. Казалось, даже маленький деревянный крестик на суконной нити непосильной ношей гнул старика к земле.
Афанасий с болезненным стоном поднял худые руки, кончиками кривых узловатых пальцев протёр подслеповатые глаза, скрытые в дряблых морщинистых веках и зарослях бровей. При этом наброшенный армяк соскользнул с узких плеч, обнажив дугой согбенную спину, на которой даже сквозь рубаху проступали хребет и рёбра.
– Ванька. Ты, что ли?
– Я, бать. – коротко ответил Иван, заранее зная, каким будет следующий вопрос.
– А с тобой кто? От матери вести?
Отец, который последнее время и так по возрасту слабел умом, стал совсем плох, когда в прошлом году умерла его жена – Ульяна Никитична. Помутившийся рассудок никак не желал смириться с потерей. Афанасий Иванович твёрдо верил, что жена просто куда-то уехала, и терпеливо ждал, к каждому гостю приставая с расспросами, не видал ли он его Ульяну Никитичну, или, может, она передала с ним какую-то весточку.
– Нет, бать. – терпеливо ответил Иван. – Ко мне по княжьей службе.
– Я это, Афанасий Иванович, Фёдор. – подал голос Клыков.
– Какой ишо Фёдор? – В последнее время старик, в мельчайших деталях помнивший детство, мгновенно забывал день вчерашний и никого не узнавал из настоящего. – От Ульяны Никитичны?
– Да пососедник ваш.
– Вот же ж. А я думал… – Афанасий Иванович разочаровано всплеснул руками и захлебнулся сухим лающим кашлем.
Уняв, наконец, перхоту, старик подобрал ноги и полез обратно на лежанку. Раньше Афанасий любил спать на перекрыше[12 - Перекрыша – верхняя стенка печи, где устраивают лежанку], но последние годы взбираться наверх ему стало не по силам, так что для него устроили особую лежанку, поставив в запечье сундук, где хранились доспехи и оружие Ивана.
Проводив отца взглядом, Пудышев ногой выдвинул из-под стола широкий приземистый чубрак и сел. Настеньку устроил на коленях, и та принялась радостно лепетать что-то на своём детском языке, понятном только ей. Но тут Марья забрала её у отца и лёгким шлепком отправила в закуток к Анне. А сама принялась хлопотать над угощением. Достала из печи чугунок со щами и опустила в него две деревянные ложки. Тут же рядом появилась глиняная чаша с огурцами и чищенной головкой чеснока, половина каравая да ещё короткий, сильно сточенный нож с чёрной от старости ручкой. В довершение Марья поставила на стол высокий кувшин.
– Про мёд-то не шутили? – настороженно спросила она.
– Нет, Маш, не шутили. – ответил Иван, но, когда он уже взялся за ручку кувшина, жена положила на узкое горло ладонь.
– Сначала сказывай, чего стряслось? – мягко, но решительно потребовала она. – Вижу ведь, сам не свой. Чернее тучи оба.
Пудышев, глядя на жену, непонимающе пожал плечами, но Марья в ответ качнула головой, давая понять, что отделаться от неё простой отговоркой не выйдет. Фёдор ехидно усмехнулся, а Иван опасливо оглянулся на закуток и, только убедившись, что девчонки увлечены чем-то своим, тихо сказал:
– Тут, Маш, тако дело… Вышло так… Не десятник я боле.
– Новая метла по-новому метёт? – после короткого раздумья спросила Марья. Иван коротко кивнул, и она продолжила с печальным вздохом. – Ну, чего ж. Я, чай, замуж-то не за десятника выходила. И Аннушку простому вою родила. Это, вон, Настёна у нас десятская дочь, но она про то не ведает покуда. Так что… Допрежь жили и нынче как-то проживём.
Марья улыбнулась, убрала руку с кувшина и направилась к сеням, и, едва за ней закрылась дверь, Фёдор задумчиво произнёс:
– Метла метлой, да боюсь, за ней скребок в ход пойдёт. – Он с укором взглянул на Ивана. – Раз уж промолчали.
–Плетью обуха не перешибёшь. А новины все эти… – Пудышев покачал головой и, разливая мёд по кружкам, взглядом указал на потолок. – Это там, они промеж себя мо?чи делят, а нам с того какой прок? Нам, простым людям, токмо беды. Вот, на нас взгляни, опять же. Всего-то князь новый прибыл, а как закружилось. А ты говоришь… вся Русь другой станет. Этак каков же пожар раздуется? Как бы всё в нём не погинуло. Так что, уж как по мне: живём, хлеб жуём, и всё до?бро.
Фёдор, нарезая хлеб крупными кусками, печально усмехнулся:
– Може, и так, може, и прав ты. Да и чего уж нынче об том. Давай уж, коли так, помянём десятство наше. – Фёдор взял кружку, принюхался к аромату хмельного мёда и с довольным видом повёл бровью. – Одно хорошо – месяц в головстве не побыл. Отвыкать не придётся.
Глава четвёртая
Сороковины покойного князя попадали на последний день сентября, и пусть до них оставался без малого месяц, Андрей Петрович начал готовиться сразу же. Ведь на поминках ожидался поверенный великого князя – он приезжал, чтобы принять от нового вотчинника Белёва присягу на верность московскому царю – а перед таким гостем Андрей Петрович не мог ударить в грязь лицом.
Однако сразу же всё пошло вкось. Сначала оказалось, что казна пуста. Не совсем, конечно, кое-что в ней нашлось, и, обладай он таким богатством в Бобрике, Андрей Петрович почитал бы себя Крезом. Но для Белёва с его огромным хозяйством это был сущий пустяк. Крохи, которых едва хватало на повседневные траты. А, между тем, предстояло не только щедро накормить всю челядь, но на городском торжище раздать хлеб с мясом каждому, кто пожелает помянуть покойного князя. Будь это даже последний нищий или прокажённый бродяга, занесённый в Белёв случайным ветром. Так требовал обычай княжеской чести. А потом ещё накрыть богатый стол для ближайшей родни: три перемены главных блюд, к ним не меньше дюжины угощений попроще и непременно хмельной мёд, олуй и заморские вина рекой. Да и после наверняка придётся кормить загостившихся князей и царского посла, который, конечно, не уедет сразу, а по делам задержится в лучшем случае на несколько дней. А может, на неделю. Так что, когда Захар Лукич даже примерно подсчитал предстоящие расходы, Андрей Петрович удивился тому, что бывают вообще такие числа.
А в казну, меж тем, за неделю не поступило даже зёрнышка овса. Правда потом случился прибыток, да не простой, а сразу в три рубля. Но Андрей Петрович, хотя прежде никогда не держал в руках столь больших денег, всё же предпочёл бы остаться нищим, чем получить такой доход. А дело было в том, что некий послужилец Кудеяр Тишенков вдруг полностью, до копеечки, рассчитался по кабальной грамоте. Такую бумагу подписывал каждый, кто поступал в княжеское войско. При этом нового холопа снабжали доспехом, оружием и всяким прочим, без чего в ратном деле не обойтись. Но получал он всё это не от господских щедрот, а как бы платой в счёт будущей службы. Специальный человек из государевых приказов тщательно описывал выданные вещи и назначал за них справедливую цену. На эту сумму и составляли кабалу, после чего вольный ратник становился холопом и впредь мог покинуть службу только после выплаты долга. Именно это Тишенков и сделал.
Поступок его озадачил всех. Никто в Белёве не мог припомнить подобный случай, ведь для простого ратника три рубля – небывалое богатство, но Тишенков их где-то раздобыл. В ответ на вопросы удивлённых огнищан он только презрительно фыркал и лишь однажды снизошёл до короткой фразы:
– Потому как ценить надобно верных слуг.
Князь истолковал это по-своему: холопы, видя его бедноту и немощь, предпочитают уйти от такого господина на вольные хлеба. Андрей Петрович не сомневался, что Тишенков – лишь первая ласточка. Помешать ему Бобриков уже не мог – закон был на стороне послужильца – и теперь приходилось думать о другом: что можно сделать, чтобы пример Тишенкова не вдохновил остальных. Решение находилось только одно: срочно пополнить казну, тем самым доказав, что он способен править Белёвом не хуже покойного дяди.
Захар Лукич день и ночь корпел над стопками писцовых книг и огромной кипой грамоток, пергаментов и свитков. Но чем усердней он пытался распутать паутину слов и чисел, тем яснее сознавал свою беспомощность. Новый тиун был малый честный и беспредельно преданный князю, но отродясь не имел дела с таким большим хозяйством, где с одной ничтожной деревушки оброка собирали больше, чем во всех землях Бобрика вместе взятых, а запись дворовых расходов за неделю порой достигала сотни статей, о смысле которых старый ключник мог только гадать. В конце концов, смирившись с тем, что самому разобраться ему не под силу, Захар Лукич обратился к местным огнищанам, и те охотно пришли на помощь, стали подробно объяснять все тонкости и трюки, так что совсем скоро неопытный тиун запутался ещё сильнее. Через две недели он честно признался князю, что недоимок так и не нашёл. Ни одной.
Правда, при разборе свежих челобитных, что поступили к огнищанам уже после смерти князя, Захар Лукич нашёл одну странную бумагу. Община Водопьяновки, села на окраине белёвских земель, просила на три года освободить их от хлебного оброка, чтобы они смогли перейти с двух полей на три. Сама просьба подозрений не вызвала – последние годы такой переход становился делом обычным. Но вот простые расчёты, что имелись в этой грамоте, привели старого тиуна в замешательство. По ним выходило, будто каждый год община Водопьяновки отдавала княжеской казне девяносто один пуд ржи. Разделив их на ставку хлебного оброка – половина пуда с каждой чети пашни, Захар Лукич получил примерный размер Водопьяновских полей. Сто восемьдесят две чети. Тогда как во всех подушных книгах за сельцом числилось всего семьдесят. И хлебного оброка с них брали соответственно – тридцать пять пудов. Как так выходило, ни Захар Лукич, ни Андрей Петрович понять не могли, и потому решили отправить в Водопьяновку Ваську Филина. Посмотреть и разобраться, что там да как.
Глава пятая
Из двух десятков деревушек княжества по вёрстам, указанным в писчих книгах, Водопьяновка находилась от Белёва ближе всех. Но при этом ехать к ней пришлось вдвое дольше, чем к самой дальней заимке. А всё потому, что нормальный путь закончился через пять вёрст, когда от столбовой дороги на Козельск малоезженая тропка свернула влево и углубилась в густой сосновый лес. Несколько раз она почти терялась среди хвойной чащи, едва заметной колеёй петляла по заросшим оврагам и лощинам, пересекала десяток ручейков, а один раз большой петлёй огибала вонючее болотце. Так что, покинув Белёв ещё на рассвете, до Водопьяновки Филин добрался ближе к вечеру, когда в сером небе проступил серп молодой луны.
Тропинка вывела к Сетухе – маловодной речушке, берег которой зарос камышом и осокой. За ней раскинулась огромная поляна, с трех сторон окружённая лесом. На опушке узкой полоской желтела рожь. Три коровы и десяток овец лениво бродили у родника, что бесформенным пятном синел в центре луговины. От речного русла его отделяли всего-то полсотни шагов по прямой, но тонкая нитка ручья на этом пространстве делала пять крутых поворотов и дюжину петель, словно горький пропойца, что в хмельном безумстве блуждает по округе в поисках потерянного дома. За эту особенность ручей окрестили Пьяным. По нему же дали и название селу – Водопьяновка.
Васька надеялся без труда опознать двор старшины, как самый большой и богатый. Однако, село представляло собой дюжину совершенно одинаковых домов, скученных так тесно, что в наступивших сумерках казалось, они вырастают один из другого. И, как назло, все дворы пустовали, так что, если б не струйки дыма и вялый перелай собак, Филин решил бы, что здесь давно никто не живёт.
Он остановил коня на околице и огляделся в поисках хоть кого-то, кто мог бы ему подсказать. Как раз там, где Пьяный ручей падал в Сетуху, на обрывистой круче одиноко стояла берёза, а в тени её раскидистой кроны мелькала фигура. Васька подъехал ближе – неясный силуэт оказался молодой девушкой в домашней суконной рубахе с витым шнурком вместо пояса. Она серпом срезала траву вокруг ствола, на котором среди чёрно-белых лохмотьев мёртвой коры и молодых наростов проступал неясный потемневший от времени лик, а на сухой треснувшей ветке, что склонилась к самой земле, висели разноцветные ленты и холщовые мешочки.
Филин знал, что такие деревья назывались берегинями и встречались почти в каждом селе. Когда-то давно древние люди, от которых теперь не осталось имён, считали Берегиню матерью всех духов и богатств земли, а потому обращались к ней за советом и на любое начинание просили разрешения. Обычай этот пережил даже пятьсот лет христианства. Правда, теперь крещёные язычники называли древнюю богиню «Сырой Богородицей», но, помолившись, как учила новая вера, перекрестившись и отвесив поклон рубленой иконе на стволе березы, они обязательно приносили дары Берегине, как завещали традиции предков. Для надёжности. В конце концов, разве получится хуже, если в небесах у тебя будет не один помощник и заступник, а сразу два?
За работой девушка не заметила Ваську и продолжала стоять к нему спиной, то нагибаясь так, что ткань обтягивала сочный зад, то распрямляясь, отчего пропитанная потом рубаха прилипала к прямой гладкой спине и тонкой талии, а край юбки, с обеих сторон подоткнутый за верёвочный пояс, до середины бедра обнажал стройные ноги. От такой картины во рту у Филина пересохло, и каждый удар сердца горячим пульсом отдавался внизу живота. Он решил подъехать ближе, но стук копыт выдал его, и девушка обернулась. Поначалу растерявшись, через миг она вскрикнула и, юркнув за берёзу, только там оправила подол. Потом испуганно посмотрела на Ваську из-за ствола. На её бронзовый от загара лоб из-под косынки выбилась длинная прядь с золотым отливом; под чёрными дугами бровей изумрудами сверкали широко распахнутые глаза, пухлые губы цвета спелой вишни сложились сердечком; высокие скулы плавно переходили в мягкий круглый подбородок. Расстёгнутый ворот рубахи открывал жадному взору точёную шею, тонкие ключицы и ложбинку меж небольших грудей с пиками выпиравших сосков.
– Это, слышь, ага… – От накатившей страсти голос дрогнул и сломался на последнем слоге. Но висевший на ремне деревянный цилиндр с княжеской грамотой, больно упираясь в бок, напоминал о деле, и, тяжело сглотнув подступивший к горлу ком, Филин взял себя в руки. – Ты это, вот чего. Тутошняя ведь? Ну, ясно дело, ага. А это… Старшина-то ваш где проживает?
– Мефодий Митрофанович? – радостно переспросила девушка, ибо вопрос означал, что незнакомец прибыл по делу, а раз так, то опасаться его нет причин. – Так это вот, сосед мой. По дороге второй дом слева.
– Ясно. – Филин тряхнул головой, пытаясь избавиться от похотливых мыслей. – Ну, благодарствую.
Жилищем старшины оказался небольшой домишко, ничем не отличавшийся от прочих. Кривая завалинка растрескалась и обсыпалась, местами обнажив подошву из склеенных глиной камней. Один угол сруба сильно осел и под чёрным от времени лежнем торчал ещё светлый булыжник. Между венцов зеленел свежий мох, недавно набитый в огромные щели рассохшихся брёвен. Из-под накренённой кровли выбивалась струйка дыма, и ветерок разносил вокруг запах ячневой каши и хлеба с отрубями – запах нужды и лишений.
Старшина встретил Филина на крыльце. Заплесневелый старикашка, настолько съеженный и сухой, что даже большую блестящую плешь с жидкими пучками седых волос по краям изрезала сеть глубоких морщин. Мочалка козлиной бородки падала на сухую впалую грудь, и даже старый армяк казался непосильной ношей, так поникли узкие плечи и сгорбилась спина.
Поначалу Мефодий отнёсся к незнакомцу настороженно, с опаской, но, едва узнав, что тот прибыл от князя, просиял и жестом пригласил в дом. В маленьких сенях едва помещалась кадка с водой и стопка поленьев. Вход в жилище закрывал полог из коровьей шкуры, за ним открывалась комната, большую часть которой занимал огромный стол. Вдоль двух стен с окошками из мутной плёнки пузыря примостились длинные скамьи, а над ними протянулся широкий полавочник[13 - Полавочник – полка над лавками, непрерывно огибающая стены в избе.], заваленный корзинами, горшками, коробами и прочей утварью помельче. У третьей глухой стены громоздилась печь, у шестка которой возилась со стряпней тощая девчонка лет тринадцати с тугой косой светло-русых волос.
– Кхм, Дуняха. Собирай-ка на стол живо. Гость у нас важный. – строго приказал Мефодий и, обернувшись к Филину, пояснил. – Младшая моя. А енто вот Серафима. Сноха. Матвейки, стало быть, жена.
Старшина кивнул в бабий угол, где между печным боком и бревенчатой стеной втиснулся объёмистый сундук. На нём сидела невысокая, про таких говорят – «чуть от земли видно», но безобразно толстая женщина с тяжёлой отвисшей грудью. Круглое лицо ещё хранило остатки былой красоты, но оплыло и поблёкло, под впалыми глазами набухли большие тёмные мешки. На руках у Серафимы спал завёрнутый в тряпку младенец, рядом на цветной лоскутной ватоле копошился годовалый мальчуган, а на полу, у босых ног с самодельной куклой голышом играла девочка лет трёх.
– А сам-то сын где? – равнодушно спросил Филин, только чтобы не молчать, потому что от кислой вони в жилище его начинало мутить.
– В поле, где ж ещё-то. Страда в разгаре. Нынче все при деле. Что мужики, что бабы. Здеся токмо старики, да детишки малы.
Филин скользнул взглядом по тощей фигуре Дуняхи и в памяти тут же всплыл образ девушки на краю села.
– То-то я гляжу, как вымерли все. Пока тебя нашёл, наплутался. Хорошо хоть, девка на околице попалась. У берегини вашей. Подсказала.
– У берегини? Кулька Хапутина. – догадался Мефодий. – Она, окромя неё, некому. Всё жениха доброго просит. И то сказать, девка видная. Из наших парней любой бы взял. В радость только. Да брательник её, Забуга, хорохориться. – Мефодий тихо рассмеялся. – А наши мужики Забугу сторонятся. Колотовник[14 - Колотовник – драчун.] знатный. Любого кулаком сшибёт. Так что с ним не балуй, хе-хе…
– Вон как. И где ж он нынче? Глянул бы, каков богатырь. – спросил Филин, принимая игривый тон старшины. – Тоже в поле, небось?
– А где ж быть…
– А ещё из Хапутиных кто есть?
– Жена Забугина – Любомира. Да она нынче тоже в поле, мужикам помогат. Хоть и на сносях.
– Акулька одна, стало быть?
– Одна. – подтвердил старшина, но тут же спохватился и принялся оправдывать девушку. – Но она не просто так. У ей забот – прорва. Кулька сроду без дела не сидит. Покуда брат с женой в поле, всё хозяйство на ней. Потому Забуга и не спешит замуж её отдавать.
– Ясно. Ну да бог с ней, с Кулькой, я ж не за ней прибыл. По делу. – спохватился Филин. – Челобитную вашу князь прочёл. Да вот меня послал на месте поглядеть. Так что сказывай толком, чего да как, ага.
– Так, а чего сказывать? На три поля хотим перейти. И весь сказ.
– На что?
– Чего на что? – не понял старшина.
– На что вам три поля, спрашиваю, ага. – раздражённо пояснил Филин.
– Так ведь это… Община народишком прирастат. Уж, почитай, скоро сотня ртов будет. Оно ведь как…
Мефодий замялся, и Филин подсказал ему с тихим смешком:
– Эх… плодитесь и размножайтесь.
И тут же Васька сам пожалел о сказанном – при этих словах в памяти опять всплыл образ Акулины. С распахнутым воротом, с обнажённой выше колена ногой. Филин зло рванул ворот кафтана, который мешал ему дышать.
– Ты вот что поясни. Чем три поля лучше двух? – спросил Васька, для которого крестьянские дела были тёмным лесом.
Старшина развёл руками. Он и представить не мог, что человек князя может не разбираться в столь простых вещах, ясных даже самому тёмному смерду.
– Хм, ну вот гляди. Ныне у нас землицы распахано сто восемьдесят четей. С малым лишком. Половина засеяна, другая под паром лежит, не рожает, стало быть. И выходит, что в кажный год мы урожай с половины земли собираем. А ежели мы все поля натрое разделим, так на одной части – яровые, вторая под паром, а третья – под озимые. Этак урожай не с половины земли кажный год собирать, а уже с двух частей из трёх. Ежели в пудах прикинуть – вместо двух сотен две с полтиной выйдет. То бишь пятьдесят пудов сверх. А это для нас нынче… – Мефодий сбился, не в силах подобрать нужного слова, чтоб объяснить горожанину, насколько важна для общины такая прибавка. – Ты пойми, как тебя бишь…
– Вась… – Филин осёкся на полуслове и, откашлявшись, сообщил. – Василий Филиппович.
– Так ты пойми, Василь Филиппыч, нам без этих пудов не выжить. Уж и так с хлеба на воду перебивамся, а как нончая ребятня подрастёт да промеж себя обженится, да свою ребятню народит… Так что, как ни крути, а нельзя нам без третьего поля. Не выжить. Так князю и обскажи. Да ты здесь ли, Василь Филиппыч?
– А? – Филин встрепенулся, отвлекаясь от сладких грёз, и мутным взглядом обвёл избу. – Здесь, здесь, куда ж денусь. И в чём беда, не пойму? Коль третье поле надобно, так пашите, как пристало. Оброк тут причём, ага? Пошто ослобонить от него просите?
– Да как же, Василь Филиппыч? Нам ежели нынче третье поле делать, так в два ближайших года только треть пашни засеять выйдет. С переходом оно завсегда так, по-другому не быват. Два года урожай будет, что кот наплакал, а ежели с него ещё и оброк отдать… Это хоть сразу помирать ложись всем миром. Потому и просим, Василь Филиппыч. Василь Филиппыч, слышь?
Васька слушал старшину, но думал совсем о другом. Ведь Акулина Хапутина наверняка уже покончила с травой вокруг берегини и отправилась в дом. А там, кроме неё, никого нет. Никого.
– Слышу, не ори. – Васька со свистом протяжно выдохнул через ноздри. – Понял я всё про поле ваше. Обскажу князю, как есть, он пущай решает. А я человек маленький. И ты мне другое растолкуй, ага. Вот ты сказывал, что земли у вас почти две сотни четей. Так? А как же вышло, что вы столь лет оброк давали, как за семьдесят?
– Да помилуй бог! Отродясь такого не бывало… – Мефодий испуганно всплеснул руками. – Всё как полагатся платили. С полной пашни.
На лысине у старика проступил пот, большие костлявые ладони нервно вцепились в подол домашней рубахи. Встрепенувшись, Мефодий кинулся в красный угол избы, где под низким сводом на маленькой полке стояла икона в простом деревянном окладе. Тяжко кряхтя, взобрался на скамью, сунул руку за образ и достал большой свиток из серой шершавой бумаги. Спустившись, старшина протянул пергамент Ваське.
– Вот, Василь Филиппыч, гля-ка. У нас всё как следоват, так и отдадено.
Филин взял свиток, но читать его не стал. Он и без того давно понял, что старшина не врёт. А раз так, то выходило, что разгадка тайны скрыта в подушных книгах. Как-то так получалось, что в писарском покое Белёва сто восемьдесят две чети земли превращались всего в семьдесят. Как? И зачем? Но ответить на два таких простых вопроса вряд ли мог старшина из Водопьяновки Мефодий Лапшин.
– Коли так, ладно, ага. – Васька поднялся с лавки, встряхнул затекшие ноги, покрутил головой, разминая шею.
– Так что с третьим полем-то, Василь Филиппыч? – спросил Лапшин, с щенячьей надеждой глядя на Филина.
– Говорю, не моя власть, ага. Обскажу князю. Он и решит. Так что жди покуда.
– А ты куда собрался? – заволновался старик, глядя на Васькины сборы. – Глянь на двор, темнет уже. Бабы мои, вон, видал, посне?дать приготовили. Заночуешь, а там уж давай.
– Благодарствую. Да не досуг мне. Князь ждёт, ага. Так что, прощевай, Мефошка.
Выйдя на улицу, Филин даже не стал садиться в седло. Взял коня за повод и торопливо повёл к околице. Вскоре он оказался у крайнего двора. Его задней границей служила дровяница из больших неколотых поленьев. Один её край упирался в двускатную землянку под густо заросшим дёрном, другой – в утлый сарай, крытый трухлявой соломой. Позади чернел огород без единой сорной травинки – только неровные ряды капусты, репы и свеклы.
Филин намотал поводья на торчащий из земли кол для домашней скотины. Откуда-то из темноты выскочил облезлый пёс. С опаской посмотрев на чужака, он глухо заворчал и попятился к дровам, а стоило Ваське замахнуться, вовсе с испуганным визгом припустил к сараю и проворно юркнул под нижний венец и, только попав внутрь, разразился заливистым лаем.
– Ты чего это, Трезоша? – раздался мягкий и ласковый женский голос, который Васька тут же узнал. – Чего взбаламутился?
Филин молча двинулся к сараю, и когда до него оставалось не больше двух шагов, в открытых дверях появилась Акулина. Испуганно ахнув, она замерла в проёме, а потом стала пятиться внутрь. Васька оглянулся по сторонам, убедился, что вокруг по-прежнему ни души, и решительно переступил порог. В темноте, пахнущей навозом и прелой соломой, Акулина суетливо одёргивала подол и расправляла рабочий передник.
– Ты это… не боись. Я ж это… Добром. – Непослушными пальцами Филин распутал завязки поясной мошны и достал из неё ромбик серебра. – Во, видала? Это знаешь, сколь? Всю вашу рухлядь три раза купить можно, ага. Ну? Подь сюды, сладкая.
Филин медленно приближался к Акулине. Та, настороженно отступала, пока спиной не упёрлась в ограду коровьих яслей. У её ног застыл оскаленный Трезор. Пользуясь тем, что теперь девушке некуда деться, Васька осторожно протянул к ней руку, пытаясь успокоить. Но потом внезапно схватил её чуть ниже локтя и резко дёрнул на себя. Акулина даже не успела вскрикнуть, как оказалась у Васьки в объятьях. Тогда он одной лапищей обхватил её за плечи, второй за тонкий стан и прижал к себе.
Пёс залился истошным лаем, сбиваясь на испуганный вой. На короткое мгновенье Акулина обмерла, страх сковал ей руки-ноги, дыхание заковал в ледяные тиски. Пользуясь этим, Филин освободил одну руку. Потная ладонь прошлась по напряжённой спине, обмяла ягодицы, потом соскользнула вдоль ноги и нырнула под подол. Мясистые губы с силой прижались к дрожащим девичьим устам. Хапутина встрепенулась, в попытке вырваться изогнулась всем телом. Постаралась закричать, но из сдавленной груди вышел только слабый стон, и Васька злорадно усмехнулся. Именно в этот миг что-то вцепилось в его сапог. Собачьи клыки застряли в твёрдой коже голенища, не достав до плоти, но Трезор повис на ноге, и Филину, чтобы не упасть, пришлось разжать объятия.
– Ах, ты…
Филин отшвырнул пса. Тот исчез в ворохе сена, но тут же выскочил готовый к новой атаке, и пока Васька отгонял Трезора, Акулина успела схватить короткую рассоху[15 - Рассоха – двузубые вилы из раздвоенной ветки дерева.].
– А ну отпрянь! Запорю нето! – грозно крикнула она дрожащим от страха голосом.
– Ну, давай, ко?ли так.
Васька шагнул вперёд, так что заострённые концы деревянных вил упёрлись ему в грудь. Акулина подалась назад, и по её растерянному взгляду Филин понял: проткнуть живого человека решимости ей не достанет. С хищным оскалом Васька отвёл россоху в сторону. Выронив вилы, Акулина вжалась в бревенчатую стену и беспомощно завыла.
– Этка чего у вас тута? – неожиданно раздалось позади.
Васька обернулся. На пороге сарая с лучиной в руках стояла сноха старшины. До этого Филин видел её сидевшей на сундуке бабьего угла, но на ногах Серафима Лапшина оказалась ещё ниже ростом и безобразней телом, чем смотрелась сидя.
– Чего надо? Вон пошла! – рявкнул Филин, но Серафима не тронулась с места.
– Ишь ты, каков грознец. – спокойно сказала она. – Да я не к тебе. Кулька, ты забыла, нешто? Нанче ж у тебя бабий сбор. Лён теребить на пряжу, покуда не усох. Забыла? – Серафима со значением посмотрела на Акулину, но та мало что понимала. – Вот и Дуняха со мной. Сейчас еще Каверины придут. Тока что видала их.
С улицы донеслись голоса – у сарая собирались женщины с детьми и, судя по гвалту, который они подняли, было их не меньше десятка. От накатившей ярости Васька чуть не задохнулся. Он побелел лицом, но уже через мгновенье взял себя в руки и лишь недобро ухмыльнулся.
– Так, стало быть, ага? – Васька поправил сбитый на бок ремень, одёрнул полы кафтана, тяжело нагнувшись, подобрал шапку. – Ладно, пусть. Но гляди, девонька, как бы хужей не вышло.
Филин резко развернулся и выскочил из сарая, чуть не сбив Серафиму, – та едва успела отпрыгнуть. А вскоре снаружи донеслись ржание коня и дробный топот копыт.
Глава шестая
В Белёв Филин вернулся уже на рассвете, когда по-осеннему скупое солнце едва показалось над горизонтом, и брызги нового утра косым лучом легли на город, розовым бликом заиграли на золотых куполах Успенья, посеребрили зыбучие волны Оки. Детинец только просыпался: на лобное место вышел одинокий холоп с огромной метлой; к портомойне заспешили две женщины с корзинами белья; в людской пристройке терема захлопали двери, заскрипели ставни на окнах; над каменной трубой поварни взвилась струйка белого дыма.
Не замечая удивлённых дозорных, Филин промчался сквозь захаб Козельской башни, рысью миновал собор, у терема чуть не растоптал сонную молодуху с ведром помоев и только в житном переулке пустил уставшего коня шагом. Тот, фыркая и отдуваясь, двинулся вдоль закрытых амбаров, что один за другим тянулись с обеих сторон. Только ближе к концу улицы Васька нашёл барак, ворота в торцовой стене которого были распахнуты настежь. Он спешился и решительно взбежал по наклонным сходням в сенцы, где остро пахло лежалым зерном и соломой, а в неподвижном воздухе стоял туман мучной пыли.
Рядом со входом за низким маленьким столом сидел закромщик, немолодой уже румяный мужчина. Одной рукой он подпирал пухлый подбородок, переходящий в пышную лопату бороды, а другой пером делал пометки в длинном списке. В расстегнутом вороте малинового кафтана виднелся массивный ключ, который висел на толстой шее вместо креста. Перед кладовщиком топталась стряпуха, у её ног на полу стоял большой кузовок для продуктов. Женщина что-то негромко говорила, а он деловито кивал.
При появлении Филина закромщик вздрогнул, отчего по серой бумаге пошла безобразная клякса, а стряпуха испуганно смолкла на полуслове.
– Вон пошла! – рявкнул Васька.
Женщина хотела возразить, но Филин свирепо посмотрел на нее, и та молча попятилась к выходу, даже забыв про кузовок. Ничего не объясняя, он сделал несколько шагов в глубь хранилища и внимательно вгляделся в полутьму. С одной стороны вдоль стены сплошь тянулись ряды сусек, на их плотно закрытых крышках лежали деревянные совки, ковши и меры для зерна; с другой – огромные лари и на них корзины, короба и туески; в торце хранилища в три плотные шеренги сомкнулись бочки.
Убедившись, что в амбаре никого, Васька вернулся, встал перед столом и, не говоря ни слова, жгучим, пронзительным взглядом уставился на закромщика. Тот испуганно молчал и чем дольше длилось молчание, тем, он, казалось, становился меньше, всё сильней вжимаясь спиной в бревенчатую стену.
– Ну а ты чего сидишь? – наконец заговорил Филин. – Вставай. К князю на правёж[16 - Правёж – суд, разбирательство.] пойдём.
– Ч-ч-ч-ч-чего это? – заикаясь, промямлил закромщик.
Филин бросил перед ним грамотку, которую прихватил в доме Лапшина.
– А вот чего. Поведаешь, как так вышло, что из Водопьяновки в подать кажный год девяносто пудов ржи уходит, а в княжеские закрома только тридцать пять попадает. Куда остальное просы?палось? И почему в сошных книгах ваших заместо ста десятин земли за селом всего семьдесят четей водится. Всё поведаешь, как горящий веник к брюху поднесут. – Филин говорил тихо, с холодной угрожающей усмешкой, но потом вдруг изменился в лице, выпучил глаза, скривился в яростном оскале и заорал страшнее раненного зверя. – Ах ты сучий потрох, вор поганый, за всё ответ держать будешь!
Васька руками упёрся в один край стола и другим прижал закромщика к стене.
– Д-д-да ч-ч-ч-его ж я то? К-к-к-райний нешто? – заверещал огнищанин. – Б-б-будто по доброй воле. Сам пону?жден был.
– Понужден? Кем?
– Так ведь князь покойный сам. Иван Иванович.
Обескураженный Филин на мгновение ослабил хватку, и закромщик успел вдохнуть с болезненным хрипом, но тут же Васька надавил на стол с ещё большей силой.
– Ну ты, врать – ври, да не завирайся. Он, что же, сам себя обкрадывал?
Закромщик тихо простонал, широко открытым ртом хватая воздух. Столешница глубоко вошла ему под рёбра.
– Дабы Москву в службе об-ма-нннуууть… – с трудом прошептал он и обмяк. – Пу… пусти.
Филин шагнул назад. Закромщик, часто дыша и рыгая, схватился за живот.
– Ну, говори.
– Это уж лет десять так ведётся. Сразу, как на Земском соборе учинил великий князь уложение о службе, так Иван Иванович, царствие ему небесное, и задумал обман сей.
Филин нахмурился, с трудом и смутно припоминая давние слухи о том, что в Москве какой-то Земской собор принудил вотчинников выставлять в государево войско не сколько они захотят или смогут, как велось испокон веку, а по всаднику с каждых ста четей пашни. К счастью, их богом забытый Бобрик это всё обошло стороной, ибо доброй угожей земли там значилось с гулькин нос. И коль скоро на жизни города новость никак не сказалась, о ней быстро забыли. Но Белёв, однако, не Бобрик.
– С новым-то порядком, ежели всё по правде делать, с белёвских пашен полагалось боле сотни всадников. – Пояснил закромщик, когда наконец отдышался. – Откуда взять? Отродясь столь послужильцев не водилось. Аще были бы, расход на них каков? Любого разорит. Вот и придумал князь две посошны книги завести. Одна – для себя, с верным счётом. А другая, где пашен второе меньше, для царёвых слуг. По ним с Белёва всего двадцать три ратника полагалось. Вот и вся хитрость.
– Это что ж выходит, по всем сёлам так? – с затаённой надеждой спросил Филин.
– Само собой, а как же.
Сердце в груди у Васьки кувыркнулось, на мгновенье сжалось, замерло, а потом пустилось вскачь с утроенной силой. В предвкушении большой удачи он облизнул пересохшие губы. Чтобы не выдать закромщику истинных чувств, отвернулся, закрыл глаза и протяжно выдохнул, стараясь успокоиться.
– Выходит, Захар Лукич по обманным книгам казну сверяет?
– Отож… – закромщик уныло кивнул.
– А оброк смердам вы по тайным назначали? Стало быть, брали чуть не втрое больше. Куда делось?
– Как стало ясно, что новый князь едет, тиун наш… Ну тот, что опальный нынче, говорит, такое, мол, раз в жизни выпадает. Нынче упустим, больше не свезёт. Ну вот мы и… того. Кое-что в Козельск на ярмарку свезли, купцам тамошним чохом отдали. А остальное… – закромщик шмыгнул носом и потупился. – Остальное по себе растащили.
– Вот паскуды… сучье племя… – недобро усмехнулся Филин. – И много вас в сём воровстве замешалось?
– Да, почитай, все огнищане.
– Ого. И вот как нонче с вами быть прикажешь? Открыть всё князю? А?
Закромщик вскинул голову и устремил на Ваську полный ужаса взгляд. Потом вдруг кинулся вперёд, рухнул на колени и на четвереньках, скуля и подвывая, пополз к Филину. Не успел Васька опомниться, как тот уже обхватил его правую ногу и припал губами к голенищу сапога.
– Не губи, не губи, Василь Филиппыч…
– Ну, чего удумал-то? – строго сказал Васька, но убрать ногу даже не попытался.
– У меня детишек пятеро. Пропадут без меня. Не губи, благодетель.
– Эх, вот сгубит меня доброта моя. – Васька нагнулся, запустил пятерню в густую гриву закромщика и оторвал его от сапога. – Ладно, будя, вставай. Так и быть, не стану православных на дыбу отправлять. Мне такой грех на душе ни к чему, ага.
Закромщик облегчённо всхлипнул и попытался встать. Но ослабевшие ноги отказались держать грузное тело. Он сел на край лавки и опрокинул ее навзничь. Дрожащими руками поискал опоры, да так и остался сидеть на затоптанном полу, рукавом вытирая слёзы.
– Но ежели хочешь, чтоб голова при тебе осталась, так помогать мне будешь, ага. – наставительно сказал Филин. – Ибо я, конечно, князю близок, но из такого болота мне без помо?ги вас не вытянуть. Разумеешь?
Приходя в себя, закромщик часто закивал:
– Конечно… Конечно! Чего скажешь, то и сделаем.
Филин не спеша поднял опрокинутую лавку и оседлал её, оказавшись перед закромщиком, всё ещё сидевшим на полу.
– Перво-наперво, всё мне поведаешь. Сколь, чего и у кого хранится. Сколь чего купцам свезли и каков барыш получили. Да гляди, без утайки чтоб. Коли прознаю чего…
– Да ну, Василь Филиппыч, нешто можно, чтоб ты меня спасал, а я… Нет уж, коли назвался груздем, так полезу в кузов.
– Вот это верно. – одобрил Филин со снисходительной улыбкой. – Дале. Нынче из-за проделок ваших Андрей Петрович в нужде пребывает. Потому и лют зело, а это не к добру. Надо бы уважить князя. Дам тебе список, за ночь соберёте по запасам своим. На месяц другой успокоится всё, тогда уж и о моих выгодах потолкуем. Ведь не за спасибо спасать вас буду, сам понимать должон.
– Это само собой, Василь Филиппыч. Чего ж мы, без понимания, что ль?
– Ну, а уж после виноватых искать станем.
– Ч-ч-чего? – закромщик снова начал заикаться.
Филин развёл руками, давая понять, что по-другому не получится.
– Рано ли, поздно, а обман сей с двойной пашней на божий свет выйдет. Уж если мне сие открылось, так и Захар Лукич дотёмкает. Он, конечно, в хитростях таких не шибко сведущ. Но и не дурак же вовсе, ага. Да и добро утаённое как выдавать станем? Как объяснишь князю, что нынче не было, да вот нашлось? А? Под лавку закатилось? Так что надо загодя решить, кто из вас крайним станет. – Глядя на закромщика, который тут же побледнел, Филин по-хозяйски усмехнулся. – Да не робей, уж точно не ты. Ибо мне наперёд для других важных дел сгодишься. Ты, гляжу, не промах, кашу с тобой варить можно. Так что, коли всё верно делать будешь, правой рукой мне станешь, ага. А это… Захар Лукич-то не вечен. Ему уж ныне много лет. А, кроме меня, у князя боле доверенных нет. Вот и думай, кто тиуном станет. Небось, хочешь подтиунником быть? А?
Закромщик смущённо улыбнулся.
– То-то. – Филин снисходительно похлопал его по щеке, а потом опять крепко ухватил за волосы. – Ну, раз так, думай, кого крайним делать будем. Чего глядишь? Есть среди дворни, кто жить тебе мешает?
Васька не успел договорить, как закромщик встрепенулся и возбуждённо сверкнул глазами.
– Есть, Василь Филиппыч. Очень даже есть. – зашептал он, ладонью обхватив себя за горло. – Во как донял.
Филин одобрительно кивнул.
– Хм… Не ошибся я в тебе, споёмся. Звать-то тебя как, помощник?
Закромщик слабо улыбнулся и впервые за весь разговор сказал спокойно, без испуга:
– Елизар Горшеня.
Глава седьмая
В тот же день, когда Филин вернулся из Водопьяновки, Кудеяр Тишенков покинул Белёв. Сначала он отправился на большой рынок в северной части посада и до обеда бродил там меж лавок и рядов. В итоге взял полокову ржи, осьмину ячменя, гарнец[17 - Старорусские меры объема сыпучих тел: полокова ? 419,84 л (7 пудов ржи = 114,66 кг); осьмина ? 104,95 л; гарнец ? 3,276 л.] соли и ещё за гроши разжился у барахольщиков старой одеждой. Нагрузив покупки на заводного[18 - Заводные – запасные лошади, предназначенные для замены усталых и больных, для немедленного пополнения убыли и для припряжки в труднопроходимых местах.] коня, Тишенков выехал из Завырской слободы на Болховский шлях.
Через одиннадцать вёрст он свернул с наезженной дороги, но перед этим долго и внимательно смотрел вокруг, словно хотел убедиться, что никто случайно его не увидит. Проехав по целине с полверсты, Кудеяр наткнулся на балку шириной в три сажени. Края её поросли непролазной стеной кустарника. Однако Тишенков уверенно направил коня в самую чащу и оказался на узкой, но вполне проходимой тропинке. По ней Кудеяр спустился на дно оврага. Там повернул налево и двинулся по топкой ложбине меж неприступных обрывов, что отвесной стеной вставали с обеих сторон. Шагов через двести слева отвесная стена перешла в пологий склон, по которому кони легко вышли из оврага. Ещё версту Тишенков петлял по дебрям молодых разлапистых кустов, а потом пошла со?гра[19 - Со?гра – угнетенный лес на заболоченной кочковатой местности в поймах рек или на плоских водоразделах.] из корявых сосен и чахлых берёз, меж которых в рост человека стояла трава и кудрявился дикий малинник. Пришлось спешиться и вести коней в поводу. Продираясь сквозь заросли, Кудеяр прошёл три версты и уже ближе к закату попал на просторную поляну, среди которой притаился хуторок.
Невысокий тын с узкой калиткой окружал кусок земли с полсотни шагов в поперечнике. Его почти надвое делили стоящие в ряд ветхие избы с дерновой крышей. На одной половине тесно жались друг к другу пуня ледника, колодец, чёрный от копоти сруб бани с жердяным сушилом для белья и летняя кухня с длинным столом и маленькой глиняной печью под соломенным навесом. На другой одиноко стоял большой крытый сеновал, набитый под завязку. Рядом с ним спокойно ходили на привязи корова с телёнком и три козы, а вокруг встревоженно бегал десяток превосходных скакунов – гривастых ногайских трёхлеток разных мастей.
Когда Тишенков ещё только подходил к плетёной ограде, калитка открылась. В проёме появился босоногий мальчишка в дерюжной рубахе с прожжённой дырой на боку. Щербато улыбнувшись, он обернулся и звонко крикнул куда-то в глубь хутора.
– Дед Лаврентий! Приехал.
Из-под навеса летней кухни выскочил сухой поджарый старик в заячьей епанче, подвязанной верёвкой вместо пояса. Он колченого засеменил навстречу Кудеяру, взволнованно причитая на ходу.
– Слава тебе господи! А то уж он девять дён как здеся торчит. Сказывал, завтра десятый дён жду, не будет – ухожу. А тебя всё нет да нет. Здравствуй, Кудеяр Григорьевич.
– Здорово, Лаврушка. – По-барски небрежно бросил Тишенков, хотя седой собеседник был вдвое старше него. – Такое в белом свете деется, недосуг нос утереть. А ты говоришь – не еду. Ну, где он?
Старик с пониманием закивал и обернулся к мальчишке.
– Прошка, сбегай.
Прошка припустил к средней избе, исчез в ней, и вскоре на крыльце появился мужчина в измятом исподнем. На вид он был степняком: восточная кровь говорила и в темно-бронзовой коже, и в иссиня-черной гриве с широкой проседью, и в разрезе глаз, но их светло-серый цвет выдавал славянина.
– Здорово, Свист. – сдержанно поприветствовал его Кудеяр.
– Алейкум салам… – Свист остановился у ведра с водой и несколько раз плеснул себе в лицо. Он почесал густо заросшую грудь, где на нитке вместо крестика висел деревянный амулет. – Где тя шайтан носит? Мы уж тут дрыхнуть устали.
– Эх, Свист, знал бы ты… – вздохнул Кудеяр, не слишком умело изображая скорбь. – Плохие вести я привёз. Князь наш, Иван Иванович, богу душу отдал.
Лаврентий охнул и уронил мешок с крупой, который только что достал из перемётной сумы Кудеяра. Лицо Свиста осталось бесстрастным, только соломинка, которую он жевал, на короткий едва уловимый миг застыла, но тут уже вновь заходила вверх-вниз. В этом был весь он: ангельская улыбка и добродушие в секунду сменялись холодным волчьим взглядом из-под нависших бровей, и только одному богу было известно, что именно на душе сейчас у этого человека.
– К?к патшалгы. Царствие небесное. – коротко прошептал Свист, перекрестился и тут же заговорил без тени печали в голосе. – И как же дальше?
Кудеяр не ответил, коротким кивком призвал следовать за ним и прошёл под навес летней кухни, где для вечерней трапезы собрался весь хутор: три мужика средних лет, пять женщин и детвора. Тишенков снова жестом дал понять, что чужие уши тут ни к чему, и кухня сразу же опустела. Последним навес покидал Лаврентий, который хотел было остаться, но, поймав выразительный взгляд Кудеяра, последовал за остальными.
– Помянем раба божьего Ивана?
Кудеяр поставил на стол глиняную бутыль с вином. Разлив его по трём деревянным чашкам, убрал одну в сторону и накрыл ломтем чёрного хлеба. Потом залпом осушил свою, занюхал рукавом. Свист только пригубил, но пить не стал.
– Так как же будем?
Кудеяр задумчиво посмотрел на другую сторону хутора, где по загону бегали дикие кони. Каждого из этих скакунов в Москве за пять рублей оторвут с руками, а ежели с умом поторговаться, так можно взять и пять с полтиной. Вот только если вести их в столицу по столбовым дорогам, то на мытное пятнание, мостовщину с превозом, замыт с явкой, костки и другие подати, а также взятки на таможенных заставах уйдёт не меньше гривны. Если учесть, что в степи подобных коней отдавали по два-три рубля, то чистой выгоды от такой продажи при самой удачной сделке выйдет полтора, из которых ещё нужно вычесть долю погонщиков, плату за ночлег, корм на стоянках и прочие расходы. Одним словом, после всего на руках останется сущая мелочь.
Но можно за бесценок взять скакунов у степного конокрада, а потом провести небольшой табун по тайным тропам в обход таможенных застав. Такая торговля принесёт гораздо больше. И Свист, который сейчас сидел напротив Кудеяра, как раз был настоящий мастер заповедных[20 - Заповедные дела – контрабанда.] дел. Он водил знакомство с разным кочевым людом и мог пройти через всю степь с закрытыми глазами. Но главное – он знал тайный брод через Оку. Купить или выменять у степняков коней могли многие, но вот провести их к ярмаркам в обход застав – это сделать мог только Свист.
Кроме него, про переправу знал ещё покойный князь Белёвский. Он то и открыл этот секрет Кудеяру, которого шесть лет назад поставил при себе управителем заповедных дел. Специально под них заложили этот хутор – он не значился ни в одной писцовой книге и располагался близ Оки средь глухого леса в таком пограничье, что, случись разбираться, даже самый въедливый чинуша не смог бы определить, кому принадлежит эта земля – Белёву или Бобрику. Люди сюда попадали особые. Такие, которых за пределами хутора никто не ждал, или, наоборот, жадно стерегли, чтобы предать суду. Вроде хозяина здесь был дядька Лаврентий, когда-то давно сбежавший из родных мест, случайно став душегубом. И прошлое других обитателей хутора было ничуть не лучше.
Всё работало просто. Свист пригонял диких коней, их прижигали княжеским клеймом, ковали и уводили в Перемышль, где отдавали знакомым купцам по три рубля, имея прибыль по два целковых с каждой головы. С первой оттепели до самой зимы, пока степь не укрывал снег, делавший ее непроходимой, Свист появлялся на хуторе пять-шесть раз. Выходило, за год Иван Иванович Белёвский получал сто двадцать рублей чистого дохода. Свою выгоду имел и Свист, и даже Кудеяр. Но смерть князя ставила заповедную торговлю под угрозу.
– Барыш не хотелось бы терять… – признался Тишенков и посмотрел на Свиста. – Однако ж, новый князь свой порядок заводить желает. Без году неделя княжит, а уж всех придушил до нетерпения. Чую, погубит он всё. Ежели не со зла, так по глупости.
В конце короткой речи голос Кудеяра дрогнул от обиды – он вспомнил спор с Клыковым, когда тот подбивал ослушаться князя. Ведь Тишенков тогда не просто так пошёл супротив десятника. Он рассчитывал, что новый голова оценит эту помощь и, коль скоро ему нужны новые десятники, одним из них непременно сделает его, Кудеяра. А у него и подарок на этот случай князю готов – заповедная торговля лошадьми и сто двадцать рублей барыша в год. Но с тех пор прошла неделя, а Тишенков так и остался простым послужильцем. Вот почему он решил уйти от князя, благо три рубля для выкупа кабального письма с последней продажи заповедных лошадок приберег.
– К чему ведешь? – просто спросил Свист.
– Княжеские клейма у меня. Поддельные мытные знаки тоже. В Перемышль коней я водил. Купцов тамошних знаю. Вот и выходит, что князь энтот нам – всё одно, что пятая нога корове. Сами можем делать всё. Без князя. И долю его промеж собой делить.
– Менэ ничек. Вот оно что… – Под пристальным взглядом Тишенкова Свист даже бровью не повёл. – Барыш делить – это хорошо. Только как мы его делить станем?
– Поровну. – с готовностью ответил Кудеяр. – Всё, что сторговали, поровну делить.
– Ну, это, брат, не совсем правильно выходит… – усмехнулся Свист. – Ты ж один, а нас четверо. Где же справедливость?
За прошедшие дни Кудеяр много раз представлял себе этот разговор и был готов к такому повороту.
– Один-то я один, да забот на мне много боле, чем на вас, вместе взятых. – спокойно возразил он. – Так что без меня не сладить вам.
– Салу, дускай. – Свист сдержанно рассмеялся. – Брось, дружок. Мнишь, мы этаких красавцев без тебя сбыть не сможем?
Свист лукавил. Ногайские кони, конечно, товар ходовой, но без Кудеяра шайка не сможет найти покупателя. И даже если сильно повезёт, без княжеской тамги и поддельных мытных пятен цена окажется такой, что едва покроет расходы. И Кудеяр это тоже знал.
– Да, не сможете. – уверенно возразил он. – В города вам не сунуться. С вашим-то рылом. Купцов не знаете. Тамги и пятен нет. Так что не обойтись вам без меня. Нет, не обойтись.
– Тебе без нас тоже.
– Согласен. Потому и предлагаю поровну. Мог бы без вас обойтись, так не предлагал бы вовсе.
Свист взял со стола тонкий стебель зелёного лука, неспешно макнул его в солонку, с хрустом откусил белую головку и принялся жевать. Согласиться с Тишенковым для шайки означало получать по два рубля с каждого коня. А ведь когда имели дело с князем, им доставалось меньше одного. Казалось, тут и думать нечего, но какой же лихой разбойник согласится взять малое, не замахнувшись на большое.
– Нет, дускай, не по совести сие. Тем паче, я за этих коней степнякам уже десять гривен серебра отдал. Ежели нынче ты их за три рубля продашь, и мы сие надвое разделим, так, выходит, ты в пятнадцать рублей барыш возьмёшь, а мы пять. Где же справедливость?
Этот простой вопрос смутил Тишенкова. Он закусил губу и нервно хрустнул пальцами. Глядя на него с улыбкой, Свист продолжил:
– А ещё о риске не забудь. Он тоже денег стоит. Оно же нынче как выходит: ты на кон ничего не ставишь. А я – голову. Что ежели ты обманешь, коней сведёшь, да с деньгами сгинешь? Как тогда? Кто вот им за обман ответит?
Свист кивнул в сторону колодца, где уже собрались его ватажники: натянутый, как тетива, Вадим Печора; мордвин Викай и Давыд, который прозвище Меченный получил за то, что на обеих щеках у него чернели выжженные буквы «Т», а на лбу «А». Если сложить их, получалось «Тать». Так метили воров, пригнанных в казённые каменоломни на вечные работы. Как Давыд с таким клеймом оказался на свободе – никто и не спрашивал.
Каждый из них признавал старшинство Свиста и не перечил ему, когда доходило до важных решений. Но это только до первой промашки. Таков уж неписаный закон – если промахнется вожак, лишит подельщиков удачи, век его будет недолог. Возможно, Вадим Печора, с которым Свист знался больше десятка лет, один раз и закрыл бы глаза на вину старого друга, но от Викая такого не жди. Свирепый мордвин однажды в кабаке выдавил глаза незнакомцу, только заподозрив, что тот жулил в зернь[21 - Зернь – азартная игра] со ставкой в полушку[22 - Полушка – мелкая медная монета в четверть копейки, самая мелкая неделимая денежная единица в Древней Руси].
– Так что не крути, дускай. В нашем промысле закон простой. Кто на кон больше ставит, тому и доля с барыша больше. Вот так-то. А посему выходит, нам семь десятин, тебе три. Вот как по правде будет. А ежели хочешь пополам, тогда гони червонец, как твой князь делал. – Свист усмехнулся и добавил. – Тогда и сам князем станешь.
Кудеяр от возбуждения клацнул зубами. Внезапно к нему пришла смелая мысль. Все купцы, с которыми он от имени князя имел дело, кроме торговли, ещё давали в рост[23 - Деньги в рост – кредит, лихва – проценты.]. Лихву, правда, начисляли безбожную – за год половину от выданной суммы. Так что, сейчас взяв у них десять рублей, следующей осенью придётся отдать пятнадцать. Для большинства такой долг превращался в неоплатную кабалу. Но ведь у Кудеяра есть заповедная торговля. Если за следующий год Свист сходит в степь пять раз, как это обычно бывало, то к осени Кудеяр соберёт пятьдесят рублей. Таким доходом может и не каждый князь похвастаться.
– Что ж, Свист. Тогда жди с деньгами. – Тишенков решительно провёл ладонью по поверхности стола, сметая крошки хлеба. – Но уж после не взыщи. Уж коли весь риск на мне будет, так и про торговлю нашу решать тоже я стану.
Глава восьмая
Свой первый настоящий княжеский совет Андрей Петрович собрал на тридцатый день пребывания в Белёве. За это время горница терема сильно изменилась. Место большого стола, за которым обычно для трапезы собиралась не только семья, но и близкая челядь, теперь занимали одинокий стул и стол – небольшой, но сплошь заставленный серебряной посудой. Глухую стену закрывал разноцветный персидский ковёр с пышными кистями на углах. Раньше он висел над кроватью в княжеской опочивальне, но там его никто не видел, поэтому новый хозяин распорядился перенести столь ценную вещь туда, где он собирался встречать гостей. А большое кресло, что так приглянулось князю в день его приезда, теперь переместилось в центр покоев.
На совет, который Андрей Петрович назвал большим, собралось всего-то три человека. Огнищный тиун Захар Лукич устроился на широкой лавке у окна и задумчиво листал настоящие посошные книги, что на днях случайно нашлись в одном из амбаров. Десяток пухлых фолиантов лежал в коробе, который покоился в самом дальнем углу, под ворохом мешков, корзин и туесов со всякой всячиной. Филин вальяжно развалился на печи и тусклым взглядом, без большого интереса следил за юной сенной девкой, что суетилась у стола. Васька заприметил её в первый же день и с тех пор не давал прохода, но, вернувшись из Водопьяновки, внезапно потерял к ней интерес и теперь, глядя на статную холопку, вспоминал Акулину Хапутину и… огорчённо вздыхал.
Третьим участником совета стал Елизар Горшеня. Именно он, конечно, по случайности нашёл верные книги и тут же принёс их князю. А заодно подробно объяснил, зачем прежний тиун вёл двойную запись. Казна этим не наполнилась, но отныне всё встало на места, так что Андрей Петрович на радостях и с ловкой подачи Филина тут же сделал закромщика старшим подтиуном и по каждой мелочи стал спрашивать его совета. Поэтому, когда встал вопрос, что делать с челобитной водопьяновцев, первым делом князь дал слово Елизару.
– Тут ведь, Андрей Петрович, не тако просто дело… – Горшеня говорил медленно и важно, иногда со значением поднимая вверх указательный палец. – У тебя в казне без того шаром кати. Как три года без оброка?
– Ну, чай, не одна Водопьяновка закрома наполняет. – вставил Захар Лукич, не отрываясь от книг.
– Да это ж наперёд известно, как сложится. Другие как прознают, что ты одним дозволил на третье поле перейти да от тягла ослобонил, – ого! Потонешь в челобитиях. Что ж ты, Захар Лукич, всем оброк простишь? А коли кому откажешь, так они с земли подымутся. А как же, не холопы ведь. Вольны уйти, ежели что не в них. Вот и выбирай. То ли смердов ублажить, то ли казну наполнить.
– Так ведь то-то и оно. Я же ведь, Андрей Петрович, посчитал тута, что да как. – Захар Лукич постучал ладонью по раскрытой книге. – Ежели все княжьи пашни на три поля перейдут, так это ж урожая чуть ни вдвое больше будет. Уж три года передюжим, небось как-то. Зато после-то.
Андрей Петрович выслушал тиуна и вопросительно посмотрел на Горшеню. Тот снисходительно усмехнулся и покачал головой.
– Не в обиду тебе, Захар Лукич, не в упрёк, да вот сразу видать, что в большом хозяйстве ты отродясь не тиунил. Урожай-то, каким бы ни был, он ведь в селе остаётся. А оброк един и берут его не с урожая, а с пашни. Нынче урожай жидкий, казна княжеска пуд ржи и овса с каждой десятины получит. А в будущий год пахари, глядишь, втрое больше соберут. Да князь от них получит такожде. Ибо пашни-то больше не стало. Так что от третьего поля смердам выгода, а князю нашему – всё одно. Андрей Петрович сколь получал оброка с Водопьяновки, столь получать и будет.
– Это что ж выходит? – насупился Бобриков. – Я за счёт своей казны для смердов сытну жизнь купить должон?
– Именно. – Горшеня хлопнул в ладоши. – Так и есть, Андрей Петрович. Потому и говорю, на что тебе маета сия? Смердова беда, так пущай они и чешутся.
Захар Лукич разочарованно поджал губы, но сдаваться не спешил:
– Ну, коли нашей казне прибыток с четей, так пущай смерды не в три поля переходят, а нову пашню чистят.
Горшеня в ответ только рассмеялся.
– Ты, Захар Лукич, думаешь, спроста князь покойный ложны книги завёл? Вот настоящие в руках нынче держишь. Ну-ка, сочти, сколь по ним Андрей Петрович должон людей в царёво войско кажный год давать. Сотню? А то и боле. И каждому двух коней да прокром ещё. Это не мене червонца. На каждого. – Горшеня назидательно потряс пальцем. – А ты говоришь, давай, мол, ещё пашней прирастём. Коли так сделать, то на государеву службу таков расход станет… Андрей Петрович вовсе без портков останется.
– Ну ты меня тоже дыролбней не держи. – взвился Захар Лукич. – Вы ж прежде пашню от московских дьяков как-то прятали. А что ж нову так не спрятать?
– Эка. Московским дьякам поля наши правильно считать блеск серебра мешал. Кажный год, почитай, пятнадцать гривен на посулы уходило. А ежели нынче пашня вдвое вырастет? Так и серебра вдвое больше надобно. Опять же, где брать при казне пустой?
– Ну всё, будет. – постановил Андрей Петрович. Он уже устал слушать пререкания и каждый новый довод тиуна принимал с нараставшим раздражением. – Ты, Захар Лукич, тоже подумай. До тебя, небось, не дурак какой делами ведал. Так что… На том и забудем, про челобитную. Глупость, смердовы хотелки.
– Верно, Андрей Петрович. – поддакнул Горшеня. – А ежели хочешь казне прибыток сделать, так для того других путей множество. Вон, переправа под Жермином. Можно перевоз поднять. Даже ежели с каждого парома на полушку больше брать, на чох за год рублей двадцать прибытка. А ещё побережный сбор ввести. На перевозчиков тягло возложить. Вот где жила настоящая. Трудов, почитай, и нет совсем, да серебро как из воздуха капает. А новы пашни чистить, на три поля пахарей переводить… Сие всё такая маета. Князя в расход введёт, а прибытка не даст. Ежели какая копейка и придёт с этого, так лет через двадцать не ранее.
– Ну нет, столь ждать мне под силу. – отрезал Андрей Петрович.
– А с людями как быть? – осторожно, но настойчиво спросил Захар Лукич. – Голодать же станут.
– А это не моя печаль! – резко оборвал его князь и стукнул кулаком по подлокотнику. – Не любо при мне, пущай идут, вон, в Дико поле. Там и земли полно и оброк брать некому. Всё, Захар Лукич, не упрямствуй. Ты, как-никак, мой тиун и наперёд всего о моей казне думать должен. А не про то, как смердам угодить. Так, аль нет?
– Так. – обиженно буркнул Захар Лукич.
– А коли так, лучше воров мне сыщи. – строго продолжил Бобриков. – Кто до приезда нашего из амбаров растащил всё? Вот чем займись. Пользы боле будет.
При упоминании о пустых амбарах, Горшеня потемнел лицом и со страхом посмотрел на Филина. Васька промолчал весь совет, но тут встрепенулся, откашлялся.
– Это сыщем, Андрей Петрович, не сумневайся, ага. Уже след взял. Не уйдут тати.
– Вот, Захар Лукич, Ваську в пример возьми. Он хоть делом занят. А от тебя покуда проку мало. – Укорив тиуна, Андрей Петрович повернулся к Филину. – И когда я вора сам узрю?
Васька пожал плечами:
– Ну, спешить в таком деле не к добру. Но, мыслю, через недельку, дней через десять попадётся гад.
Глава девятая
За две недели до назначенных поминок из Бобрика пришли тревожные вести. У Ленивого брода заметили степняков. Десяток всадников подошёл к самой реке, покрутился на берегу, а один смельчак даже сунулся в воду. Правда, заметив караульных, поспешил назад. Нукеры ускакали на полёт стрелы и оттуда долго наблюдали за переправой, а потом двинулись вверх по руслу.
Тонкой сразу оживился – ему не нравилось в Белёве. Вся жизнь старого рубаки прошла в маленькой убогой крепостце, где он знал всех и каждого, а в чужом городе с его большим детинцем, роскошным теремом и высоким каменным собором Сидор ощущал себя не человеком – муравьишкой. Потому, едва дослушав рассказ гонца, ратный голова тут же предложил отправить на рубеж княжеских владений всех послужильцев.
Правда, Андрей Петрович это не одобрил:
– А здесь кто останется? Отныне это стольный град. Случись чего, кто ж защищать станет?
– Ленивый брод – на весь рубеж одно такое место, где малой силой большую сдержать можно. – рассудительно заметил Тонкой. – А коли перейдут нукеры Бобрик, так, поди, после споймай их. Гоняйся тады по всей земле. Поля сожгут, деревни пограбят, людей полонят. А ежели сие случится, когда гости здеся будут? Тогда как?
Андрей Петрович слушал и несогласно качал головой. В глубине души он не хотел, чтобы белёвские холопы увидели, из какой убогой глухомани к ним приехал новый господин. Но последний довод Тонкого убедил князя.
В тот же вечер начались сборы, а уже на рассвете следующего дня три десятка всадников покинули Белёв и к закату достигли Бобрика. Тонкой сразу же взялся за дело. Сначала распустил старые десятки и собрал их заново, к семи белёвцам добавляя трёх бобричан, один из которых становился головою.
Бывший десятник Клыков уже простым воином попал в десяток Корнила Бавыки. Исполинского роста богатырь, в огромных лапищах которого тяжёлая двуручная секира смотрелась хрупкой соломинкой, болтать попусту не любил и объяснялся в основном жестами, из-за чего Фёдор поначалу принял его за немого. Зато когда Бавыка говорил, его, казалось, слышали даже глухие. Настолько мощный и громкий голос даровал ему господь.
Пудышев в головы получил Ерофея Чередеева, которому товарищи дали странное прозвище – кроткий Буслай[24 - Буслай – бешенный, яростный человек.]. Глядя на то, как в схватке он нещадно и яростно рубил всех попавшихся под руку, никто бы не поверил, что это тот же самый Ерофей, который за обедом, как бы скуден он ни был, обязательно откладывал кусочек хлеба, чтобы после покрошить его в птичью кормушку.
Корнил и Ерофей приняли новость о своём десятстве без особой радости. Бавыка безразлично пожал плечами, а Чередеев даже невесело буркнул под нос, мол, за большую честь и спрос велик. А вот третий десятник – Филат Шебоня, к удивлению белёвцев, даже попытался отказаться.
– Сидор Михалыч, ты это… Не подумай чего. Ежели тебе надобно, я хоть чёртом стану. – сбивчиво, явно смущаясь, объяснял он. – Токмо… Вот как бы… А с огнебоем в Белёве как?
– Уфффф… – Тонкой скривился, будто от зубной боли.
Филат Шебоня был отличным лучником. Он пускал точно в цель четыре стрелы за то же время, пока другие возились с двумя, чтобы одной из них промахнуться. Но пять лет назад волей случая Шебоня увидел стрелецкий полк и большой государев наряд[25 - Большой государев наряд – особый артиллерийский полк, который состоял из крупнокалиберных пушек и полевых орудий, и содержался за счёт государственной казны.]. И потерял покой. Пороховой бой так впечатлил Филата, что любой разговор о ратном деле он неизменно сводил к пищалям и ручницам.
– Погодь ты с этим, Филат.
– Да чего ж годить, Сидор Михалыч? – затараторил Шебоня.
Он уже успел расспросить белёвцев, с интересом выслушал их рассказ об огромных стенах, стрельнях, башнях с бойницами и пришёл к выводу, что в такой крепости непременно есть пушки. Хотя бы одна.
– Нет, десятником оно конечно. Коли надобно, так что ж. Но ежели огнебой есть, ты меня лучше над ним поставь. Уж я тогда так расстараюсь…
– Поглядим. Покуда важней дела есть. Принимай десяток.
Вернувшись в родные места, Сидор расцвёл и приободрился. А вот белёвцев Бобрик вогнал в уныние. Почерневший от времени тын детинца, покосившийся терем с просевшей в середине крышей, на посаде нищета и запустенье. Всё это против воли внушало невеселую мысль: если князь жил в этакой дыре, не доведёт ли он их город до того же. Однако, вскоре началась служба и водоворот привычных дел не оставлял для размышлений ни времени, ни сил.
Первым делом Тонкой отправил Бавыку и его людей вверх по руслу Бобрика. Убедиться, что степняки не перешли реку где-нибудь ещё. Десяток Ерофея, который считался лучшим следопытом этих мест, ушёл в сторо?жу до самой речки Злакомы, посмотреть, а нет ли в степи других незваных гостей. А тем, кто остался на Ленивом броде, предстояло нести караул и поправлять обрушенные за год укрепления.
В самый разгар работ неожиданно с посланием приехал Филин. Князь требовал, немедленно вернуть один десяток. На удивление Тонкого Васька пояснил, что совсем скоро в Белёв приедет царский посланец. Из самой Москвы. И как же Андрей Петрович будет его встречать, если в городе ни одного послужильца? Всё это могло обернуться большим позором.
И хоть ратников на броде не хватало, Сидору пришлось подчиниться и отдать Ваське людей Шебони. Однако, Филин отказался. Он подробно расспросил о новых десятках и заявил, что прислан именно за Бавыкой. Ведь Андрей Петрович вряд ли сможет удивить московского гостя числом своей рати. Даже если поставить в караул всех послужильцев разом – столичный человек, без сомнения, видел дружины гораздо больше. А вот такого красавца-богатыря, как Корнил, во всем верховском порубежье не сыщешь.
– Так он до самых Близненских дворов пойдёт. – сообщил Тонкой. – Почитай, двадцать вёрст в один конец. Так что не раньше пятого дня вернётся.
– Так гонцом кого пошли. – настоял Филин.
Сидор с озабоченным видом почесал косматый затылок.
– Бобка!
Уже через мгновение перед Тонким возник Борис Замятин, а попросту Бобка – младший дружинник 15 лет отроду. Худой, в рубахе будто с чужого плеча, но с кинжалом на боку – пусть из дрянной стали и с деревянной ручкой, – но вид он имел такой, будто носит за поясом дорогой дамасский ханджар.
Держался Бобка гордо, с достоинством, но при этом по-собачьи преданно смотрел на Тонкого и подражал ему во всём: в походке, в привычке во время разговора заправлять большие пальцы рук за пояс и даже манерой говорить чуть слышным полушёпотом.
– Давай-ка, возьми коня пошибче и ветром за Бавыкой мчись. – распорядился Сидор.
Бобка засиял от радости, кивнул и во всю прыть припустил от реки к городу. И не успел Филин проехать полверсты от Ленивого брода до слободы, а Замятин уже верхом выскочил из посада и помчался вдоль Бобрика на поиски Бавыки.
Десяток Корнила вернулся тем же вечером, а следующим утром снова отправился в путь и после полудня оказался в Белёве. На городском посаде Фёдор Клыков отстал от товарищей – заехал на торговище и купил там три малиновых леваша[26 - Леваши – постное русское лакомство: толчёные ягоды, высушенные в натопленной печи в виде лепешек.]. Знал, что вечером Семён уговорит отпустить его на гулянье, где, конечно, встретится с Ладой. Но сам-то он слишком молод, чтобы додуматься и купить невесте гостинец.
Семён встретил отца на дворе. Радостный и беззаботный. Несмотря на юный возраст, в стати он запросто мог потягаться со взрослым. Этим Семён пошёл в родителя: тот же разворот могучих плеч; те же мускулистые руки и большие тяжёлые кулаки. Да и на лицо это был тот же Фёдор, лишь на двадцать лет моложе, вот только цвет глаз ему подарила покойная мать – вместо карего они светились ярко-голубым.
При виде сына у Фёдора сладко защемило сердце, но Клыков считал, что будущий воин должен расти в строгости, без всяких нежностей, поэтому сухо распорядился:
– Прими коня. – Но всё же не сдержался, чуть заметно улыбнулся и потрепал сына по каштановой гриве.
Семён взял лошадь под уздцы и повёл в сарай. Фёдор вошёл следом, хозяйским взглядом окинул козу, кур на насесте и вышел. Как раз в это время во дворе появилась Марья Пудышева.
– О, здорово, соседка.
– Храни тебя бог, Фёдор Степанович. – Марья слегка склонила голову. – Не серчай уж на меня, не удержалась вот. Вижу, приехал. Дай, думаю, зайду, поспрашаю, как там Ванюша мой.
– А чего ему сделается? – ответил Фёдор с доброй усмешкой. – Да ты зря не думай. Нынче в рубежах спокойно, не видать степняка. Так что служба – не бей лежачего. Токмо знай, что наливай да пей.
Пока он это говорил, через дыру в ограде прошмыгнула Анна, а за старшей сестрой хвостиком потянулась и Настя.
– А вы-то чего? Вот ведь непоседы! – Марья всплеснула руками и для вида даже насупилась. – Пошто деда оставили? Ещё натворит чего без досмотра. Анютка, тебе хоть что доверить можно?
Фёдор улыбнулся, глядя на то, как Анна виновато супилась и пыхтела, а Настенька пряталась за спину старшей сестры.
– А тут вот батька ваш гостинец передал. – Клыков достал оттуда свёрток с левашами. – Ну-ка, держите, да бегом домой.
Анна с горящими от восторга глазами приняла сладости, по-взрослому приложила маленькую ручонку к груди и поклонилась важно, но неуклюже и смешно.
– Благодарствую, Фёдор Степанович.
– Так это я вам благодарствую, Анна Ивановна, что за Сёмкой пригляд ведёте. А то он ведь оболтус тот ещё. Без присмот…
С грохотом распахнулись ворота. Одна их створка с такой силой ударилась о стену сарая, что с треском лопнули доски, а искорёженный запорный крюк упал на землю. Марья вскрикнула, в испуге бросилась к дочерям, обняла их, закрыла собой. Фёдор тоже шагнул вперёд и встал между детьми и остатками ворот. Рука по привычке легла на саблю. Но тут в открытом проёме появился Корнил Бавыка в доспехах и с неизменной своей секирой. За десятником прятался Васька Филин, рядом с ним суетился ещё один послужилец из Бобрика, а дальше, уже на дороге толпилась дюжина огнищан, среди которых Клыков разглядел будущего тестя – Горшеню.
Бавыка прошёл на двор, держа секиру по-боевому, в обеих руках.
– Ты это, Фёдор, не дури, да. – произнёс Корнил мягко, но настойчиво
Фёдор недоумённо округлил глаза и пожал плечами:
– Ты про что, Корнил? Скажи толком.
Бавыка смущённо поморщился, вздохнул и нехотя кивнул на Филина.
– Тут вот, Василь Филиппович говорит, будто ты вор и князю нашему изменник.
Фёдор улыбнулся. Настолько нелепо это прозвучало. Но хмурый взгляд Бавыки и плотная шеренга огнищан, что обступили Клыкова полукольцом, подтверждали, что Корнил не шутит.
– А ты как думал, шелупонь? – Филин вышел из-за спин рядцов, но встал чуть позади Бавыки, с опаской косясь на руку Фёдора, что по-прежнему сжимала рукоять. – Харч княжеский из амбаров таскать разве не измена? Как есть измена, ага. И кто на таком пойман, тот вор. Самый что ни есть истинный.
– Да ты чего несешь-то? Какой харч?
– Ну ты невинну овцу из себя не корчи. – жёстко отрезал Филин. – Лучше повинись добром. Тогда и мы, глядишь, лютовать не станем.
– Так знать бы, в чём вина. – честно признался Фёдор.
Васька с расстроенным видом покачал головой.
– Как скажешь. Коли так, искать будем, ага.
Филин отступил за Бавыку и коротко кивнул ему. Корнил положил огромную ручищу Фёдору на плечо.
– Не обессудь…
Подоспевший послужилец виновато посмотрел на Фёдора. Тот не сразу понял смысл этого взгляда, а когда догадался, согласно кивнул и сам расстегнул пояс с саблей. Васька взял оружие Клыкова и заговорил уже смело, без опаски:
– Ну, чего церемонитесь с ним, будто с князем?
– И сыну скажи, чтоб не дурил. – попросил Бавыка.
Клыков оглянулся на сарай. В открытых дверях стоял Семён с вилами в руках. Перехватив его взгляд, Фёдор лёгким кивком призвал не сопротивляться. На какое то мгновенье Семён заколебался и в порыве даже, наоборот, сильнее сжал древко. Но потом заметил в толпе Елизара, и присутствие будущего тестя обнадёжило Семёна. Он опустил вилы, отшагнул в сторону, пропуская в сарай огнищан. Последним, пряча взгляд, прошмыгнул Горшеня, но уже через несколько мгновений он вернулся, волоча по земле большой мешок, за которым тянулся белёсый шлейф мучной пыли.
– Вот! – торжествующе объявил он. – В сене спрятал, вор. Там ещё с полдюжины, не меньше. И прочего добра имеется.
– Ну? – Филин с вызовом посмотрел на поражённого Клыкова. – Нынче понял, что за измена?
Бавыка разочарованно вздохнул. Конечно, Фёдора он знал всего пару недель и ручаться за него не мог. Но зато с Васькой Филином Корнил был знаком уже десяток лет и верить ему на слово никогда не стал бы. Но теперь, когда в сарае нашли воровской схрон, как уж не поверить.
– Как же это? – тихо спросила Марья, растерянно глядя на Фёдора.
– Сам не ведаю… – честно признался Клыков. – Отродясь не видал.
– Ага, само в сене народилось. – подсказал Филин с язвительной усмешкой. – Ну да ничего. Посидишь в темнице, вспомнишь, как и с кем воровал. Ну, чего встали? Вяжите его, да на правёж поведём.
Глава десятая
Шла последняя неделя сентября, в природе наступила та пора, когда два времени года сходятся и правят миром попеременно. Днём стояло бабье лето, воздух наполнялся приятным теплом, а ночью на землю сплошным покрывалом ложился серебряный иней, и по утрам над Окой клубился холодный туман. Дожди ещё не пришли, стояло крепкое вёдро, но вместо белоснежных облаков всё чаще серую муть небосвода застилали тучи. Лес не спешил сбрасывать летние одежды, кроны деревьев игриво шумели в порывах ветра, но в зелёной гуще уже появились первые жёлтые точки высохших листьев и красным пятном проступали гроздья рябины. Луга и поляны ещё украшал пёстрый узор последних цветов, но в изумрудном море всё шире становились островки жухлой поникшей травы.
Спустя две недели после первого визита Филин вновь прибыл в Водопьяновку. Он въехал в село чуть за полдень и, оказавшись у старой берёзы с ликом Сырой Богородицы, против воли придержал коня. Перед его мысленным взором встали картины, что все четырнадцать дней не давали покоя и пятнадцать ночей являлись во снах. Но если всё получится, как он задумал, то уже сегодня к вечеру мечты станут явью.
Старшину Филин нашёл в общинной клуне[27 - Клуня – хозяйственная постройка для молотьбы и хранения хлеба.]. Большой дощатый помост застилали снопы овса. Вокруг плотным кольцом стоял десяток мужиков в мокрых от пота рубахах и до колен засученных штанах. Над их головами в пыльном воздухе мелькали колотушки цепов. Размеренная дробь глухих ударов сливалась в оглушительный грохот. Чуть поодаль несколько женщин в один большой стог метали охапки уже обмолоченной соломы. Под ногами у работниц копошилась ребятня, по одному собирая просыпанные зёрна. За всем наблюдал Мефодий Лапшин. Дряхлый старик ни мгновенья не стоял на месте. Он то помогал мужику скорей заменить поломанное било; то суетился среди женщин, сгребая в кучу отдельные стебли; потом забирал у детишек лукошки с зерном и подавал пустые.
Акулина тоже была здесь – стоя у развалистой копны, ловко управлялась с деревянными граблями. Задранный подол обнажал икры, испачканные землёй. Мокрая серая рубаха облепила тонкий стан. Заметив девушку, на миг Филин перестал дышать и даже услышал стук собственного сердца. Внизу живота сладко заныло, по телу побежала тёплая волна приятной дрожи.
– Здорово, работники.
Сельчане замерли. В бездыханной тишине, среди которой тихо жужжали осенние мухи, а ветерок едва слышно теребил солому, Васька нарочито неспешно сошёл с коня, поправил кафтан, одёрнул саблю и бережно провёл ладонью по небольшому мешочку, что висел у него на поясе. Мужики, женщины и даже дети настороженно смотрели на чужака.
– Ну, здорово, Мефошка. – Филин прошёл по ещё необмолоченным снопам, отчего лицо старшины болезненно скривилось, будто топтали его самого. – Вот, приехал, как обещался. Пойдём, что ль, об деле потолкуем, ага?
Старший Лапшин мотнул почти лысой головой.
– Некогда, мил человек. Вишь, работы сколь. Не дай Бог погоде спортиться, вот и поспешаем. Говори здеся, пошто приехал. Коли про общинные дела, так при общине и рядить станем.
Васька недобро усмехнулся. Прилюдный разговор в его расчёты не входил. Он не то что бы хотел оставить втайне цель приезда. Просто считал, что склонить старшину к согласию будет проще наедине, чем при всей общине. Однако упрямый нрав семейки Лапшиных он узнал уже в прошлый визит, а потом ещё наслушался про них от закромщиков Белёва. Потому возражать не стал – понимал, что бесполезно.
– Ладно, что ж. Могу и при общине, ага.
Филин открепил от пояса мешочек и достал из него свиток. Со значением посмотрел на старшину, потом медленно развернул бумагу, картинно откашлялся и начал:
– Вот, Мефошка. В бумаге сей по всем утайкам вашим и ви?нам подсчёт сделан. В писцовых книгах значится, что вы последние пять лет оброк на семьдесят четей платили. Тогда как пашни у вас втрое больше. Воровали, то бишь, ага. Отсюда подсчёт простой. Выходит, за прежние неправды долга на вас встало тридцать кулей[28 - Куль – старорусская мера объёма сыпучих тел. 1 куль: ржи – 9 пудов + 10 фунтов ? 151,52 кг; овса – 6 пудов + 5 фунтов ? 100,33 кг.] ржи. И столько же овса. Да за нончий год ещё по десять кулей. Вот и считай, Мефошка, коли смогёшь, ага.
Лапшин побледнел, тонкие бесцветные губы мелко задрожали, в остекленевших глазах застыл ужас.
– Да как же? Это ж чего? Это ж… Разорение. – Постепенно дар речи возвращался к старшине, но говорил он запинаясь и тяжело глотая после каждой фразы. – Да мы в лучший год по две осьмины с чети собирам. А нонче неуродно вышло. Этак нам всё из сусек выгрести придётся. Мало – жрать неча будет, так и на семя не останется.
– Ну ты эти жалости оставь. – Филин махнул рукой. – Хорошо было князя обирать? Нынче ответ держать пришло, ага.
– Да как же мы обирать могли? – взвизгнул Лапшин. – Нам сколь скажут дать, столь и давали.
– Не знаю, моё дело маленькое. – ответил Филин со скучающим видом. – Сказано известить воров. Вот, извещаю. А уж как вы там обойдётесь – это без меня, ага.
Мефодий беспомощно повернулся к односельчанам. Те смотрели на старшину с непониманием и страхом. Из них мало кто умел считать до десяти, но даже самый тёмный дурачок во всей деревне сознавал, что такой долг для общины станет приговором.
– Да за что ж вы нас так? – едва слышно прошептал Мефодий.
Старшина закачался. Его сначала сильно шатнуло назад, потом повело в сторону, после чего старик медленно осел на подогнувшихся ногах. Лапшин непременно упал бы, но его успел подхватить молодой и крепкий мужичок.
– Тихо, тихо, батя, я это, Матвей.
Матвей подхватил отца под мышки, помог ему сесть. Тут же старшину окружили общинники. Кто-то махал на Мефодия юбкой, кто-то брызгал водой в лицо и, глядя на эту суету, Филин решил, что настало время сделать следующий шаг:
– Ох, пропаду я через жалость свою, ага. – простонал он, закатив глаза. – Не моё, конечно, дело, но… Так и быть. Могу я перед князем слово за вас молвить.
На короткое мгновенье вновь повисла тишина, но очень быстро она сменилась возбуждённым ропотом, в котором слабая надежда мешалась с подозрением.
– И что? Так-таки весь долг отпустят нам? – Сын старшины недоверчиво сощурился.
Внешне Матвей не имел с отцом ничего общего: высокий, мускулистый и буйно кудрявый против стариковской немощи и полного отсутствия волос. У младшего Лапшина даже борода росла иначе, не редким клинышком, а густой лопатой медного оттенка. Но при этом все ухватки, жесты, голос и даже манера говорить ему достались от родителя.
– Ну уж… прям отпустят. – хмыкнул Филин. – Прост ты, братец.
Васька помедлил. Делая вид, что с головой погружён в нелёгкие раздумья, он прошёлся вдоль снопов, постоял возле кучи обмолоченной соломы, потом также неспешно вернулся и осторожно присел на короб с семенами.
– Ну вот что скажу. Долг отпустить, конечно, не отпустят. Такого обещать не стану, ибо не кудесник я, ага. Закромщики у князя те ещё мироеды. Но вот убедить их, что вам взаправду отдать нечего, это мне по силам. А коли так, уговорю Андрей Петровича, дабы вместо оброка закупа[29 - Закуп – человек, попавший в долговую кабалу и обязанный своей работой вернуть полученную «купу».] из общины вашей взял. Зимой на поварне да в портомойне рук не хватает, ага. Подсобник лишним не станет. Да и вам хорошо. Никак одним человеком рассчитаться проще будет, чем всё зерно отдать. Верно ведь?
Крестьяне задумчиво молчали. С одной стороны, если рассуждать холодно и трезво, посланник князя просил вполне приемлемую цену. Отдать в холопы кого-то одного, чтобы спасти от голодной смерти всю общину. Но каждого точила мысль, что этим счастливцем может оказаться кто-то из его родных и близких. А в таком свете предложение казалось уже не столь заманчивым и щедрым.
Филин, словно угадав мысли селян, нанёс решающий удар.
– Словом, ежели гоже вам такое, заберу нынче Кульку Хапутину и, считай, нет за вами долгу.
Три десятка человек одновременно повернулись к одной юной хрупкой девушке. Акулина не сразу поняла смысл Васькиной речи, а когда сообразила, что речь идёт именно о ней, грабли выпали из ослабевших рук. Растерянный взгляд заметался по толпе односельчан, но каждый, кто с ним встречался, спешил отвести глаза, потупиться, отвернуться. И всё молча, без единого слова.
– Господи… – тихо прошептала Акулина и тут же бросилась к старшине, упала перед ним на колени. – Мефодий Митрофаныч, миленький, не отдавай меня ему. Сам же ведаешь, что не для портомойни. Не губи, Мефодий Митрофаныч!
Старшина не ответил. Его пустой остекленевший взгляд уставился куда-то мимо, и ни один мускул на морщинистом лице не шевельнулся. Не поднимаясь, Акулина на коленях метнулась к стоявшему рядом парнишке лет двадцати. Рубаха на нём, казалось, полностью состояла из заплаток, а штаны настолько истёрлись, что сквозь ткань виднелись коленки.
– Забуга, братик. Спаси, не отдай в пропастищу! – взмолилась Акулина. Схватив брата за руки, она продолжила, в отчаянии мешая слёзную мольбу с чудовищной угрозой. – Инше всё одно – марухой жить не стану. Руки наложу. Свою душу погублю да перед тем и вас всех прокляну во веки веков.
Это подействовало. Забуга вздрогнул и словно пришёл в себя.
– Люди добрые, братцы, соседушки… – тихо произнёс он, и на глазах его сверкнули слёзы. – Да как же? Не губите сестрёнку. Бабоньки, вы же сами… ну, того. Как же после-то?
Но все его призывы растворялись в глухом молчании односельчан. Лишь иногда звучал горестный вздох или кто-то из женщин, всхлипнув, вытирал слезу. Но ни единого слова. Уж слишком несравнимое стояло на кону: с одной стороны – честь чужой девушки, пусть и соседки, а хоть бы и дальней родни, с другой – жизнь или голодная смерть собственных детей.
Задохнувшись как от удара под дых, Забуга бросил взгляд на старшину, но Мефодий сидел, бессильно уронив тяжёлые костлявые руки, смотрел в пустоту перед собой и только жалобно постанывал. То ли от боли в груди, то ли от беспомощных мыслей.
Хапутин зажмурился и поник, но в следующий миг встрепенулся, услышав Лапшина младшего.
– Ну вот что. – тихо, нерешительно заговорил Матвей. – Годите покуда с Кулькой-то. Наперво потребно с долгом разобраться. Инше как так вышло, ежели отдавали мы всё в срок и полной мерой. Откель набралось? Да ещё в таком множестве. А? Разобраться надобно, что за обман такой.
Он посмотрел на Филина. Тот встретил его взгляд наглой усмешкой, но где-то на клуне в поддержку Матвея раздался робкий мужской возглас. Следом поддакнула женщина, и вскоре над только что молчавшей толпой тихо загудел сдержанный ропот. Стараясь не выдать себя, Васька тяжело сглотнул. Столь внезапный поворот мог обернуться неудачей. Если о его проделке узнает князь, тут уже не будет нужен никакой правёж. Тогда не только Акулина ускользнёт из его рук, но ещё и сам Филин может оказаться в опале.
Всё ещё улыбаясь, Васька как бы случайным движением руки передвинул саблю так, чтобы при нужде быстрее выхватить её из ножен.
– Ты, давай-ка, стихни, ага. Думай, с кем про обман толкуешь. Али хочешь князя на правёж вызвать?
Филин шагнул к Матвею, и тот попятился под решительным натиском.
– Да нет, чего ж князя… Я ведь не про то. – промямлил он, заикаясь и отводя взгляд. – Я того… ну… ошиблись, может.
– Ошиблись? – жёстко спросил Филин, продолжая наступать. – А может, мне по ошибке замест Кульки тебя в закупы взять? Коль ты умник таков, ага.
– Да я чего…
Филин не дал договорить. Он медленно потянул саблю из ножен, под металлический скрежет зловеще сверкнула сталь клинка. Матвей побледнел и в испуге отшатнулся, едва не сбив с ног стоявшую позади жену. Оступившись, муж навалился на неё всем телом, однако грузная женщина с бочкообразным животом не просто устояла сама, но ещё и не дала упасть Матвею.
– Вот то-то. – глядя на раздавленного страхом Лапшина, Филин удовлетворённо хмыкнул и добавил уже спокойно. – Не твоё дело, так и не лезь, ага.
– Да как же не наше? – вдруг раздался надтреснутый женский голос, и Серафима Лапшина взглянула на Филина из-за плеча мужа. Она говорила тихо и сдержанно, но уверенно и твёрдо. – Нынче тебе Кульку отдать, так завтра за Дуняхой явишься. А после и до моих дочурок доберёшься. Ведомо, что за утроба ваша. Ненасытная. Потому хоть и никто нам Кулька, а всё же дело наше.
– Ну ты, куда вякаешь, свербигузка! – прорычал Филин. – Помалкивай, гляди. А не то кожу с задницы сдеру, будешь знать.
– Да тут, мил человек, не знаешь, что хужей будет. – спокойно возразила Лапшина. – Так что не пужал бы ты меня.
– Во как? Ну как знаешь.
Филин протянул к Серафиме руку, но тут Матвея словно подменили. Всего мгновение назад он вёл себя как послушный телёнок, испуганно что-то мямлил и не смел даже взглянуть на Ваську. Теперь же встал между женой и Филином, при этом сгорбленная спина распрямилась, плечи расправились, и Васька с удивлением обнаружил перед собой не худосочного замухрышку, а богатыря почти в сажень ростом. Да ещё с упрямым решительным взглядом.
– Но-но, не ершись, дура.
Филин с вызывающей усмешкой положил ладонь на сабельный эфес, и Матвей снова отступил. Но в этот раз для того, чтобы взять цеп. Ухватив древко, Лапшин занёс тяжёлое било за спину и чуть поднял над головой, готовый ударить.
– Фух, ты это на кого? – спросил Филин с возмущённым недоумением.
Он всё ещё сжимал саблю и улыбался уверенно и надменно, но побелевшие губы слегка повело вкривь. Оглянувшись, Васька заметил справа Забугу Хапутина, который тоже напружинился всем телом. Слева ещё один долговязый мужик удобнее перехватил вилы.
– Ах вон оно чего… – Филин с лязгом вернул саблю в ножны и выдохнул. – Стало быть, разобраться хочешь? Ну что ж, твоё право, Матвей Мефодич. Токмо гляди – за навет на княжеских людей вира положена. Так что ежели на правеже не докажешь правоту свою… – Васька покачал головой. – Так просто не отделаться, ага. Сам рабом станешь. Да не закупом, а в челядь, без возврату. И батя со старшин слетит, это уж как пить дать. Что тогда с детишками станется, а? Думаешь, кто из них пожалеет? Нет, и не надейся, ага. Так что ты, мужик, подумай хорошенько. Стоит ли за чужих людей всё семейство в опасность ставить? Али лучше мирно всё решить? А?
На мгновение Матвей опять заколебался. Заметив это, Филин уже собирался было надавить ещё, но в это время взгляд Лапшина упал на детвору, что стайкой испуганных воробьев сгрудилась за клуней. При виде чумазой дочурки, в одной рубашонке стоявшей среди таких же малолеток, Матвей вспомнил слова жены и, когда снова посмотрел на Филина, от былых сомнений уже не осталось и следа.
– Нет уж, Василь Филиппыч, нет, мил человек. На правёж пойдём. А там как бог даст.
Васька разочарованно выдохнул, нервно рассмеялся и посмотрел на Акулину. Бледная, растрёпанная, она всё еще дрожала от уже схлынувшего страха и дышала так, будто без остановки бежала несколько вёрст. Чувствуя, как кровь закипает в нём от желания и злости, Васька приблизился к Матвею и едва слышно прошипел:
– Ну, гляди, коли так. Сам ты этого хотел, не ропщи после.
Со злом пнув соломенный сноп, Филин зашагал обратно к лошади.
Глава одиннадцатая
Тридцатого сентября наконец прошли сороковины, и следующие пять дней Андрей Петрович измаялся в сладком нетерпении. Чтобы стать полноправным белёвским князем, ему оставалось сделать один шаг – присягнуть на верность государю всея Руси. Посланца из Москвы ждали со дня на день, и юный князь хотел устроить ему не просто пышную, а роскошную встречу. Пусть даже слуги царя в белокаменной столице знают, что новый владетель белёвской земли, Андрей Петрович Бобриков, не какой-то калик перекатный, голь пустокарманная, а богатый, состоятельный вотчинник.
Филин дважды объездил княжество, собирая с деревень и сёл особый налог – погостье. В итоге стол ломился от угощений. Горшеня задумал пять перемен горячих блюд и два десятка закусок, названия которых Андрей Петрович услышал впервые. А ещё приготовили по корчаге вина, пива и хмельного мёда. Захар Лукич тоже не сидел без дела – ездил в Перемышль, где купил самую дорогую на всём торжище ткань. Четыре аршина красного аксамита с густым узором золотого шитья обошлись в такие деньги, что в Бобрике князь мог бы прожить на них целый год. И ещё столько же тиун уплатил именитому портному, чтобы тот лично приехал в Белёв и сшил князю парадную ферязь. Богатый наряд дополнил фамильный перстень белёвских князей – широкий золотой обод венчал огромный вишнёвый яхонт. Украшение оказалось велико для тонких пальцев юноши, так что пришлось специально везти ювелира, чтобы тот подогнал кольцо по размеру.
Встречать знатного гостя Андрей Петрович собирался в большой горнице. Глухую стену с печной кладкой завесили синим шёлком, на котором мастерицы в разных цветах вышили карту белёвской земли. А в центре покоя возвели дощатый помост и на нём поставили кресло. То самое, что так полюбилось князю с первого дня. Только теперь его дополнила обивка из красного бархата, небольшая подушка в изголовье высокой спинки и мягкая подставка под ноги. Так что это было уже не кресло, а трон. Настоящий княжеский трон.
Все приготовления удалось закончить за день до того, как в город прибыл доверенный царя. Им оказался служилый князь Пётр Иванович Горенский. Сам Андрей Петрович услышал это имя впервые, но Горшеня поведал, что это обмельчавший выходец из знатного рода Оболенских. Пять лет назад, чтобы получить при государевом дворе выгодное место, Горенский согласился признать себя полным холопом великого князя и перевёл все свои земли из вотчины в лен. Узнав об этом, Бобриков решил, что не выйдет встречать посланника на улицу, как предписывал порядок, а будет ждать в тереме. Ибо кто такой этот московский цепной пёс, чтобы перед ним стелился вольный верховской князь, не менявший отцовских владений на объедки с царского стола.
Горенский приехал с десятком московских дворян, но в терем вошёл один. Увидев его старый плащ с обычной бронзовой фибулой[30 - Фибула – металлическая застёжка в виде булавки с «замком», одновременно служила украшением.] и простую шапку даже без меховой опушки, Андрей Петрович надменно усмехнулся. Но на пороге царский посланник сбросил верхнюю одежду и остался в роскошном малиновом кафтане, а на поясе с золотой пряжкой в россыпи каменьев обнаружилась турецкая сабля, что одна стоила как пять ферязей Бобрикова. Юный князь нахмурился, закусил губу и против всех приличий встретил гостя надменным кивком, даже не привстав.
– Что ж, Пётр Иванович, давай начнём, пожалуй. Чтоб быстрей покончить.
Андрей Петрович взглядом указал на укрытый бархатом стол, где лежало всё для присяги. Пётр Иванович бегло осмотрел Библию в потёртом кожаном переплёте, икону в серебряном окладе и золотой целовальный крест с изумрудами.
– Боюсь, Андрей Петрович, быстро не выйдет… – с печальным вздохом сообщил он.
– Это почему же? – спесиво спросил Бобриков, и Горенский показал ему небольшой свиток.
– Родословную твою сверить надобно.
– К чему? – Андрей Петрович всё больше раздражался.
– Положено так. – объяснил Горенский и развернул привезённый свиток. – Итак, стало быть, Андрей Петрович Бобриков. Отец твой Пётр Иванович Бобриков, а дед – Иван Львович, что в 1495 году урождён был. Верно всё?
– Верно. – подтвердил Бобриков, откинувшись на спинку в расслабленной вальяжной позе.
– А его отец, то бишь прадед твой?
– Лев Даниилович.
– Верно, Лев Данилович. – кивнул Горенский, сверяясь с написанным. – Сын Даниила Бобрикова и второй жены его Степаниды Юрьевны Новосильской. А она дочь Юрия Романовича Чёрного, что в 1402 году преставился?
– Сего не ведаю. По мужской части до восьми колен знаю. А по женской на что?
– А зря не ведаешь, Андрей Петрович. – постановил Горенский. – Вишь ли, у Юрия Романовича, пращура твоего по прапрабабке, брат был – Василий Романович Новосильский. Он пять сыновей имел. Среди них Михаил Васильевич, сын коего Василий Михайлович в 1472 году из Новосильского удела вышел и первым белёвским князем стал.
– И что? К чему это всё?
– Да к тому, что, выходит, мать твоя, Ирина Ивановна – внучка того самого Василия Михайловича. А стало быть, родители твои роднёй друг другу приходились. Пётр Иванович Бобриков Роману Новосильскому шестиюродный внук. А матушка, Ирина Ивановна Белёвская, ему же пятиюродная внучка. Так-то.
– И что с того? – в который раз спросил Бобриков. Он всё ещё продолжал надменно улыбаться, но голос дрогнул, а пальцы вцепились в подлокотник. Горенский тяжело вздохнул и развёл руками, всем видом давая понять, что происходящее не доставляет ему радости.
– А то, Андрей Петрович, что по церковному порядку пятиколенный брак только с благословения патриарха законным считается. А коль такого благословения нет…
Андрей Петрович заёрзал на кресле, оно вдруг показалось ему жёстким и неудобным. Взгляд затянула пелена белёсого тумана, и даже Горенский, что стоял всего в пяти шагах, виделся юному князю размытым пятном. Лоб покрыла испарина, язык не слушался и заплетался.
– И… Ч-ч-чего ж тогда?
Горенский пожал плечами.
– Так просто всё, Андрей Петрович. Коли благословенья нет, стало быть, и брак незаконен. А раз так, ребёнок, что в этом браке появился, то бишь ты, байстрюк есть. Незаконнорожденный. Отсюда выходит, что белёвским князьям ты не родня и наследовать им не можешь. Бобрик за тобой останется, ибо родство по отцу и в таком разе переходит. А по матери – нет.
Пётр Иванович замолчал, ожидая ответа, но Андрей Петрович, потрясённый услышанным, только шевелил губами, не издавая при этом ни звука. Горенский откашлялся, принял подобающую позу и закончил короткую речь безжалостным приговором:
– Так что извиняй, Андрей Петрович, за дурные вести, но Белёв не твоя вотчина. В казну московскую отходит, великому князю.
Часть вторая
Глава первая
Той ночью впервые в жизни юному князю приснился Бобрик. В чёрно-белом тумане Андрей Петрович метался меж убогих лачуг и покосившихся заборов, искал дорогу и всё не мог найти её – лабиринт грязных переулков через десяток поворотов неизменно приводил в тупик. Мрачное серое небо без перерыва хлестало дождём, и земля раскисала в липкую кашу. Сначала огромным склизким комом она облепила босые ступни. Потом ноги стали тонуть до лодыжек, до середины икры, до колена. Вскоре он оказался уже по пояс в густом болоте и с каждым шагом погружался в него всё глубже, глубже и глубже. Вот в тёмно-бурой хляби увязли руки, исчезла грудь, плечи, даже шея. Вонючая хлюпкая жижа подошла уже ко рту и просочилась через стиснутые зубы, забила нос, потекла в уши.
Под собственный крик Андрей Петрович вскочил на кровати. Весь мокрый от пота, он дрожал и стучал зубами. Безумный взгляд, полный ужаса и боли, метался по комнате. Наконец остатки страшного сна растворились в ярком свете дня, проникавшем сквозь закрытые ставни, и князь сообразил, что Бобрик далеко. Он облегчённо вздохнул и даже улыбнулся. Но тут же в тяжёлой мутной голове обрывками пронеслись события последних суток. После разговора с Горенским Андрей Петрович на целый день впал в молчаливую хандру, что вылилась в ночной запой и яростный погром горницы, а уже под утро юного князя в хмельном беспамятстве принесли в опочивальню.
За несколько мгновений снова пережив всё это, Андрей Петрович закрыл глаза, спрятал лицо в ладонях и сначала тихо всхлипнул, потом едва слышно заскулил и вскоре всем телом затрясся в рыданьях. Неслышно вошёл Захар Лукич. Он долго мялся на пороге, потом нерешительно приблизился к кровати и тронул князя за плечо. Бобриков вздрогнул и, посмотрев на старого тиуна, торопливо вытер слёзы:
– Чего тебе?
– Андрей Петрович, тама, это… Москвич послал. Ну тот. Спросить, деи, когда уехать думаешь. Мол, не тороплю, конечно, но…
– Уезжать? – переспросил князь, с трудом сдерживая новую волну рыданий. – Да, надо. Скажи, скоро. Всё, ступай.
Захар Лукич понуро двинулся к выходу, но когда уже оказался в дверях, князь бросил вдогонку:
– И скажи, чтоб никого в горницу не пущали. – А потом, пряча взгляд, тихо добавил, словно хотел оправдаться. – Один побуду. Ступай.
Когда тиун вышел, Андрей Петрович долго сидел неподвижно. Потом не глядя обшарил руками постель, нащупал влажное от ночного пота полотенце. Развернув во всю длину, осмотрел его, дёрнул несколько раз, проверяя на прочность, кивнул и сплёл в тугой жгут. Соединив его концы в петлю, князь ненадолго смутился, лицо исказила жалкая гримаса, в светлом пухе первой щетины опять сверкнули слёзы. Однако в этот раз он быстро взял себя в руки, тряхнул головой и твёрдо постановил:
– Уж лучше так, чем побитой собакой вернуться.
Он решительно встал, оделся, закинул на плечо верёвку из полотенца и, напоследок ещё раз оглядевшись, вышел из спальни.
У лестницы князь остановился и вслушался в тишину. Убедившись, что внизу никого нет, быстро сбежал по ступеням и осмотрел горницу. Московский посол, объявив волю царя, покинул терем сразу же, так что яства для пира остались нетронуты. И когда Андрей Петрович наконец пришёл в себя, он первым делом потребовал налить ему бухарского вина. Первый кубок выпил, только чтобы успокоиться после нешуточной встряски. Второй – чтобы избавиться от поганых мыслей. Третий опустошил залпом на помин ещё одного белёвского князя, который помер, так и не успев толком покняжить. Перед четвёртой чаркой провозгласил тост за покойного дядю и всех его предков, которым на том свете не должно быть ни дна, ни покрышки. А для пятой уже не искал повода и дальше пил молча, остервенело вливая в себя всё подряд.
– Не пропадать же добру, коли за него столь плачено. – с жалкой кривой усмешкой объяснял он сам себе. – Что ж, московским чинам всё оставить? Нет уж.
Андрей Петрович припомнил, как с воем носился по горнице, разбил все окна, перевернул стол и в щепки разломал кресло-трон. А в довершение, уже обезумев в пьяном угаре, собрал деревянные обломки в кучу и подсунул под них кипу посошных книг, изорванных в клочья. Собираясь всё это поджечь, князь влез на единственную уцелевшую лавку и попытался сорвать с потолка большую лампаду. За этим его и скрутили набежавшие слуги. Связали руки полотенцем и отнесли в опочивальню, где, исторгнув из себя вонючий поток красно-зеленой рвоты, он наконец уснул.
И вот теперь, стоя посреди разгромленной горницы с тяжёлой больной головой и пересохшим горлом, Андрей Петрович смотрел на пустой крюк в потолочной матке и пытался понять, сгодится ли этот тонкий пруток металла для того, что он задумал. Однако ответить на этот вопрос князь так и не успел. В сенях за плотно закрытой дверью раздался встревоженный голос тиуна.
– Ну говорю же, не велено пущать, ну… – жалобно умолял Захар Лукич. – Андрей Петрович сказывал, чтоб не тревожили. Я царского посланца и то не пустил, а тут уж…
– Чего? Ты это кого с москвичом в один ряд ставишь? – гудел в ответ мощный раскатистый и незнакомый бас. – Меня? Ах ты… Прочь с дороги, олух.
И не успел Андрей Петрович возмутиться наглостью невидимого гостя, как дверь с грохотом распахнулась и в горницу ввалился настоящий медведь в человеческом обличье. Длиннополая шуба искрилась соболиным мехом, горлатная шапка из каракуля на два локтя поднималась над головой, а дополняла эту картину широкая густая борода по пояс с благородным отливом седины. Невысокий, коренастый, с богатырским размахом плеч и необхватной грудью, незнакомец по-хозяйски уверенно прошёл через всю комнату и остановился перед князем. Высокий лоб прорезала глубокая морщина, большие колосистые брови нахмурено сдвинулись и опустились на глаза, под пронзительным взглядом которых Бобриков, вместо гневной ругани, что всего мгновение назад просилась ему на язык, против собственной воли испуганно съежился и поспешил спрятать самодельную верёвку за спину.
– Да уж. Ехал на свадьбу, а приехал на развод! – сокрушённо произнёс загадочный посетитель, оценив разгромленную горницу. – Ну здравствуй, что ли, Андрей Петрович. Воротынский я. Михаил Иванович. Слыхал про такого?
От удивления Андрей Петрович ненадолго потерял дар речи. Кто же из верховских порубежников не слышал о Воротынском? Удельный князь, глава древнего знатного рода, что брал начало от первых Новосильских и по прямой линии восходил к Рюрику. Самый богатый человек в южных пределах Руси, вотчинник, чьи земли на самом резвом скакуне не объехать и за неделю. Даже в Москве при нём уважительно молчали думные бояре, царедворцы и начальники приказов, а за подвиги при взятии Казани Михаил Иванович лично от царя получил право не снимать в его присутствии шапку.
– П-п-проходи, Михаил Иванович. Гостем будь. – предложил растерянный Бобриков, и Воротынский улыбнулся.
– Благодарствую. Только, слышал я, ты и сам отныне здесь гость. – Михаил Иванович подошёл к скамье, но, брезгливо осмотрев её, садиться не стал. – Ну ладно, ладно. Не смущайся. Не дразнить тебя прибыл, не думай.
Воротынский обернулся к открытым дверям, в проёме которых застыл его слуга.
– Стулья раздобудь.
Слуга молча скрылся в сенях, а Михаил Иванович продолжил говорить, перейдя на опасливый шёпот:
– Про беду твою я ещё неделю назад узнал. Когда в Москве был. Проболтался один человечек. Да вот упредить тебя не успел. – Воротынский пристально посмотрел на Бобрикова и печально усмехнулся. – Так уж вышло, Андрей Петрович, что твоя беда наперёд каждого верховского князя тронет. Потому и прибыл я: тебе помочь, а заодно и нас всех от напасти избавить.
Вернулся слуга с двумя стульями. По знаку Воротынского он отнёс их к дальней стене и поставил так, что они почти касались друг с друга.
– Дверь закрой. Да гляди в оба там. – распорядился Михаил Иванович. Оседлав один стул, он взглядом приказал Бобрикову тоже сесть и продолжил говорить, лишь когда слуга покинул горницу. – Вишь ли, Андрей Петрович. До сей поры наше верховское порубежье вольным было. От Перемышля до Бобрика твоего всё сплошь вотчины князей. А царь давно на них поглядывал с прищуром. Москве, вишь ли, новая землица позарез нужна. Русь, конечно, большая, да вот угожих полей не так много. Все государевы нивы нынче уже заняты и не в два, а в три поля пашутся. Да только смердов лишних столько народилось, что всё одно не прокормить. Потому и примеряется Иван Васильевич к верховским владениям. Понимаешь?
Бобриков печально усмехнулся. В памяти его тут же всплыли просьбы водопьяновцев и долгие споры тиуна с Горшеней.
– Так её, землицы свободной, и у нас нет.
– В Диком поле зато много. – жёстко отрезал Воротынский. – Там этой землицы столько, хоть каждому смерду по тыще десятин давай, а всё одно не кончится. Вот потому и мечтает Иван Васильевич безлюдную степь обжить. Давно мечтает.
Андрей Петрович в недоумении пожал плечами:
– А нам что за печаль? Ну хочет Москва своих людишек в Дико поле заселить… Мы-то здесь при чём?
– Да при том, Андрей Петрович, что это для нас Дико поле – степь безлюдная. А для сыроядцев это пастбища. Они там испокон веков кочуют. Как мыслишь, чем обернётся, ежели царь эту землю к рукам прибирать начнёт? А? Обрадуется тому степняк? Али войной на нас пойдёт?
– Эге, тоже мне новость – война. Будто нынче промеж нас мир стоит.
– Э нет, Андрей Петрович, не спеши… – Воротынский с укоризной посмотрел на собеседника. – Нынче степняк к нам просто в набег ходит. Ясыря взять и не более. Да всё врозь, к тому же. Каждый по себе. А вот ежели царь их степи лишать начнёт, тогда уж настоящей войной пойдут. Всем своим миром безбожным навалятся и щадить не станут. Коли выйдет так, былые набеги пустяком покажутся. Небо с овчинку станет, не иначе. И заметь, Андрей Петрович, нам станет. Понимаешь, о чём я?
Бобриков с растерянным видом мотнул головой, честно признаваясь, что смысл последних слов от него ускользает. Воротынский тяжело вздохнул и закатил глаза.
– Москва отсель далеко, потому царь и храбрый такой – степняку не дотянуться. А мы – у них под боком. Неспроста ведь порубежьем зовёмся. Так что вся сила кочевая наперёд всего на нас обрушится. Вот и выходит что? Иван Васильевич холопов своих в Диком поле расселять станет, через то большие выгоды получит. Тягло, оброк, прочий сбор какой. Богатеть он будет, а огнём и кровью за это мы платить станем. Как полыхнёт, от Москвы помощи не жди: Иван Васильевич так в Ливонии застрял, не вылезти. Вот ты не ведаешь, а нынче треть государевых полков, что вдоль Оки стоят, на север уйдут, в Балтику. И без того невелик заслон был, а теперь и вовсе без защиты останемся. Спасибо царю-батюшке. Теперь понял?
Вместо ответа Бобриков зажмурился и крепко сжал ладонями виски. От того, что он услышал, голова шла кругом и звенела. Пытаясь разобраться в словах старого князя, Андрей Петрович ощущал себя неумелым пловцом, который только что с трудом барахтался в стоячем мелководье и вдруг оказался на бурной стремнине, среди волн, водоворотов и бесконечных пенных бурунов.
– Понял, вижу. Понял. А что муторно глядится всё, так-то с непривычки. – Воротынский ласково похлопал юношу по колену. – Погоди, обвыкнешься, всё на места встанет. Главное, пока уразумей: нельзя великому князю Белёв отдать. Думаешь, на что он ему сдался? Для его владений такой прирост – тьфу. И не заметит даже. Да вот нужен ему хоть малый пятачок земли в порубежье нашем, дабы твёрдо на нём встать да с него в Дико поле прыгнуть. А тут Белёв и подвернулся. И коль скоро прыжок этот нам большой кровью отрыгнётся, нужно костьми лечь, а в Белёв царя не пустить. И ты в деле сём на переднем крае оказался.
– Так нешто я один могу чего? – упавшим голосом спросил Бобриков, бессильно разводя руками.
– Можешь, Андрей Петрович, можешь. Один, конечно, в поле не воин. Но коль скоро беда общая, так и мы за тебя горой встанем. А в таком разе и муха – богатырь. Для того и прибыл нынче таким спехом. Дабы ты глупостей всяких не успел натворить. Ибо теперь судьбы всех верховских князей от тебя зависят. Воля наша и достаток – в твоих руках, Андрей Петрович.
– А чего ж делать-то, коли так?
– Подскажу, не бойся. А где надобно – делом пособлю. Говорю же, не оставим. – Воротынский звонко хлопнул в ладоши, потёр их одну о другую и громко крикнул. – Козлов! Ванька!
Тут же, словно стоял за дверями и только ждал команды, в горницу вошёл слуга, что приносил стулья. Весь он был ладный, собранный: кафтан без единой морщинки сидел как влитой. В пять широких шагов Козлов пересёк большую комнату и замер перед господином в ожидающей позе, при этом широкое скуластое лицо его с маленькой острой бородкой оставалось бесстрастным.
– Перво-наперво всех белёвских послужильцев забрать надобно. – продолжил Воротынский, знаком приказав слуге ждать. – Инше они в государеву службу попадут, а три десятка добрых воев царю отдавать не дело. Самим сгодятся, чаю. Так что пущай твой тиун, Андрей Петрович, всех послужильцев кабальные расписки поднимет да сочтёт, сколь серебра надобно. Всё сполна государевой казне выплатишь, а людей себе заберёшь.
– Ого. Это ж каки деньжищи, Михаил Иванович… – вздохнул Бобриков, вспоминая недавний случай с Тишенковым. – По каждой расписке три рубля, небось. Это ж на круг выходит почти сотня. Где столь взять?
Воротынский тихо беззлобно рассмеялся, как смеётся умудрённый опытом отец над безобидной шалостью ребёнка.
– Эх, Андрей Петрович. Эти сто рублей – капля в море. Ибо дальше предстоит нам белёвскую землю тебе в кормление выбить.
Удивлённый возглас застрял у Бобрикова в горле, и он закашлялся, мотая головой.
– Да-да, не удивляйся. Ради того и прибыл. Нынче Горенский этот, царский пёс, кормленщиком здешним должен стать. Но коли так, нам вовсе туго будет. Потому и надобно вместо него тебя волостелем[31 - Волостель – в средневековой Руси должностное лицо, управлявшее определённой территорией от имени царя.] сделать.
– Так разве царь отдаст?
– Просто так, по доброй воле не отдаст. Это уж само собой. – согласился Михаил Иванович. – Стало быть, так надобно сделать, чтоб не мог Иван Васильевич отказать тебе.
– Это как же так?
На этот раз Воротынский долго не отвечал. Задумчиво глядя на юного князя, он теребил кончик бороды и покусывал нижнюю губу.
– Слушай, князь, внимательно. Представь, скажем, среди книг тутошних сыщется вдруг расписка. С печатью княжеской и скрепой его. Всё чин чином. А по ней, по расписке этой, покойный Иван Иванович перед князем Бобриковым, тобой то бишь, должник выходит. Что тогда?
– Что тогда?
– Коли Белёв великому князю переходит, то и долг он наследует. Выходит, великий князь Бобрикову должен отныне. А долг немаленький будет. Таков, что и прежде, в добрые времена, для московской казны неподъёмно было. А уж нынче и подавно. Ну, тысяч восемь, скажем. С войной этой у Москвы без того расходов тьма тьмущая. А тут – восемь тысяч. Ежели нынче такие деньги из казны достать, как после войско снаряжать станешь? А поход уже на носу. Вот и не будет иного пути, как за тот долг в кормление Белёв отдать. Понимаешь?
Андрей Петрович нахмурился, лоб изрезали морщины, растерянный взгляд перебегал с Воротынского на Козлова и обратно.
– Так, а… Где ж такой расписке взяться? Тиун мой уж все бумаги не по разу перебрал. Коли была такая расписка, уж сыскалась бы давно.
Воротынский повёл бровью и громко хрустнул пальцами.
– Ну, коли не сыскалась, так напишем. Печать белёвского князя нынче у тебя. А средь моих слуг есть таков человек – любую подпись сделает, не отличишь после. В самой грамоте, конечно, не про восемь тысяч сказано будет. Ибо никто не поверит, что таки деньжищи у тебя водились. А, скажем так, рублей двадцать. Но возник сей долг лет пятнадцать назад. Когда Иван Иванович опекуном твоим стал и отдавать, само собой, не собирался. А лихва-то шла. По обычному закону на половину в год долг прирастает. То бишь в следующем году уже тридцать рублей было, ещё через год – сорок пять, ну и далее. Вот так за пятнадцать лет восемь тысяч и набежало. Почему в такое не поверить? Коли расписка есть? А для надёжности верность сей расписки ещё пять свидетелей подтвердят. Как законом положено. Де, сами при том были, сами видели. Как же опровергнуть?
Воротынский замолчал, возбуждённо барабаня пальцами себе по колену.
– А ежели… – нерешительно начал Бобриков. – А ежели откажется Иван Васильевич расписку и клятвы признавать? Тогда как?
– Не откажется. – уверенно отрезал Воротынский. – Потому как это для прочих верховских князей законный повод будет от своих присяг отказаться. Мол, вот, глядите, люди добрые, как московский князь верных слуг своих забижает. А раз так, и мы от принесённых клятв свободны. Представляешь, чем сие для Москвы обернуться может? Вот и выходит, что проще будет Белёв в кормление отдать. И отдаст, не сомневайся. Тут уж я кое-кому слово нужное шепну, в кормленном приказе суну кому надо, ну и там другое всякое. По нашему выйдет, это уж твёрдо. Ну, что скажешь? Решай, Андрей Петрович.
Бобриков молчал, глядя на причудливую тень, что сам отбрасывал на пол. Лицо его то озарялось решимостью и надеждой, то вдруг омрачалось от нахлынувших сомнений.
– Что гложет, Андрей Петрович?
– Да вот… Не обессудь токмо, Михаил Иванович, но никак в толк не возьму. На что я тебе сдался. Ведь ежели можешь так с распиской провернуть, пошто себе в кормление Белёв не хочешь взять?
– Мне Иван Васильевич не отдаст. – усмехнулся Воротынский. – Ибо ведает, что я и так крепко в порубежье верховском стою. А ежели ещё Белёв в моих руках будет, тогда и вовсе. Потому не отдаст, забоится. А ты другое дело. Теперь уж ты не обессудь, коли так. Но кто таков Андрей Петрович Бобриков перед великим князем? Букашка малая. Потому тебе отдаст, ничего не заподозрит. А коли по-нашему выйдет, я всё одно через тебя Белёв держать буду. Ты ж, Андрей Петрович, с этаким делом без помощи не справишься. А, стало быть, ежели Белёв у тебя, считай, я в нём хозяин. Как есть говорю, прямо, без утайки.
– Стало быть, ты для себя Белёв у царя выгрызаешь? Правильно понял?
– Для всех, Андрей Петрович, для всех. – поправил Воротынский, сурово глядя на молодого князя.
– Для себя али для всех, неважно. – Бобриков потупился. Видно было, что эти слова даются ему с трудом, но не сказать их он тоже не может. – Ибо на суде перед царём клятву по ложной расписке мне давать придётся. Ни тебе, Михаил Иванович. И не всем. А мне.
– Ну а как ты хотел? – строго спросил Воротынский. – Не разбив яиц, яичницу не сделаешь. Или говорят ещё, любишь кататься, люби и саночки возить.
– Так-то оно так, Михаил Иванович. Только выходит, что кататься все будут, а саночки мне одному возить. Случись чего, за ложную клятву пред царём кто ответ держать станет?
– Ах вон ты о чём… – протянул Воротынский.
Он откинулся на спинку стула, с интересом глядя на собеседника. И Андрей Петрович тоже нашёл силы посмотреть старому князю в глаза. Бобриков ожидал упрёков и даже готов был выслушать гневную отповедь. Однако, Михаил Иванович ласково улыбнулся:
– Что ж, коли так, неволить не стану. Ежели так царя и божьего гнева боишься, можешь прямо завтра в Бобрик уезжать.
Бобриков вздрогнул и болезненно простонал. Лицо его внезапно исказилось так ужасно, что даже Воротынский испугался, как бы юный князь прямо сейчас не скончался от удара. За время разговора Андрей Петрович много о чём успел подумать, но эта простая мысль в голову не приходила. А ведь Воротынский был прав. Ему придётся оставить Белёв и вернуться в Бобрик. В этот мерзкий городишко, который он ненавидел всей душой и сердцем. Прежде мириться с тамошней жизнью ему помогало то, что он не знал, никогда не видел другого. Но теперь Андрей Петрович не мог представить себя в Бобрике. А больнее всего было то, что отныне жить там придётся без надежды вернуться в этот прекрасный светлый и богатый мир. А ведь он заслужил всё это. Тем, что вытерпел восемнадцать лет страданий, унижений и позора. И вот теперь, едва обретя заслуженное счастье, должен отказаться от него? Он резко расправил плечи.
– Захар Лукич! – позвал громко, и, когда появился запыхавшийся тиун, уверенно распорядился. – Бумагу дай, чернила и перо. И печать княжескую неси. Да живо давай.
Глава вторая
В начале октября над порубежьем разгулялся северный ветер. Неделю к ряду он гнул сосны в дугу и трепал вековые дубы; гонял над землей пыльные смерчи; вздымал на реках огромные волны и с рёвом обрушивал их на берег. Но потом, также внезапно сошёл на нет, и с тишиной в эти места пришла настоящая осень. Ока успокоилась, в её бездонно-синей глади, словно в зеркале, отражалось поблекшее небо. Солнце потускнело и часто пряталось средь облаков, что становились всё гуще и стелились всё ниже. Багряный закат опускался на землю ещё до третьей стражи, а приятная прохлада летних ночей сменилась морозцем, что серебром рисовал на пожухлой траве затейливый узор, хрустящий под ногами.
В деревнях собирали последний урожай – пришёл черед капусты, репы и моркови. Крестьяне муравьями рассыпались по нивам. Мужики мотыгой или заступом разбивали холодную землю, женщины выбирали корнеплоды и сносили в огромные кучи, откуда ребятня постарше вывозила урожай в погреба. Те, кто по большим и малым годам не годился для работы в поле, бродили по болотам, где дозревала брусника, и глухим лесам в поисках оставшихся грибов.
На Ленивом броде день и ночь стояли караулы. С высоты церковной колокольни за степью следил дозор. Тонко?й постоянно отправлял в Дикое поле сторо?жи, и те обязательно находили свежую сакму[32 - Сакма? (вероятно от тюрк. sok ?бить’) – след, оставленный конницей.]. Причем каждый раз она становилась шире и глубже и всё ближе подбиралась к Ленивому броду. Иногда, в небе подолгу кружили стаи испуганных птиц, а на исходе первой октябрьской недели далеко у горизонта поднялся чёрный столб дыма. Стало ясно – степь готовится к набегу.
Сразу после поминок вернулся десяток Бавыки, и новость о Клыкове взбудоражила белёвцев. Никто из них не поверил в лиходейство Фёдора, и даже когда Корнил на кресте поклялся, что сам видел горы уворованных припасов, большинство всё равно осталось при своём. Хотя нашлись и те, кто усомнился в честности бывшего десятника.
– А чего же нет? Уж, чаю, не зря он к Горшене сватался. – заметил Илья Целищев. – А с выжигой познавшись, и сам выжигой мог стать. Чужое-то добро к ручкам легко липнет.
– Будет всякое нести-то. – оборвал сердито Пудышев.
– Да Горшеня, небось, первый рад будет. – поддержал Ивана Ларион Недорубов. – Под шумок от свадьбы откреститься.
– И что нынче Фёдора ждёт?
– Уж не знаю… – Бавыка пожал плечами.
В душе он разрывался надвое. Конечно, не хотелось обижать белёвских послужильев, таких же ратных людей, как он сам. Но как пойти с чужаками против собственного князя?
– Суд княжий решать станет. Вот как московского гонца встретят, с делами кончат, так и за правёж возьмутся.
– Хм. И кто ж на правеже при князе будет? – со значением спросил Недорубов. – Небось, огнищане одни.
– Ну а кто ж ещё? – простодушно согласился Бавыка. – Мы-то, ратные, чай, в таких делах не шибко понимаем.
– Ну, ежели огнищане помогать в разборе станут, тогда конечно. – ехидно усмехнулся Ларион. – От них ничто, акромя правды, не родится.
– Вот-вот. Они все одним миром мазаны. Друг за дружку держатся. – поддакнул Платон Житников таким голосом, будто читал заупокойную молитву. – Так что, чую, пропадать ни за грош Фёдору. Заклюют его бумазейники. Как есть заклюют.
– И нешто ничего не сделать? – Иван повернулся к Тонкому. – Сидор Михайлович, ты князя лучше нас знаешь. Чем можно Фёдору помочь?
– А чем тут поможешь? – Тонкой печально вздохнул. – Ты, Вань, знаешь, что? За друга болеешь, понимаю. Да токмо не лез бы ты в сие болото. Без нас разберутся. Наше с тобой дело службу служить. Брод вот стерегти. А в огнищанских сварах чёрт ногу сломит, ежели по правде. Коли перейдёшь кому дорогу, сожрут тебя, не подавятся. Это я не то чтобы пужаю – просто совет по-доброму даю.
– Благодарствую. – криво усмехнулся Иван и провёл пальцем по рубцу на щеке. – Токмо гляжу, прав был Федька, когда говорил, деи, отдадим Семикопа на съедение, так после самих нас жрать начнут. Вот, его уж начали.
– А как по мне, не с того боку ты глядишь, Иван. – Тонкой несогласно покачал головой. – Может, Федьку вашего жрут потому, как нос не туда суёт часто? За Семикопа вступиться ему надобно. Супротив княжьей воли встать – опять он. Вот и нашёл, чего искал.
– Не искать правды, стало быть. Хвост поджать да в кусты?
– Правда. Где видал ты её, правду? – Тонкой печально усмехнулся. – В наших краях сей зверь не водится. А что до Федьки твоего… Ему правду искать легко. Он гол как сокол, бояться не за что. Ему и нынче что грозит? Аще хужей всего с правежом сложится, так свою башку потеряет. Жаль, конечно, будет. Да послужильца голова недорого стоит. Её каждый из нас в любой день лишиться может. Так что сие цена не большая. А у тебя, Вань, старик-отец да жена с детями. Вот и думай. Нужна ль тебе така правда? Или лучше стороной пройти?
После того дня о Фёдоре не говорили. Хотя каждый из белёвских послужильцев вспоминал товарища, что маялся в застенке, но рассуждал об этом только сам с собой. Ибо с совестью договориться проще без свидетелей, наедине. А вскоре на Ленивый брод приехал Филин, и привезённая им весть затмила собой даже тревогу о скором набеге. Оказалось, что Бобриков больше не князь Белёва. Вся земля, а с ней и холопы, отныне становилась личной вотчиной царя. И лишь ратным людям выпала возможность избежать столь незавидной доли. Всех, кто захочет, Андрей Петрович обещался выкупить из кабалы у государя и сделать своим послужильцем.
– Вам решать. Да спехом, не затягивать. – закончил Филин короткий рассказ. – Прям нынче же ответ дать надобно.
Два десятка послужильцев безмолвной толпой застыли у земляного вала на выходе с переправы. Даже бобринцы забыли о работе, хотя выбор предстояло сделать белёвцам. Даже юный Бобка Замятин, что катал туда-обратно бочонок с песком, в котором от ржавчины чистилась кольчуга Тонкого, и тот остановился, участливо глядя на старших товарищей. В повисшей тишине слышно было, как лёгкий ветерок играет в зарослях прибрежных камышей да на камнях Ленивого брода плещется вода.
Первым пришёл в себя Илья Целищев. От волнения он порывисто сдёрнул с головы шапку, повертел её в руках и снова надел, не заметив, что сделал это задом наперёд.
– Это что же? Ежели в государевых холопах, это как же? Кем же мы?
– В помещики обверстают, боле никак. – Рассудительно заметил Недорубов.
– Во как? Привалило счастье.
– А чего? Чем дворянская служба хуже нашей? – осторожно спросил Роман Барсук. – Тот же ратный люд, токмо при государе. Нет?
– Ага, сравнил тоже… – недовольно буркнул Пудышев. – Думаешь, зазря они табунами к князьям на службу переходят? Нешто сам дворян не видал в государевом войске?
Ивану не раз приходилось видеть государевых дворян – одеты как попало, иногда даже без кольчуги, в драном тягиляе[33 - Тягиляй – защитный доспех конника: длинный кафтан с воротником-козырем, между подкладкой и верхом прокладывали слой пакли с вложенными в него металлическими пластинами. Тегиляи стоили дешевле кольчуг, но не признавались полноценным доспехом, являясь защитным снаряжением второго сорта.] и бумажной шапке[34 - Шапка бумажная – защитный головной убор, тип шлема. Это были стёганные шапки на пуху, из сукна, шёлковых или бумажных (хлопок) материй, с толстой хлопчатобумажной или пеньковой подкладкой.] вместо шлема. Старый, много раз чиненый доспех, который достался Ивану от отца и деда, любой дворянин посчитал бы роскошью. На смотры многие приходили пешком, хотя служили в коннице. Просто не могли купить боевую лошадь, хотя бы завалящую кобылку. А уж про заводных и говорить не приходилось. Поэтому мало кто удивлялся, когда дворянин, промаявшись несколько лет на такой службе, мечтал охолопиться. То есть стать таким же боевым холопом какого-нибудь князя.
– Ты на княжьей службе в одном месте сидишь. Всегда при доме, при семье. – добавил Недорубов. – А дворянин по всей Руси мается. Скажем, поместье дадут в Муромских землях, а то ещё хлеще, за Казанью, в Арском поле. А служить в Ливонию пошлют. Ты тама, поместье твоё тута. Через год с похода вернулся. Смерды разбежались, земля в крапиве заросла, усадьбу татарва сожгла. Вот така служба. Вот така жизнь.
Иван ухватил за руку Филина, который собирался уходить, потому что его все эти разговоры не касались.
– А что ты про кормление сказывал?
– Чего? – удивлённо переспросил Васька.
– Про кормление, говорю, чего? Ежели взаправду Андрей Петрович кормленщиком белёвским станет, выходит, всем имуществом распоряжаться будет?
Васька утвердительно кивнул и вместе с тем пожал плечами. Он уже и забыл, что говорил этим олухам, и теперь думал только об одном – как бы быстрей попасть домой, где ждёт натопленная печь, обед и молодая холопка в постели. Но Пудышев не отставал.
– Стало быть, дома наши тоже в его власти будут? Он, как кормленщик, решать станет, кому жить в них?
– Да, он, само собой, кто ж ещё.
– Ну, ежели так, вот что, братцы. – Пудышев легко шагнул на гребень земляного вала, который остальным доходил до груди. – Здесь уж дело таково, что каждый сам за себя решать должон. Потому, никого убеждать не стану, за себя скажу. В дворяне не ходок. Что ежели погонят нынче нас за Казань, а то ещё дальше, в невидаль какую. В необжи?ты места, на целину непахану – света белого не взвидишь. Куда мне с моим-то семейством? Чем так, уж лучше сразу лечь да помирать. Коли Андрей Петрович правда кормленщиком станет, так дома наши при нас останутся. А боле мне ничто не надо.
– Верно говоришь, Иван Афанасьевич. – опять первым заговорил Целищев. – В дворянах не дело, братцы. Послужильцем у князя ещё мой прадед был. И мне от добра добра искать не пристало.
– Согласен. – поддержал Платон Житников. – Видал я житуху тех, кто на вольны хлеба от князя подавался. Не дай бог и мне так. То же к Бобрикову пойду.
– Коли в дворяне уйдём, разбросают нас царёвы дьяки куда кого. – со вздохом постановил Ларион Недорубов. – А оно ведь как? Две головни и в поле дымят, а одна и в печи гаснет. Так что я со всеми.
– Ну чего… Тут уж так тока сказать. – медленно, тяжело, будто ворочал во рту большие камни, заговорил Роман Барсук. – Волк, это самое… стало быть, овце не товарищ. А княжий гридень, того… дворянином не стать ему. Это уж кто где родился, тому там и быть.
Иван поднял руку, и возбуждённый гвалт затих.
– Стало быть, так и порешим, братцы? Отныне все мы у князя Бобрикова служим?
И бывшие послужильцы Белёва один за одним стали подтверждать своё согласие коротким возгласом и жестом. Про Фёдора Клыкова уже никто не вспоминал.
Глава третья
Поскольку Белёвым испокон веков владели вольные князья, то и казённых мест там просто не держали. Даже небольшой тюрьмы, и той не имелось, а княжеских ослушников запирали в каменном подклете главного амбара, куда вёл отдельный ход – десять крутых ступенек под землю и приземистая дверь из дубовых досок с тяжёлым навесным замком. Он и стал темницей для Фёдора Клыкова.
Мутный бледный луч, проникавший в узкое окошко под низким потолком, едва разбавлял сырой могильный мрак. Стоячий затхлый воздух пропах плесенью и гнилой соломой. Стены из нетёсаных глыб сплошь покрывал зелёный нарост, а земляной пол липкой жижей чавкал под ногами. Лежанкой служила куча сена и старого тряпья, внутри которой ворошились мыши. Раз в день с протяжным скрипом открывалась дверь, и княжеский слуга ставил у порога миску с жидкой похлёбкой, кусок хлеба и кружку воды, а после молча удалялся.
Фёдор метался, словно дикий зверь в клетке. Грязь, сырость и голод он не замечал, за годы ратной службы привык ещё и не к такому. Но вот неизвестность сводила его с ума, из гнетущей хандры бросая в бесплодную ярость, а потом обратно вгоняя в тоску. Поэтому когда на исходе второго дня где-то сверху послышался тихий знакомый голос, Клыков кинулся к оконцу под потолком, а увидев в нём кривоносое лицо Корнея Семикопа, просиял, как маленький ребёнок при виде любимой сладости.
– Семён где? – тут же, без приветствия, выпалил Фёдор, отодвигая в сторону узелок с едой, который Корней пытался пропихнуть в зарешёченный проём.
– Покуда на конюшне обретается. Я его там к делу приставил, чтоб дурных мыслей меньше было. А то таки дела творятся… Как тебя сюда свели, сват твой, Горшеня, будь он не ладен, тут же к князю наладился. Так, де, и так, супротив воли прежний князь сосватал, а он, вишь, вором оказался. Я и прежде не рад сему был, а нынче, мол, и подавно, родниться с ними не желаю. Ослобони, Андрей Петрович, сделай милость. Ну, а князь-то с радостью. Заодно и дом ваш того… – Семикоп отвёл глаза и шмыгнул носом. – Словом, босяк ты бескровный отныне.
– Да уж, хороша выслуга. – Лицо Клыкова исказила злая усмешка. – Ты уж, Корней Давыдыч, присмотри за Сёмкой, покуда я здесь. А то наворотит делов. Знаешь ведь, что за но?ров у него.
– А как же. Тут одно хорошо. Про буйность Сёмкину не я один ведаю. Горшеня тоже. Дочку запер, вокруг дома сынов расставил. Ежели токмо приступом взять. А без Лады Сёмка твой никуды не денется. Так что…
Они помолчали. Фёдор, рукой ухватившись за нижний край оконца, мёртвым взглядом буравил каменную кладку. Корней теребил концы завязок на узелке и нет-нет да покусывал губы.
– Ты это, Корней Давыдыч… – заговорил Клыков нерешительно. – Я ведь без вины. Не крал ничего.
– Да это… – Семикоп отмахнулся. – Токмо нынче уж чего об том? Сказывают, как поминки пройдут да из Москвы человека встретят, так сразу правёж будет. Там, глядишь, всё по местам встанет. Я от себя скажу. Так, мол, и так, Федька, он… – Корней осёкся, подбирая нужные слова, а потом добавил с грустью. – Ежели дадут сказать, конечно.
– А другие что же? Нешто все послужилые в стороне будут? Вступятся ведь.
Впервые за разговор Фёдор вскинул на Корнея взгляд, в котором надежда и вера смешалась с испугом. Семикоп отвернулся, шмыгнул кривым носом.
– Ты на них не серчай, Федь. Они ведь люди подневольные. У всех жёны, захребетники. Потому каждый про себя мысль держит. Мол, ежели нынче за вора вступлюсь, меня не коснётся ли.
– Ясно… – обречённо выдохнул Фёдор.
– А за Сёмку не тревожься. Пригляжу. Ты лучше думай, что на суде скажешь, чтобы не мямлить, как час придёт. А ждать недолго. Пару дней и…
Но ждать пришлось почти неделю, и для Фёдора каждый день тянулся так, будто с рассвета до заката проходил целый месяц. Что бы не делал Клыков: лежал на гнилой соломе, бесцельно ходил от одной стены к другой или ложкой гонял по миске мутную похлёбку, – в голове копошились одни и те же мысли. Уже передуманные сотню раз, они возвращались снова и снова, с каждым новым витком становясь лишь мрачнее и безысходнее. Фёдор не сомневался: всё, что с ним случилось, – дело рук Горшени, который так решил избавиться от нежелательной родни. Но как доказать это князю? Самого Клыкова вряд ли станут слушать, любые доводы и оправдания объяснят попыткой свалить с больной головы на здоровую. Послужилое братство от него отступилось, даже те, кого он считал друзьями, боясь за собственную шкуру, предпочтут отмолчаться. А если за всем и правда стоит Горшеня, то на огнищан тем паче нет надежды. Разве ворон клюнет ворона в глаз? Куда ни кинь – всюду клин, и чем больше Фёдор размышлял об этом, тем яснее понимал, что обречён.
Так что, когда через неделю снаружи лязгнул замок, и со скрипом открылась дверь, Фёдор облегчённо вздохнул. Однако на пороге возник Семикоп, и Клыков даже охнул от удивления.
– Сёмка где? – первым делом спросил он, отряхивая грязный кафтан от соломы.
Отвечать Корнею не пришлось – в тот же миг за его спиной появился младший Клыков. Он заметно осунулся, из-за чего стал выглядеть гораздо старше. Но едва увидев отца, Семён на глазах опять превратился в мальчишку. Улыбка на мгновенье тронула его лицо, а глаза с тёмными кругами от бессонных ночей вспыхнули радостью и заблестели непрошенной слезой. Фёдор порывисто обнял сына, прижался небритой щекой к его волосам и, вдохнув родной знакомый запах, понял, что сейчас тоже расплачется.
– Ну-ну, без нюнь давай. – строго приказал он сыну, а заодно и самому себе. И всё же не нашёл сил отпустить Семёна сразу, сначала грубой ладонью провёл по его щеке, и только потом повернулся к Корнею. – Куда идти?
– Сроду не угадаешь. А скажу – не поверишь. – улыбнулся Корней, игриво подмигнув Семёну. – Айда, походя обскажу всё.
Клыков поднялся по крутой лестнице и со стоном зажмурился. Яркий дневной свет больно резанул по глазам, ослепил на несколько мгновений. А когда зрение вернулось, Фёдор не узнал детинца. На лобном месте, что обычно кишело людьми и гудело без умолку, теперь было пусто и оглушительно тихо. По столбовой улице ветер насквозь гнал пыльные тучи. Слоистым потоком они стелились мимо амбаров и житниц, стекаясь в большое сизое облако перед княжеским двором. На крыше терема уныло скрипел вертун, жестяной петух качался из стороны в сторону, но никак не мог сделать полный круг. Большая кирпичная труба поварни не дымилась, на её оголовке по-хозяйски вальяжно сидел огромный чёрный ворон. У заднего крыльца в беспорядке валялись перевёрнутые собачьи миски, под навесом качалась пустая кормушка для птиц. Настежь открытые двери людской пристройки мерно бились о стену, а в пустых окнах на каждый удар отзывалось гулкое эхо.
Пока Фёдор и Корней шли меж амбарных рядов и пересекали пустое лобное место, Семикоп коротко рассказал все новости. Так что, когда они остановились перед теремом князя, Клыков только развёл руками.
– Да уж, неисповедимы пути господни. И что же? Нынче выходит, меня не князь судить будет, а царёв посланник?
– То-то и оно. – Корней опять загадочно ухмыльнулся и подтолкнул Фёдора в сторону крыльца. – Ступай. Сам узнаешь скоро.
Они прошли в трапезную, где за короткий срок всё доне?льзя переменилось. Десять столов прежде соединённых в один большой, тянувшийся через всю палату, теперь стояли отдельно и попрёк, деля залу на несколько частей. В каждом из закутков суетились московские рядцы. Вокруг них громоздились кипы бумаг: стопки серых листков и наваленных свитков. Отдельно лежали папки в узорчатых переплетах и огромные книги с двуглавым орлом на деревянных обложках. Два десятка человек то и дело перекладывали всё это с места на место, внимательно листали, что-то чиркали, вымарывали и делали новые записи, а потом опять носили: со стола на стол, из угла в угол.
Заведовал всем князь Горенский. Пётр Иванович сидел у открытого окна с высоким стрельчатым верхом, по-хозяйски развалившись в большом удобном кресле. Время от времени к нему подходил подьячий с бумагой, что-то спрашивал, тыкая пальцем в ровные чёрные строки, после чего Горенский либо давал короткое распоряжение, либо терпеливо растолковывал смысл статьи из уложения, царского указа или древнего закона.
Оказавшись в переполненной палате, Фёдор слегка растерялся. Он ожидал, что судить его будет пять-шесть человек – старший чин, пара подьячих и писарь. Меж тем, в трапезную набилось больше трёх десятков, но ещё больше Клыкова удивляло то, что на него никто не обращал внимания. Даже Горенский, оторвавшись от изучения какого-то списка, посмотрел на Клыкова с раздражением. Однако, заметив Корнея, Пётр Иванович понимающе вскинул брови.
– Этот, что ли?
– Он самый. – подтвердил Корней и торопливо добавил. – Да ты, Пётр Иванович, без сомнений будь. Уж я-то своих знаю, как облупленных.
Фёдор сообразил, что говорят о нём, торопливо стянул с головы рыжий лисий малахай и неловко поклонился, а когда разогнулся, вдруг осознал, что забыл все заготовленные речи. А ведь неделю обдумывал каждое слово и для верности твердил на память, повторяя сотни раз на дню. Но в решающий момент всё испарилось без следа, вылетело напрочь, оставив после себя лишь нескладный сумбур в голове.
– Я… Пётр Иванович… тут такое дело… воровством не промышлял николи. И ежели…
– Да бог с ним, с воровством. Для другого зван. – перебил Горенский, и Фёдор от удивления крякнул. – Коротко скажу. Нынче Белёв – государя земля, небось, уж знаешь. Но на днях город и всё, что к нему тянет, Бобрикову в кормление отдадут. Хитёр, сука. Не он, конечно. Явно Воротынский руку приложил. Ну, да ничего не сделаешь. Нет в казне денег вольных. Каждая копейка не счету, а тут восемь тысяч.
Горенский закусил губу и нервно хрустнул пальцами. Неделю назад, выезжая из Москвы, он был уверен, что станет кормленщиком Белёва и даже строил планы, как поведёт дела себе на пользу. Но хитрый лис Воротынский обошёл его на повороте да так ловко, что Пётр Иванович узнал об этом, когда всё почти свершилось. Так что при всех стараниях Горенский так и остался служилым князем без волостельской власти.
– Однако ж Иван Васильевич тоже не лыком шит. – продолжил он с печальным вздохом. – Кормление Бобрикову даст, тут уж никуда. Но Андрей Петрович в Белёве только на хозяйстве будет. А ко всему, что с ратным делом связано, он без касательства. По ратным делам я начальствую. Государеву службу порядком налаживать станем. И первым делом на белёвских землях решено дворян верстать. Ибо здешних послужильцев Бобриков сманил. Жаль, конечно, но они своё получат. Дай только срок, уплатят за измену. А пока что верный служилый люд надобен. Да в скорости. Ибо неспокойно в порубежье. Из степи доносят – набег зреет большой. Так что будем здешнее войско наново составлять. Вот так, Фёдор Степанович. Что скажешь?
Клыков растерянно пожал плечами.
– Не знаю. Вам-то с верхов видней. Я что? Каким боком судить могу?
– Судить не можешь, это ясно. А вот касательство имеешь. По книгам выходит, что пашен на сотню поместий хватит. Стало быть, новикам и сотник нужен. И, по всему, хорошо станет, ежели он из местных будет. Дабы всю округу знал как свои пять пальцев. Я, было, Корнея на это место сватал. Да он, вот, обветша?ться[35 - Обветшаться – стать ветшанином, то есть уйти в отставку.] решил. Устал, говорит, от службы ратной.
– Да уж будя, навоевался. – подтвердил Корней. – Без малого тридцать лет в седле. Сплю в обнимку с саблей. Хватит. Нога, опять же. Сразу-то, по молодым годам, ничего, а нынче замечаться стало. Так что пора мне на покой, пора.
– Ну на покой ты даже не надейся. – строго заметил Горенский. – У великого князя нынче каждый верный человек на вес золота. Так что, коли к ратной службе не годен, всё одно, дело по тебе найдём. Да вот хотя бы. – Пётр Иванович выудил из стопки бумаг грамоту, показал её Корнею и бросил обратно в кучу. – В кабак тутошний тебя поставлю. Целовальником. И не криви морду. Это нынче тоже государево дело первой важности. Ну да об этом после потолкуем. А пока про сотника. Корней Давыдович на сей счёт говорит, мол, лучше Фёдора Клыкова не сыскать. Воин, де, добрый, спытанный. И с пониманием, опять же. Ну так что скажешь, Фёдор Клыков? Пойдешь на службу государю сотником?
Фёдор не верил тому, что слышит. То, как внезапно и стремительно всё в судьбе его перевернулось, не умещалось в голове. Ещё утром он готовился к суду, от которого не ждал пощады. И вот не дошло до полудня, а ему уже предлагают стать дворянином, да не простым, а сотным. Даже в бабкиных сказках, где миром правят чудеса, такого не случалось.
– Да я… это…
Стать дворянином Фёдор не мечтал. Родившись в семье послужильца, всё детство проведя средь княжеских вояк, он сам уже много лет тянул эту лямку и не искал себе другой судьбы. А бедолаг, что мыкали горе на государевой службе, ему всегда хотелось пожалеть. Так что если бы стать поместным сотником Клыкову предложили месяц назад, он бы только рассмеялся и кулаком постучал по лбу. Но как отказаться теперь? Ведь тогда придётся вернуться в послужильцы князя. А Клыков не то чтобы боялся суда и наказаний, но то, как с ним обошлись после долгих лет верной безупречной службы, простить не мог. Так уж устроен любой человек, что безвинная обида ранит его гораздо сильнее, чем тысяча ударов батогами.
– Ну вот и ладно. – кивнул Горенский, бессвязные слова приняв за согласие. Князь устало потянулся, громко хрустнув шеей. – Коли так, обверстаем тебя нынче же. По наказу каждому дворянину поместье нужно. Земля сия не твоя, не радуйся. Государева земля. Ты на ней временный хозяин. И за то царю службой обязан. Как призовёт, явиться должен конно, людно да оружно. Разумеешь?
Фёдор молча кивнул и не сдержал печальную усмешку. Бог, видать, большой затейник, раз ему интересно так внезапно и стремительно перевернуть всё с ног на голову.
– Простому дворянину сто четей положено. Но тебе, как сотнику, сверх того дадено будет. – Горенский обратился к писарю, что сидел рядом за кипой бумаг. – Что там есть подходящее?
Чиновник пробежал глазами крупно исписанный листок:
– Да тут, Пётр Иванович, всё, что нарезано, в нужное не выходит. Где десятка четей не достанет, а где и боле. Ежели с прибавком сотным, токмо Водопьяновка к делу стала бы. Да там другая незадача. Слишком много четей. Почти двойной надел выходит.
Князь повернулся к Клыкову.
– Слыхал? Не велик выбор. Либо берёшь меньше того, что положено. Либо Водопьяновка, но тогда придётся тебе второго вояку сыскать и на свой счёт его содержать да оборуживать. Сыщешь?
– А чего искать-то? У меня сыну днями пятнадцать. Коли так, он тоже, считай, дворянин отныне. Вот и выйдет нам на семью Водопьяновка в самый раз.
Горенский сдвинул брови и пристально посмотрел на Фёдора.
– И когда ему пятнадцать?
– Да вот уж прям. – соврал Фёдор.
– Не виляй. – строго, но беззлобно потребовал князь.
– Месяц с малым. – ответил Фёдор, в уме прикидывая, сможет ли скрыть, что на самом деле Семёну до пятнадцати ещё четыре месяца.
– Месяц с малым…
– Да ты не сомневайся, Пётр Иванович. Он у меня парень эге-гей. К службе с малых лет приучен. Что на коне, что пешим – вояка годный будет. Что ж, коли без месяца, так для войны не гож разве?
Горенский задумался.
– Что ж, быть по сему. Запиши. Село Водопьяновка и земля, что к ней тянется, за сотником Фёдором Клыковым и сыном его…
– Семёном. – торопливо подсказал Фёдор.
– И сыном его Семёном. – Горенский откинулся на спинку кресла и устало закончил разговор. – А то, что там сто восемьдесят четей вместо положенных двухсот двадцати, так то сам решать будешь. По уложению на такой случай тебе из казны вспоможение дадено будет. В этот год крестьян тамошних от всякого тягла освободишь. Пущай лес под пашню сводят. Им самим, небось, новые поля не помешают. Вот так-то, Фёдор Клыков. На неделе воинство твоё прибывать станет для верстания. А покуда всё. Ступай, везучий ты сукин сын.
Глава четвёртая
К полудню 20 октября на лобном месте детинца собралось семьдесят два дворянина. Каждый за плечами имел много лет службы на денежном окладе: непрерывные мытарства, казённые углы, скудная кормёжка и вечно недовольное семейство. Потому сейчас, когда они оказались в Белёве, где у государевой казны появились новые свободные угодья, разговоры шли только об одном – земля. Сто четей пашни. Какие они будут, где их нарежут московские рядцы, сколько смердов насчитает сельцо, каково окажется хозяйство, и как пойдут дела. В том, что пойдут они хорошо, никто не сомневался. А как может быть иначе, ведь не зря же так долго ждали.
– Первым делом в усадьбе все дорожки замощу, чтоб про грязь забыть. – мечтательно рассуждал десятник Авдей Жихарь. Как-то раз татарская стрела угодила ему чуть выше колена, зацепив бедренную кость. Рана зажила, но с тех пор от любой сырости правую ногу сверлила нудящая боль. – На службе, в походе оттерплюсь, тут уж чего. А дома нет, не желаю. Всё замощу.
– Да ну, одощатить сподручней будет. Дешевше, опять же. – не соглашался Андрей Развалихин, вечно всё сводивший к подсчётам. – Досок наколол – вот тебе и мостовая.
– Нет уж, братец. – стоял на своём Жихарь. – Доска чего? Сгниёть. А каменюкой замостить навечно. Так что пусть дорого, но мостить буду. Вот ты как думашь, сотник?
Авдей повернулся к дворянину, который сидел на перилах гульбища, свесив короткие, чуть кривые ноги и плечом навалившись на опорный столб навеса. На безбородом скуластом лице выделялись большие прозрачные с лёгкой зеленью глаза, что смотрели на мир с печальной мудростью человека, который за неполные тридцать лет повидал столько, что иным хватило бы на девять жизней. На самом деле сотником он не был. Просто три месяца назад их голова погиб в бою и с тех пор десятник Никита Шелгунов нёс это бремя на себе, поскольку никто из товарищей не возражал.
Вместо ответа Шелгунов печально вздохнул. Перед его мысленным взором чередой промелькнули четырнадцать лет службы. Как жил на узлах без постоянного угла, а порой и вовсе без крыши над головой. Как возил с места на место сначала беременную, а потом только что родившую жену. Как потерял из-за этих переездов первого ребёнка, застудившегося, когда ночевали в поле. Как из-за безденежья не похоронил по-христиански, а просто закопал в чужой земле умершего отца, который тоже тянул лямку служилой жизни от рождения до дряхлой немощи.
– Да уж, сполна хлебнул, чумичкой[36 - Чумичка – деревянный или берестяной половник.]. – невпопад сказал Никита, но тут же просветлел лицом и мечтательно улыбнулся.
Ныне дело шло к счастливой перемене. Теперь за многолетнюю верную службу ему обещали дать поместье в сто четей плодородицы. Как в сказочных грёзах, что Шелгунов с малого детства лелеял в душе под рассказы отца, который помещиком так и не стал. Да и сам Никита иногда, в особенно трудное время, терял надежду. Но вот ведь – дожил и уже сегодня получит вожделенный надел.
– А я первым делом конюшню слажу. – отозвался Демьян Рогожин, известный лошадник. Он сидел на завалинке, спиной привалившись к бревенчатой стене и, подняв голову, мечтательно следил за плавным ходом белоснежных облаков. – И сеновал. Непременно большой сеновал. О прошлый год по бескормице казённой коня потерял. А было б поместье, да сеновальчик, так по сю пору ходил бы подо мной Каурка. А так… Кормить нечем было, вот и пришлось под нож пустить, чтоб лучшим другом детей накормить. А какой конь был, э-э-эх… Вы такого коня отродясь не видали.
– Ха, не видали мы, сказал тоже. – вмешался в разговор Мирон Насекин, снискавший в сотне славу забаутника[37 - Забаутник – балагур, рассказчик.]. Худощавый и вёрткий, с подвижным лицом и беспокойными руками, он вскочил на ноги, чтоб оказаться выше всех. – Я как-то раз в бою такого коня взял. Вот это был да. Что ты!
– Ну-ка. – всерьез оживился Рогожин, который терял покой, едва речь заходила о лошадях.
– Давай-ка, поведай, что за чудо-конь. – поддержал Авдей Жихарь, с улыбкой тыча локтём в бок Развалихина.
– У-у-у-у! – Мирон закатил глаза. – Как гарцевать учнёт – сказка. А летал как? Что на крыльях. Земли не касался. Как-то раз один мурза ногайский узрел, так что банный лист прилип, не отвадишься. Уступи, деи, что хошь бери. Вот что попросишь, то и отдам. Ну я тоже ни в какую. Мол, самому нужон. В ратном деле добрый конь полжизни стоит. Так он, мурза энтот, до того загорячел, весь гарем, деи, забирай. Мол, на что мне энти глупые бабы. Во как. А бабы-то у него не простые, ясно дело. Лучших пород. Мурза, никак, понимать нужно. И он мне дюжину энтих баб ну чуть не силком пихает.
– Да уж скажи – сотню… Чего жмёшься-то? – с усмешкой вставил Гришка Ладыжников, без замечаний которого не обходился ни один рассказ Насекина. – Али остальных на следующий раз приберечь решил?
– Ты… Знаешь… – возмутился Мирон и покраснел, но никто не мог сказать точно, по какой причине. От стыда, что его уличили в бессовестной выдумке, или от гнева на то, что мешают вещать святую правду.
– И-то верно, Гришка. – Шелгунов неожиданно вступился за Насекина. Но не успел Мирон благодарно кивнуть и продолжить рассказ, как Никита добавил со сдержанной усмешкой. – Не хочешь слушать, как люди врут, так сам ври, давай!
– Ну, н-е-е-ет. – Ладыжников замахал руками. – Здесь уж мне куда? Миронка у нас врёт, что шёлком шьёт. Гладь знатная выходит. Мне так не под силу.
Тут уж насмешки стали сыпаться со всех сторон.
– Уж коли Насекин врать станет, ни пеший, ни конный не догонит.
– Он разве что невзначай правду молвит, по случайности.
– Да пошли вы в таком разе… Все скопом! – вспылил Мирон, но едва в ответ грянул дружный смех, и сам улыбнулся. – Будто для себя стараюсь. Сами же пристали. Расскажи да расскажи. А я чего? Врать не пахать – было б кому слушать. Как говоритси, всякая прибавка хороша с прикраской. Коли не солгашь, так и не продашь. Так-то, олухи. Боле ничего от меня чего услышите, чёрта лысого.
– Ой ли? Побожись.
– Ох, братцы, икону неси. Да спехом. Не то упустим случай.
– Ага, не услышим. – продолжал поддевать Ладыжников. – Поклялась свинья дерьма не жрать, да вдруг бежит – а его целых два лежит.
– Ладно, на себя глянь. Будто не знаем, каков ты безгрешнец. – беззлобно огрызнулся Насекин и тут же встрепенулся, что-то вспомнив. – Ой, братцы, смех какой был. Как-то раз пентюх этот по шалому забежал на двор к вдовушке одной. Та в крик. А этот, чтоб ты думал?
– Ну вот, говорил же, пущай божится. – Гришка Ладыжников с наигранной досадой всплеснул руками и тут же подавился сдержанным смехом.
За ним прыснул Никита Шелгунов, и скоро лобное место опять потонуло в громком хохоте полсотни человек. Правда, он тут же смолк. На просторном гульбище появился московский подьячий с длинным пергаментом в руках. Рядом с ним стоял невысокий коренастый дворянин в старой чуге с заплатками на локтях и пушистом лисьем малахае. Чиновник дождался, пока стихнет ропот, и заговорил по-хозяйски уверенно.
– Ну что, собрали?сь, бездельнички? Готовы верстаться? – Дружный возглас одобрения громом прокатился над детинцем. Подьячий жестом подозвал Фёдора. – Вот это отныне сотный голова ваш, Фёдор Степанович Клыков. Под ним служить будете.
Клыков смущённо откашлялся, торопливо сдёрнул с головы шапку, не зная, куда её деть, стал нервно мять в руках.
– Из каких же будешь? – настороженно спросил Жихарь. – Не серчай, но что-то не похож ты с нашим братом.
– Из послужильцев я. – честно признался Фёдор, и по толпе дворян пошёл недовольный шёпот.
– Это что ж выходит? – высокий голос Демьяна Рогожина перекрыл общий ропот. – И здесь княжьи холуи нас обскакали?
– В походах им всюду само лучше место достаётся. – поддержал его Развалихин. – Как бой – так нам в пекло, а как хабар брать – так им напервой.
– На что нам в головы чужак, да ещё из княжеских?
– Что у нас, своих, что ль, нет, кто в головы годен?
– Верно. Вон, Никита Шелгунов уж сколь сотничал, пущай и дальше он.
Фёдор слушал всё это спокойно. Он прекрасно знал, что точно так же, как послужильцы презирают дворян, те не переносят на дух послужильцев. Всё это началось так давно, что теперь уже никто не ведал истинных причин. Но от предков по наследству получая эту неприязнь, потомки легко находили для неё свои резоны. Потому Клыков и не ждал любезной встречи. Он был готов к упрёкам и теперь, хладнокровно позволив дворянам спустить пар, ответил уверенно и твёрдо:
– Да, верно, прежде я у князя в службе был. Однако ж ратно дело, оно, с какого боку ни гляди, всё одним цветом отливает. Красным, по крови. А послужилец послужильцу рознь. И я хоть из княжеских людей, а с нынче их люблю не больше вашего. – Фёдор выждал, без страха глядя на молчавших дворян. – Я вам в головы не сам встал, а царём поставлен. А коли так, любить не прошу, а всяко жаловать придётся.
– Вот это верно сказано. – поддержал его чиновник. Он строго погрозил пальцем и даже топнул ногой для пущей острастки. – А то ишь, гляди, взъерошились! Чего возомнили? Вы царёво войско. А кто шибко своеволен, так путь чист. Пущай ступает дале на денежном окладе жить. Уразумели?
Дворяне притихли. Речь Фёдора их не слишком убедила, но вот угроза подьячего остудила даже самых дерзких. После стольких лет ожиданий никто не хотел остаться без поместья из-за глупого упрямства. А чужак? Ну так что ж, это не впервой. Сколько их было таких, чванливых, важных, гонористых. Сгинет в первой же стычке и всех дел.
– Ладно, братцы, хорош булга?читься[38 - Булгачить – скандалить, производить переполох, беспокоить, будоражить]! – По ступенькам на гульбище легко взбежал Никита Шелгунов. – Цыплят, их ведь по осени считают, верно? Так что поглядим, каков Фёдор Степанович в деле, там и видно будет. А покуда неча бузу разводить.
Фёдор в благодарность едва заметно кивнул Шелгунову, тот в ответ лишь равнодушно усмехнулся – не ради тебя, мол, старался.
– Десятники есть средь вас? – выкрикнул подьячий, спеша увести разговор в другое русло. На гульбище к Шелгунову молча поднялись Жихарь, Развалихин, Насекин, Демьян Рогожин и Гришка Ладыжников. Окинув их беглым взглядом, чиновник разочарованно вздохнул. – Маловато будет… Нынче семьдесят два дворянина обверстаем. Так что ещё один надобен. Фёдор Степанович, ставь, коли ты сотник.
– Разберёмся, поглядим. – уклончиво ответил Фёдор. – Не спехом дело спорится, а толком. Где я нынче доброго десятника возьму, коль не знаю никого?
– Положено так. – мягко настоял подьячий.
– Ну, коли положено… – Клыков побежал взглядом по толпе и вдруг удивлённо округлил глаза. – О, Кудеяр. А ты здесь каким ветром?
Осторожно раздвинув переднюю шеренгу, из людской гущи вышел Тишенков. Смущённо пряча глаза, он шагнул на первую ступеньку лестницы, но дальше не пошёл.
– Да вот, Фёдор Степанович, тоже одворяниться хочу. – Едва слышно признался он, не поднимая головы.
– Вот тебе раз. Это как же?
Кудеяр промолчал. Ибо как объяснить, что затея с конями, ради которой он ушёл от князя, рассыпалась в прах, даже не успев начаться? Ведь местный ростовщик запросил лихву в полную сумму каждый месяц. То есть, взяв сейчас десять рублей серебром, на исходе ноября Тишенков должен был отдать уже двадцать. А если бы пришлось просить отсрочку, к концу декабря долг вырос бы до сорока. При таких раскладах торговля жеребцами теряла всякий смысл, но Свист про это даже слушать не хотел и твёрдо стоял на своём: либо Кудеяр платит за коней вперёд, либо барыш делить будут в семь долей шайке против трёх Тишенкову. Так что предстояло либо влезать в кабалу, с которой не расплатиться, либо изыскать способ надавить на Свиста, чтобы он пошел на уступки.
– Так что же, Фёдор Степанович. – Кудеяр наконец-то смог посмотреть на старого товарища по службе, с которым так нехорошо расстался два месяца назад. – Замолвишь слово за меня? Али как?
Фёдор колебался. Он, как и все послужильцы Белёва, недолюбливал Кудеяра. Уж больно тот был себе на уме, всегда держался в стороне от общих дел, а за общим столом на пиру не сиживал и подавно. Так что, будь его воля, Клыков гнал бы Тишенкова поганой метлой до самых ворот. Но сегодня утром в разговоре с ним князь Горенский в который уже раз сетовал на то, что все ратники Белёва ушли от государевой службы в Бобрик. Пётр Иванович твёрдо знал: того, кто допустил такое, Москва не похвалит, потому готов был заплатить любую цену, лишь бы заполучить в придачу к бывшему десятнику Клыкову хотя бы ещё одного, пусть тоже бывшего, послужильца. Так что Фёдор отогнал свои сомнения и обратился к подьячему:
– Ну, коли так, вот и седьмой десятник сыскался.
Чиновник согласно кивнул и что-то быстро записал в свои бумаги. Потом передал их писарю, а сам вышел на край гульбища. Оказавшись над толпой дворян, замерших в нетерпеливом ожидании, подьячий не спеша оправил кафтан, любовно пригладил соболиный мех шапки и откашлялся.
– Ну вот что, братцы. Сегодня верстаться будем, и сразу вам первая служба. Из Москвы приказы едут, да чиновный люд всякий. Пушкари, опять же, со стрельцами. Их всех размещать надобно и для того детинец освобождать от всякого будем. Ибо детинец есть цитадель городская, то бишь воинское место. И коль скоро ратным делом отныне князь Горенский ведает, стало быть, и в детинце распоряжаться он станет, а не волостель. Так что завтра же с утра всех бывших послужильцев, что к Бобрикову на службу ушли, из домов вон. Коль им служба при князьях больше любится, пущай и едут в Бобрик тогда. В государевых местах им отныне места нет.
Глава пятая
В полдень 28 октября в белёвский детинец въехал обоз из десятка телег. Передней правил Иван Пудышев, остальными – мужики из Бобрика. Миновав Болховскую башню, вереница повозок проползла по единственной улице, под грохот деревянных колес пересекла мощёное камнем лобное место и длинной цепью растянулась вдоль послужилых домов. Сразу же застучали двери, калитки и ворота. Со дворов посыпался народ: женщины, старики и дети. На обочине появились горы из мешков и узлов с вещами; в ряд строились берестяные короба и туеса; в придорожной грязи среди пожухлых сорняков и мутных луж непривычно и странно смотрелись сундуки в металлических набойках по углам, с резным узором на боках или потёртой росписью на крышке.
Все пожитки Иванова семейства уместились в два холщовых тюка и большой дощатый ларь, на котором обычно спал Афанасий Иванович. Старик и сейчас отказался покидать привычное место и, по-турецки сидя сверху, зябко кутался в старый армяк и беспокойно озирался. По временам он сокрушённо тряс почти лысой головой с жидким клочком бородёнки и повторял одно и то же:
– На кой дался этот переезд?
Подслеповатые глаза слезились, и старик часто тёр их кончиками узловатых пальцев. От этого движения армяк, наброшенный на плечи, сползал, и тогда стоявшая рядом Марья поправляла его, снова укрывая сухое старческое тельце. А в ответ свекр, глядя на нее с упреком, повторял одно и то же:
– Ну вот на кой дался этот переезд?
Марья ничего не отвечала – она и так едва держалась, чтобы не заплакать. Справа от матери в испуганном молчании замерла старшая дочь Анна. Слева, ручонками вцепившись в подол, за всем происходящим с неподдельным детским восторгом наблюдала Настенька.
Остановив коня, Иван сошёл с телеги.
– Ну как, готовы? – спросил он, не поздоровавшись, избегая смотреть на жену.
– Ты, Ванюшка, главно не забудь для матери весточку оставить. – наставительно прошамкал беззубым ртом Афанасий. – Чтоб, как вернется, сыскать нас смогла. Понял?
– Ну как же забыть, бать? Не тревожься.
Наконец Иван набрался смелости и посмотрел на жену. За минувшую неделю Марья побледнела и осунулась, так что лицо её теперь напоминало восковую маску. Глаза запали и потускнели, их когда-то бездонная синь стала пасмурно-серой, как осеннее небо перед дождём. Под веками очертились тёмные круги. Поймав не себе виноватый взгляд мужа, женщина ободряюще улыбнулась, но по щеке тут же побежала слеза, и Марья поспешила отвернуться. В груди Ивана сжалось и больно кольнуло. Ох, если бы прямо сейчас разверзлась земля, и он провалился в прямо к черту в пекло, это было бы лучше, чем видеть все, что творилось вокруг.
– Грузитесь. – тихо произнёс он и бросил в телегу оба мешка.
Иван взял на руки отца – костлявое тело было почти невесомым – и бережно усадил его на соломенный тюфяк, который жена расстелила на дощатом дне повозки. Покончив с этим, Иван подошёл к сундуку, примеряясь, как бы одному втащить его в телегу. Он уже подсунул руки под дно, с натужным хрипом приподнял огромный ящик и несколько шагов проволок его по земле, когда из ворот соседнего двора появился Фёдор.
– Здорово, Вань. – смущенно сказал он и взялся за верёвочную ручку на боковине. – Давай, пособлю.
Пудышев бросил сундук, распрямился и поставил длинную худую ногу на крышку.
– Благодарствую, ты уже помог. – зло бросил он и сплюнул под ноги Фёдору. – Сказывали, ты нынче сотник? В гору идёшь. А не спрашивал у москвичей, что надобно сделать, чтоб воеводой стать? Может, весь посад выселить?
– Так говоришь, будто на то моя воля была. – возразил Клыков, но говорил он неуверенно и тихо.
Умом понимая, что в случившемся нет его вины, в душе Фёдор всё же ощущал себя предателем и трусом. И чтобы оправдаться в собственных глазах, вдруг заговорил со злым укором.
– Покуда я в застенке был, ты тоже не спешил на выручку. Так что…
– Так что квиты, стало быть, да? – с кривой ядовитой усмешкой перебил Иван. – Посчитался ты со мной. Доволен нынче?
Клыков не выдержал колючего взгляда друга. Отвернулся, но на свою беду тут же глазами встретился с Марьей. А та смотрела без упрёка, наоборот, с мягкой кроткой жалостью, отчего у бывшего соседа защемило сердце. Внезапно, он вспомнил, что перед выходом, зная, что встретит всё семейство, специально положил в карман домашней одежды малиновый леваш – любое лакомство Насти. Спохватившись, Фёдор достал маленький свёрток и подошёл к телеге, но не успели обе девчонки по-детски просиять при виде угощенья, как Иван перехватил руку Клыкова и до побелевших пальцев сжал запястье.
– Ну вот ещё не хватало. – процедил Пудышев сквозь зубы и резким движением сбросил с плеча руку Марьи, которая пыталась успокоить мужа. – Уж не голодные. Без подачек от тебя не сдохнут.
Фёдор тоже вскипел. Потянул предплечье так, что рука Ивана вывернулась, и он против воли разжал пальцы. Клыков отшвырнул раздавленный леваш. Сладость с плеском упала в глубокую лужу, по грязной воде пошли круги, и от малиновой начинки расплылось красное пятно.
– Ну, коли так… – сдавленно прорычал Фёдор. – Приказы ждут, освобождай жилище. Да не тяни, гляди. Кто до обедни сам не сможет, того в плётки гнать велено.
Клыков резко развернулся и зашагал к терему, на углу которого, рядом с пристройкой поварни, уже толпилось три десятка дворян. Без доспехов, но при оружии. Пудышев смотрел вслед другу, и кулаки его разжимались сами собой, а жгучая злость в глазах уступала место бессильной печали.
– Ладно, тянуть и правда неча. – тихо сказал он, скорее сам себе.
Повернувшись к дому, Иван прочитал короткую молитву, перекрестился трижды и поклонился в пояс. Возница стоявшей рядом телеги подоспел на помощь, и вдвоем они затолкали сундук на повозку. Улица зашевелилась, гружёный обоз тронулся с места и под жалобный скрип плохо смазанных осей потянулся на выезд из детинца.
Чтобы успеть в Бобрик к закату, дорогу в двадцать две версты прошли разом, с одним коротким привалом. Город показался уже в первых сумерках, когда на одном краю земли ещё пылал багряный закат, а на другом небо уже резал узкий серп луны. Слабый свет с оттенком перламутра заливал полоску земли между маленькой речушкой, что тускло серебрилась на дне пологого оврага, и глубокой сухой обрывистой балкой.
Ещё на въезде в Бобрик, у посадского моста, переселенцев встретил караул. Одного охранника отправили с известием вперед, так что когда караван телег въехал в детинец, там уже собралось два десятка домашних княжеских холопов во главе с огнищным тиуном. Захар Лукич с ужасом смотрел на прибывших и думал, где разместить, чем накормить ораву в сотню ртов.
Выгружаться стали уже в темноте. Илья Целищев, кряхтя и надрывно дыша, снимал с телеги большой сундук, куда уместилось всё добро большого семейства. Роман Барсук первым делом помог сойти на землю беременной жене, затем стал ссаживать пятерых детей – один другого меньше. Платон Житников, ворча, в кучу сбрасывал мешки с вещами, а рядом Ларион Недорубов заботливо укладывал ящик, в котором хранились кольчуга, шлем, сабля и два кинжала.
Марья, с непривычки разбитая долгой тряской, отдуваясь и тихо постанывая, уложила в кучу оба узла и усадила на них полусонных дочерей. Иван помог спуститься отцу, который проспал всю дорогу, а проснувшись, первым делом спросил, знает ли Ульяна Никитична, что они будут ждать её здесь. Пудышев не ответил, только вздохнул.
Бобрик ему не нравился с первого дня. Посад казался бестолковым и кургузым— словно великан забавы ради впихнул на тесный пятачок как можно больше маленьких избушек, а детинец, на прикидку раза в три меньше белёвского, был застроен так плотно, что среди его нагромождений Иван не мог свободно дышать. Пока Бобрик оставался просто приграничной крепостцой, где он просто нёс службу вдали от дома, Иван не слишком беспокоился об этом. Теперь же, когда судьба занесла сюда семью, всё виделось иначе. Но даже неустройство здешней жизни отступило под напором других мыслей. Из-за реки ветерок приносил терпкий дух полыни пополам с вонью горелой травы. Для порубежников это был знакомый запах Дикого поля, запах беды, которая теперь всегда будет рядом. Белёв, конечно, тоже не Вологда с Белоозером, где татар видели редко, но всё же и не самый рубеж, где жизнь со смертью ходят бок о бок.
– Где размещаться-то будем? – спросил Иван у Тонкого, и тот кивнул куда-то в глубь детинца.
– Бобка! – Сидор взглядом отыскал младшего дружинника и скомандовал. – Веди новосёлов. И помоги Ивану Афанасичу устроиться.
Юный Замятин, донельзя довольный тем, что получил задание лично от Тонкого, с готовностью подхватил один из тюков и резво зашагал к старой конюшне, что последние лет пять служила складом для всякого хлама, который не годился к делу, но выкинуть его всё равно было жалко. Теперь он огромной горой громоздился у открытых ворот в торце барака. Внутри было сыро и зябко, из конца в конец сквозного коридора потоком гулял ветерок с запахом навоза и застарелой конской мочи. Семьи белёвцев расселили по денни?кам, разделённым переборками высотой чуть больше двух аршинов, так что соседи при желании могли бы заглянуть друг к другу.
Пудышевым достался особый денник в торце. Прежде там держали беременных и только что ожеребившихся лошадок, оттого помещение было заметно свободней, теплее и соседи имелись только с одной стороны. Обустройство заняло весь вечер, и только к полуночи Марья смогла, наконец, присесть на кучу прелой соломы, что заменила супругам постель. Отец Ивана, накрытый армяком и старой конской попоной, тихо сопел в долблёном корыте бывшей кормушки. В дальнем, самом тёплом углу всё на тех же узлах спали девчонки. В центре новых хором разместился сундук, который отныне служил семейству столом. На нём стоял небольшой чугунок с пшённой кашей и кусок варёной тыквы вместо хлеба – скромный ужин под конец уборки принёс снова посланный Тонким Бобка Замятин, но к еде никто не притронулся.
Хотя с самого утра Ивану в рот не попало и маковой росинки, а всё же кусок не лез горло, так что пару раз ковырнув кашу ложкой, он отложил ее и, выйдя из-за стола, присел на соломенный ворох, с усталым вздохом вытянул гудевшие ноги. Марья бесшумно опустилась рядом.
– Ну чего ты? – ласково спросила она. Её маленькая ладошка легла на жилистую ручищу мужа. – Ничё, ничё. Не в чистом поле ведь. Да и свои, опять же, рядом.
Иван кивнул и, чтобы не выдать истинных чувств, попытался улыбнуться. Вышло криво, жалко, и Марья, вдруг простонав, подалась вперед, прижалась к Ивану, положила подбородок на узкое костлявое плечо, влажной от слёз щекой прижалась к колючей щетине. И прошептала, едва сдерживая всхлип.
– Не вздумай, слышишь. Мне одна опора только. Ежели ещё и ты подломишься, хоть сразу в гроб.
Чувствуя, как Марья затряслась в рыданиях, Иван закусил губу, чтоб не заплакать самому. Обхватил жену свободной рукой и прижал к себе. Так они и просидели, пока над детинцем Бобрика не разлетелась утренняя песня петуха.
Глава шестая
В начале ноября в Поочье пришла непогода. Небо затянули обложные тучи, и солнце исчезло в их тёмно-свинцовой утробе. Зарядили дожди, их заунывная трель звучала дни напролёт, и даже во время редких коротких затиший воздух всё равно наполняла едва ощутимая морось. Реки вздулись и вышли из берегов. Земля раскисла, пустые, негружёные повозки, и те вязли в грязи по самые оси, и даже верховые передвигались только шагом – в галоп не поскачешь.
В такую пору для служилых людей порубежья наступала передышка, ибо набегов ждать не приходилось. Потому новым белёвским дворянам сразу после верстания дали время на обжи?тье в новых поместьях.
Четвёртого ноября под проливным дождём новоиспечённый сотник белёвских дворян верхом на гнедом жеребце в старом армяке и хвостатом лисьем малахае въехал в Водопьяновку. Семёна он с собой не взял, оставил в городе, готовиться к ратной службе и… наслаждаться внезапно вернувшимся счастьем.
За день до отъезда к ним вдруг явился Елизар Горшеня. Он вошёл молча, понурый, скукоженный и жалкий, как побитая собака. Фёдор в это время сидел у печи и на точиле правил старый кинжал, по случаю купленный для Семёна. Увидев Елизара, он вскочил на ноги так резко, что опрокинул чурбак. Горшеня испуганно вздрогнул, попятился к двери, но, пересилив себя, остановился, стянул шапку и замер.
– Прощения пришёл просить, Фёдор Степанович. – глухо промычал он, не поднимая головы. – Бес попутал. Филин всё это, служка княжеский. С панталыку сбил. Принудил, злодей, к навету. Сам бы я ни в жизнь. Прости, Фёдор Степанович, а?
Елизар наконец-то решился посмотреть на Фёдора, но, едва встретившись с ним взглядом, как подкошенный рухнул на колени.
– Спаси, Фёдор Степанович, не губи! Горенский тайны книги сыскал, нынче ищет, кого крайним сделать. Что волка обложили, на погибель гонят… Спаси, Фёдор Степанович!
– Сгинь, нечисть, с глаз долой. – прорычал Клыков, с трудом подавляя вскипавшую ярость.
Он уже готов был ударить Горшеню, схватить его за ворот и пинком выставить за дверь, но тут на пороге появилась Лада. В расшитом шуга?йце[39 - Шугай или шуга?ец – старинная русская женская одежда, род короткопо?лой кофты с рукавами.] и праздничном венце с подведёнными сурьмой глазами и лёгким свекольным румянцем на щеках. Она бесшумно вплыла в тесные сени, остановилась рядом с отцом и молча тоже опустилась на колени.
– Ты же сотник ныне, к самому Петру Ивановичу вхож. Свата твоего не тронут, пощадят… – причитал Горшеня. – Заступись, Христом богом молю, Фёдор Степанович.
Лада молчала. На бледном ангельски красивом личике лежала печать душевных страданий – ей невыносимо было видеть унижение отца. Но едва девичьи глаза нашли Семёна, как тут же засветились радостью и счастьем. Юноша, сидя на доспешном сундуке, штопал старый тягиляй. Увидев Ладу, он выронил доспех и замер с сапожным шилом в руке и намыленной дратвой в зубах. А когда их влюблённые взгляды встретились, Фёдору примнилось, что в тесной комнатёнке, пропахшей дымом и щёлоком, вдруг стало светлее.
– Тьфу ты, в пень колоду… – прошипел Фёдор, злясь на самого себя, ибо в этот миг прекрасно понял, что не сможет отказать Горшене. – Ладно, бес с тобой. Скажу слово. Но учти. Не дай бог, как отляжет, вздумаешь про женитьбу крутить… Гляди тогда!
Так Семён Клыков и Лада Горшеня снова стали женихом и невестой. Спасённый Елизар на радостях даже согласился, чтобы отныне влюбленные виделись каждый день. Под присмотром, конечно. А Фёдор, чтобы не лишать сына этой радости, позволил не ехать с ним в поместье.
Отыскав двор старшины, Фёдор по-хозяйски, без спроса завёл в сарай коня и, устроив его рядом с тощей облезлой коровой, бросил в ясли охапку сена. Жеребец жадно потянулся к сухой траве губами, но не успел ухватить и пучок, как за спиной у Клыкова раздался встревоженный голос:
– Здравствуй, мил человек.
Фёдор обернулся. В покосившемся дверном проёме стояли Мефодий и Матвей Лапшины. Заметив в окно чужака, который без стеснения орудовал в сарае, хозяева поспешили на двор. Старик, отдуваясь после бега, недоверчиво смотрел на незваного гостя. Матвей пытался в полумраке взглядом отыскать вилы или что-то ещё, что могло сгодиться за оружие.
– Здорово! – радостно ответил Фёдор. – Ты, стало быть, старшина тутошний?
– Стало быть, я. – тихо, словно нехотя признался Мефодий.
– Ну, коли так, знакомы будем – Фёдор Степанович Клыков. Отныня дворянин здешний.
Фёдор протянул старшине бумажную трубочку с накладной печатью государева поместного приказа. Мефодий дрожащими пальцами развернул грамоту, взглядом пробежал по трём неровным строчкам.
– Это как же, мил человек, понимать? – спросил он, возвращая грамоту.
– А так и понимай. Отныне это государева земля, а я на ней за службу помещён. Отныне княжеских рядцов над вами не стоит. Один господин у вас – я. Понимаешь?
Мефодий озадаченно почесал затылок.
– И это… Что ж теперь? Как?
– Ну, перво-наперво, дай-ка мне согреться. – усмехнулся Фёдор. – А уж после толковать станем.
Старшина хлопнул себя по лбу и виновато улыбнулся.
– Да уж конечно… Милости прошу!
Лапшины провели Клыкова в дом. В единственной комнате совсем не маленьких размеров было темно и тесно, как в гробу. Одну половину горницы занимал большой верстак в локонах стружки и россыпи щепок. Полавочник над ним загромоздили бочарные плашки. Рядом на полу лежало несколько деревянных обручей, внутри которых насыпью валялись скобеля, уторники и прочий мелкий инструмент.
В другой половине, сраставшейся с бабьим углом, в ряд стояло полдюжины снопов сухой льняной соломы. Чуть поодаль Дуняха в мокрой от пота рубахе среди облака серо-зелёной пыли усердно шлёпала рукоятью большой мялки. Рядом с печкой Серафима на веретене сплетала размятые волокна в длинную нить. У её ног в своих заботах копошились трое ребятишек мал мала меньше.
– Бросай работу, бабы. – бойко скомандовал Мефодий. – Гостя приветить надобно.
Клыков снял лисий малахай, стянул с себя промокший под дождём армяк и отдал одежду Дуняхе. Серафима уже суетилась возле печи, доставая из дымящего горнила чугунок без крышки. Матвей ершистой щёткой очищал от опилок верстак, служивший семейству обеденным столом.
– Ну вот что. – начал Фёдор, садясь на лавку. – Как тебя?
– Мефодий Митрофаныч.
– Перво-наперво о главном давай. Дьяк в Белёве сказывал, вы на три поля просились. Так?
Мефодий Митрофанович бросил на сына косой беглый взгляд. Матвей с опаской дёрнул бровью. Челобитная, что они отправили новому князю, для общины едва не обернулась большой бедой. Так что теперь, когда вновь всплыл разговор про переход на три поля, старшина поневоле напрягся, не ожидая добра.
– Хотели. Да князь отказал… – упавшим голосом сообщил он.
Фёдор взъерошил мокрые кудри и неуверенно улыбнулся. Предстоящий разговор о пашнях, посевах и сборах для него был всё равно что слепому поход по густому лесу.
– Ежели мне верно всё растолковали, урожай при том чуть не вдвое больше станет, так? – он говорил медленно и от волнения часто запинался. – А по государеву наказу дворяне оброк в поместье не по четям пашни получают, как вотчинники, а десятину с урожая. Выходит, мне тоже глянется, чтоб вы больше собирали. Потому, давай-ка, Мефодий Митрофаныч, вместе покумекаем. Может, и выйдет что. Объясни мне, в чём загвоздка-то?
Старшина всплеснул руками. Он, когда-то давно рождённый на покосе, провёл в полях всю жизнь и потому искренне удивлялся, когда кто-то не понимал столь очевидных истин.
– Да просто же всё. Нынче у нас пашни сто восемьдесят две чети. Половина под паром кажный год лежит, а засевам мы токмо девяносто. При наших урожаях меньше сеять нельзя. И так, токмо впритык хватает, дабы оброк выплатить да самим после с голоду не сдохнуть. А ежели на три поля переходить, так целых два года всего шестьдесят четей в запашке будет. Это в самый щедрый год не прокормит. Вот и вся загвоздка.
Клыков понимающе кивнул и слабо улыбнулся.
– Ну вот что тогда послушай. Но по верстанию мне поместье в двести двадцать четей дадено. И на те сорок без малого четей, что не достает нынче, позволено государев лес сводить. В грамоте поместной так и сказано. А когда у нас двести двадцать четей будет, тогда треть от них – почти восемьдесят. Это раз. – Он поставил руку локтем на стол, сжал кулак и распрямил указательный палец, а потом добавил к нему ещё и средний. – А вот два. Нынче мне из казны вспоможение дадено. Три рубля, дабы к весне здесь усадьбу поставить.
– Усадьбу? – Старшина удивлённо вскинул брови. – Отродясь здесь усадьбы не было…
– Само собой. Ибо прежде вы просто княжеским сельцом были, а нынче – дворянское поместье. – С улыбкой пояснил Клыков. – А поместью без усадьбы нельзя. Непременно надобно. Я даже место приглядел, пока дом твой искал. Прямо против Берегини вашей, на бугре через ручей. Там и будем ставить. А коли так, можно ведь три казённых рубля сберечь. Ежели всё одно лес под поле сводить будем, так заодно на терем брёвен заготовим. А я на эти рубля, да с казённым приварком, два года уж как-ни то переживу. Стало быть, и от оброка вас освобожу. Ну, как вам такой договор? Вы нынче новые поля чистите, да к весне усадьбу мне рубите. А я вас на два года от оброка ослобоню.
Мефодий долго теребил клинышек козлиной бородёнки, потом тёр указательным пальцем кончик носа и водил широкой костлявой ладонью по поверхности стола.
– А почему к весне-то усадьбу?
На мгновение Фёдор растерялся. Он ожидал каких угодно возражений, но вопрос старшины застал его врасплох.
– Поместный приказ так положил. – объяснил он. – Три рубля получу, токмо ежели к весне усадьба в поместье будет. Инше и полушки не дадут. А тебя что беспокоит?
– Да вишь ли… – Мефодий наморщил лоб и цокнул языком. – Тот лес, что под пашню сводить станем, он на стройку не гож. Там кустов больше. Из дерев кривьё одно да малорослик. Не набрать там на терем. Для стройки лес за болотом брать придётся.
– Так берите. В чём беда?
– А беда, Фёдор Степаныч, в том, что сие не так просто выйдет. Чтобы весной сруб ставить, брёвна уже нынче готовить приспело. Свалить ведь мало. Окоре?нить надо, по-особому сложить, чтобы к тёплым дням просохли, да, нет-нет, поворачивать. Словом, всю зиму пригляд за бревном надобен. А с болота их покуда не вывезти. Ежели б свалить да сюды сразу приволочь, всё б запросто. Да через топь гружёна лошадь не пройдёт, пока лёд добром встанет. А с нашим болотом сие токмо под крещенские морозы будет. Ибо вода там особа?, шибко гнилая. Потому даже в самый лютый холод дышит. Вот и выходит, чтобы весной тебе сруб поставить, кто-то должен нынче же за болото идти и там зимовать, лес готовячи. Без крова, без ествы даже. Как снег ляжет, по болоту не пройдёшь, а с собой сколь снеди взять можно? На зиму навряд ли хватит. Да зверьё, опять же. Ну как волки аль шатун нагрянет? Так что, ежели кто пойдёт, считай, бабка надвое сказала, вернётся ли. Может, да, а может, нет.
– А я что-то не пойму, Мефодий Митрофаныч… – спросил Клыков уже совсем другим тоном. Благодушие, что звучало в голосе с начала разговора, теперь сменилось холодным подозрением. – Вы на три поля перейти хотите али как? Кто мне сказывал, что без того не выжить, а? Или хотите, чтоб без тревог да волнений всё устроилось? Кто-то всё для вас чтоб сделал, а вы токмо на готовое пришли? Без труда, сам знаешь, и рыбку из пруда не вынешь. Так что ежели нужны вам три поля, придётся постараться.
Старшина печально улыбнулся.
– Постараться? Да мы, Фёдор Степанович, во всю жизнь токмо и делам, что старамся… Хлеб наш от пота солён, иначе не бывало никогда. И три поля нам нужны, чего уж там. Так что мы и стараться готовы, и нужду терпеть, и даже жизнь на кон поставить. Но токмо ежели все разом. Поровну на всех невзгоды разделить, так и нести их легче. Да токмо в заболотный лес всех разом не пошлёшь. Двоих и то не пошлёшь. Потому как, если на пашню лес валить, кажный тут нужон будет. Потому кто-то один идти должен. – Мефодий помолчал, глядя на гору опилок в углу и россыпь тонкой стружки, что кудрявилась вокруг ножек стола. – Ты пойми, Фёдор Степаныч. Вот выйду я нынче к общине и скажу, мол, айда, братцы всем миром за болото, лес валить. И все пойдут, не взропщут. И стужу терпеть будут, и гнилое варево жрать. А как скажу, мол, один за всех пойдёт и навряд вернётся – вот тут у каждого в душе и засвербит. Нешто он среди всех крайний? Про детишек тут же каждый вспомнит, про стариков немощных. Ежели он сгинет, кто их на заботу возьмёт? Поразмыслят так мужики, и никто добром не пойдёт. Все откажутся. А силком я никого посылать не стану. Не могу. А и мог бы, не послал – ежели пропадёт человек, таков грех на душе не сдюжу. Вот видишь, Фёдор Степаныч, как заплетается. Вроде просто всё, как со стороны глядишь. И три поля все хотят, и претерпеть за то готовы. А послать некого. Не пойдёт никто.
Во весь этот разговор Матвей молчал и смотрел на Серафиму, которая уже вернулась в бабий кут с краюхой хлеба. Усевшись на сундук, она разломила ржаную горбушку на три одинаковых куска и каждый слегка присыпала солью. Рядом с ней уже нетерпеливо топталась ребятня и, раздав им угощение, Серафима наконец глазами встретилась с мужем. Она всё поняла без слов, нахмурилась и отвернулась к ребятишкам, что сияя от счастья, торопливо жевали подсоленный хлеб. И как раз когда старый Мефодий сказал, что послать ему некого, Серафима вздрогнула, подняв на Матвея полные слёз глаза, тихо кивнула. Младший Лапшин слабо улыбнулся, кивнул в ответ и решительно объявил:
– Ладно, бать. Коли так, я пойду.
Глава седьмая
Когда белёвских дворян отпустили в новые поместья, Кудеяр покинул город первым. Пока государево войско гуляло в кабаке Корнея Семикопа, где новый целовальник всех угощал, бывший послужилец Тишенков уже с заводным конём мчался в сторону Бобрика. После полудня он свернул с большой дороги к Оке, пересел на свежую лошадь и в первых предрассветных сумерках въехал на Менялый хутор.
В этот раз Кудеяра никто не встречал. Оказавшись у ограды, он встал на стременах и с тревогой посмотрел в сторону сеновала – кони всё ещё были там. Все десять скакунов бродили по загону, и Тишенков облегчённо вздохнул.
Приободрившись, Кудеяр проехал к ближайшей избе. Крупный облезлый пёс выскочил из темноты и зарычал с угрозой, но, потянув носом воздух, дружелюбно завилял хвостом, лёг на пузо и подполз к Тишенкову. Тот оттолкнул собаку ногой и, не обращая внимания на её обиженный скулёж, прошёл в дом. В первой половине пятистенка густо висел чад курно?й печи, а запах свежего хлеба мешался с кислой вонью пота. Слева от двери, на больших нарах у очага вповалку лежали несколько мужчин, справа из-за холщовой завесы глухо доносился женский разговор и детский плач. Молча, ни с кем не здороваясь, Кудеяр прошёл в другую половину. Она была больше первой, но стоящий в центре огромный дубовый пень превратил её в маленькую тесную каморку. По краю необычного стола кольцом растянулись блюда с остатками еды, кружки и кувшины, а по центру в неровном дрожащем свете лучины лежали двухцветные кости для зерни. Сладко пахло вином и табачным дымом.
– О-о-о! Кара инде[40 - Кара инде – ты смотри.], кого к нам добрым ветром нанесло. – Свист с добродушной улыбкой раскинул руки, словно ждал, что гость кинется к нему в объятия. Главарь заповедников сидел напротив двери по другую сторону пня, а перед ним лежал взведённый арбалет, и стальной наконечник болта зловеще мерцал в кровавом отблеске лучины. Свист разрядил оружие и бросил короткий взгляд за спину Кудеяра. – Тыныч. Спокойно, свои.
Кудеяр обернулся. За его левым плечом у стены стоял Викай. Не глядя на Тишенкова, он на мордовском проворчал что-то злое и вернулся к столу, на ходу пряча маленький нож с широким кривым лезвием. Сидевший рядом со Свистом Вадим Печора тоже бросил на перемазанное жиром блюдо кинжал.
– Проходи, Кудеяр Георгиевич, гостем будешь. – пригласил Свист. – Сыграть не желаешь?
– Благодарствую. – Кудеяр присел на низкую чушку, что служила стулом, и жестом остановил Никифора, который собирался налить ему вина. – На серьёзный разговор приехал.
– Уф син. Нешто и правда, деньги привёз?
Тишенков нервно расстегнул верхний крючок кафтана, ослабил ворот. Немного подумав, взял стоявшую рядом кружку Печоры и залпом осушил её. Откашлявшись, наконец заговорил:
– Я нынче дворянином стал.
– О-о… Так ты поздравиться приехал? – иронично спросил Свист, но глаза его сузились, и в них на мгновенье мелькнула тревога.
– И не просто дворянин. – продолжил Кудеяр тем же тоном, будто не слышал насмешки над собой. – Десятник.
– И что же?
– А то, что, ежели захочу, я этот поганый хуторишко в порошок вот так сотру. – Кудеяр щёлкнул пальцами. – За мной отныне даже не князь белёвский стоит, а всё государево войско.
– Ну, что ты отныне важный человек, я понял. – Свист наконец перестал улыбаться и заговорил серьёзно. – Тока к чему ты клонишь?
– А ты прошлый разговор вспомни. Как барыш делили. Как ни крути, а придётся тебе, Свист, коней мне в долг доверить.
Свист опять криво усмехнулся, но былой весёлости в этой гримасе уже не было.
– Да ведь я и тогда не против был. Забыл нешто?
– По-о-омню… – зло протянул Тишенков. – Токмо доли ты тогда раздал не по совести. А уж нынче я раздавать буду. И пополам, как прежде предлагал, не жди. Отныне шесть десятин мне, четыре вам.
– Ха! Это с чего же так, Кудеярушка?
– А с того. Упрямиться станешь – я ваше дело так придушу, света божьего не увидишь. Брод, где ты через Оку ходишь, я знаю. А как десятник отныне буду сторожи водить в порубежье. Так что, ежели надобно станет, путь на перелаз тебе закрою.
– А хватит десятка-то? – усмехнулся Свист. – Степь, она ведь большая. Думаешь, споймаешь ветер в поле?
– Десятка не хватит, это уж само собой. – откровенно признался Тишенков. – Да токмо, ежели по-моему не выйдет, я про брод всё царёвым мытным людям выдам. А тогда уж не десяток вас стеречь станет. И не пройдёшь ты боле с конями за Оку. Не пройдёшь.
– Айтик. Ну, положим. Но какой тебе прок с того будет?
– А коли не мне, так и не тебе тоже. Вот каков прок. – злобно выпалил Кудеяр. – Так что выбирай, Свистушка. Либо, как я скажу, будет, либо всего лишу, без остатка.
Свист почесал затылок, поочерёдно посмотрел на всех подельников и с усмешкой мотнул головой:
– А може, коли так, нам тебя прям щас зарезать? И никаких бед после…
Тут же Викай, не поменявшись в лице, достал нож. Взяв рукоять обратным хватом, он упёр стальное острие в поверхность стола и посмотрел на Кудеяра холодным взглядом сторожевого пса, которого от смертельного броска отделяет лишь короткая команда хозяина.
– Зарезать, конечно, можно. – ответил Кудеяр, опасаясь, как бы дрожащий голос не выдал его страха. – Токмо коней куды девать будешь? Гляжу, все на месте. Что, не идёт без Кудеяра дело?
Свист нервно рассмеялся и коротким жестом остановил Викая. С самого начала разговора он прекрасно понимал, что в затеянной игре у Кудеяра есть только один козырь, но зато такой, который разом бил все остальные карты. Дружба с ногайцами, тайные степные тропки и даже перелаз через Оку – всё это теряет смысл, если заповедный товар, привезённый с таким трудом и риском, некому сбыть. А Кудеяр знал купцов из Перемышля, и, главное, в его руках княжеские клейма, без которых кони оставались заповедным товаром и стоили вдвое дешевле. А значит, Свист не мог обойтись без Тишенкова. Во всяком случае пока. А дальше, кто знает, может, уже завтра так сойдутся звёзды, что Кудеяр станет пятым колесом в телеге, и тогда Свист без угрызений совести отдаст его Викаю. А тот с радостью загонит Тишенкову нож под рёбра. Но пока придётся с ним считаться. В конце концов, даже при доле в четыре десятины барыш ватаги всё равно на круг выходил больше, чем в те времена, когда они имели дело с князем. Так что Свист ничего не терял. А затеяв ссору с Кудеяром, мог потерять всё.
– Ярау. Бес с тобой. Согласен.
Свист с улыбкой отодвинул лежащие перед ним кости зерни в общую кучу и смешал их все. Кудеяр рукавом кафтана отёр со лба холодный пот. Теперь уже притворяться было ни к чему. Он сделал рискованную ставку и сорвал на ней огромный куш. Вот что значит в этом мире власть, пусть даже столь небольшая, как власть поместного десятника. Благодаря ей он снова оказался на вершине мира.
Глава восьмая
Как кормленщик Андрей Петрович мог бы жить в Белёве – имел полное право. Горенский, став управителем ратных дел, обустроился в бывшем трапезном покое, а казённые приказы разместил в домах бывших послужильцев. Бобриков же сохранил за собой всю жилую часть терема и даже людскую пристройку. Однако, из слуг при нём остались только Филин и Захар Лукич, а вся белёвская челядь перешла в холопы государя. Поддерживать порядок в огромных хоромах оказалось некому, и очень быстро жить в пустых холодных комнатах стало невозможно. А в детинце на князя, что так и не стал здесь настоящим господином, и даже волостелил вполовину, все смотрели либо с неприязнью, либо открыто насмехаясь. Так что, как бы ни хотел Андрей Петрович остаться, а в первые дни ноября ему пришлось вернуться в Бобрик, который три месяца назад он покидал навсегда.
У развилки, где от большой дороги к слободе отходила стёжка к Ленивому броду, князь придержал коня и долго стоял у невидимой границы двух таких разных миров. В одном он был богатым и важным, так что временами даже сам себе казался всемогущ. В другом – обитал в бедном захолустье на рубеже Дикого поля и считал каждый медный грош. Позже, уже в тереме, где пахло мышами и сыростью, первым делом Андрей Петрович распорядился налить ему пива и весь вечер провел с кружкой в руках, слёзно рассуждая вслух о неправдах жизни и безжалостной судьбе. И весь следующий день князь прогонял любого, кто приходил к нему поговорить о деле, и впустил в покои только Филина, который принес новый кувшин хмельного зелья.
Из терема князь не выходил, ибо на Бобрик смотреть не мог: на тесный криво застроенный пятачок детинца; на скособоченную церковь с худым просевшим куполом из чёрной от времени дранки; на убогий грязный городишко, что вместе с посадом и слободой был вдвое меньше белёвского завырья. Прежде, с малых лет до отрочества, он просто не любил Бобрик, но вернувшись в него, возненавидел всей душой. И с каждым глотком вина, пива или браги ненависть в юной душе становилась только сильнее.
Жизнь Бобрика, меж тем, шла своим чередом. Скромное хозяйство вполне обходилось без вмешательства князя, хватало усилий Захара Лукича. Так что Андрей Петрович мог спокойно заливать несчастье вином и упиваться жалостью к себе. Он равнодушно встретил даже новость о том, что в окрестностях заметили крымские разъезды. В середине ноября окрепшие морозы сковали грязь, и степь стала проходимой. То и дело десяток лёгких всадников приближался к Ленивому броду. Не таясь, они проезжали вдоль реки, а иные смельчаки входили в воду до середины русла. Правда, едва заметив караул послужильцев, незваные гости тут же срывались в галоп и уходили в степи.
Сидор Тонкой взял подготовку к обороне в свои руки. Приказал вдвое чаще менять дозоры на колокольной башне, а всем ратным – безотлучно держаться у брода. Кроме того, общим советом решили добавить новых укреплений. На чужом берегу спешно врыли ещё десяток надолбов, на своей стороне поставили четвёртый ряд рогаток, а выход из воды засеяли чесноками[41 - Чеснок – кованый или гнутый четырехконечный шип; рассыпанные по земле чесноки калечили ноги лошадей.].
Однако всё оказалось зря. На исходе первой ноябрьской недели в Бобрик нежданно приехал Козлов – доверенный человек князя Воротынского. Едва узнав о госте, Андрей Петрович тут же воспрял духом. Ведь это значило, что истинный хозяин верхнего Поочья помнил о нём, а может, и нуждался в помощи. Неспроста же Михаил Иванович послал сюда, на край света, за сто с лишним вёрст от Воротынска, ближнего слугу для особо важных поручений. Можно сказать, свою правую руку в тайных делах.
Андрей Петрович поспешил навстречу важному гостю. Козлов ждал его на лобном месте. В долгополой шубе из расшитой парчи с бобровой оторочкой он бесцельно ходил вдоль телеги, накрытой провощённым холстом. Яловые сапоги с голенищем в гармошку под каждый шаг жалобно скрипели проложенной в подошве берестой.
Бобриков быстро сбежал с крыльца и, запнувшись, едва не упал с последней ступеньки.
– Здравствуй, Андрей Петрович. – Козлов встретил его без поклона и прочих почестей, непременных для холопа, который оказался перед князем.
Это не укрылось от Тонкого и караула из трёх бобринцев, которые нахмурились, а Сидор даже недовольно качнул головой. Но всё внимание князя приковало к себе письмо с печатью Воротынского, которое Козлов держал в руках. Схватив протянутый сверток, Бобриков сломал сургучный кругляш, торопливо открыл послание и жадно побежал глазами по тексту. Всего в трёх коротких строчках Михаил Иванович сообщал, что Козлов приехал не просто так, а с важным делом. Каким именно – бумаге не доверишь. Слуга всё передаст на словах, а Бобриков должен верить Козлову, как самому Воротынскому.
– Что за дело? – нетерпеливо спросил Андрей Петрович.
– Это после. – сдержанно ответил Козлов, взглядом давая понять, что вокруг слишком много посторонних. – Пока вот. Прими, Андрей Петрович, ещё подарочек от князя.
Тележный возница откинул край полога. В повозке на промасленной подстилке лежала гако?вница[42 - Гако?вница – крепостное и полевое дульнозарядное ружьё XV—XVI веков с крюком («гаком») под стволом, которым зацеплялись за крепостную стену с целью уменьшения отдачи при выстреле из неё.] длиной в два аршина. Три стальных полукольца крепили к ложу из широкого бруска короткий толстый ствол, слегка расширенный к концу. Рядом с орудием стояло два маленьких бочонка с порохом и дощатый ящик без крышки, доверху наполненный мелкой дробью и пулями размером с крупный грецкий орех.
Андрей Петрович скользнул по гаковнице равнодушным взглядом и, тут же потеряв к ней интерес, скомандовал караульным послужильцам:
– Эй, ты! Скажи, чтоб живо гостю баню готовили. А ты людей возьми на заботу. Пущай накормят, ну и прочее там… И ты не стой столбом. О конях подумай. А ты, Сидор Михалыч, вели стол накрывать. Трапезничать нынче станем.
Отдав распоряжения, Андрей Петрович повернулся к Козлову и посмотрел на него с затаённой надеждой. Слуга Воротынского усмехнулся. Суетливая поспешность юного князя не добавляла ему уважения в глазах холопа, господин которого всегда вёл себя степенно и чинно. Козлов жестом предложил прогуляться и, не дожидаясь ответа, пошёл по лобному месту. Андрей Петрович догнал его через несколько шагов. Оба молчали. Под ногами ломался тонкий лёд грязных лужиц и его тихий хруст отдавался в густом морозном воздухе.
– Что ж. Нынче из Крыма добрые вести пришли. – наконец заговорил Козлов, перед этим дважды оглянувшись по сторонам. – Михаил Иванович, едва про дворян в белёвской земле узнал, сразу же к Давлет-Гирею гонца отправил. Долго, правда, судили-рядили, как да чего, но всё ж договорились. В Бахчисарае тоже понимают, чем для них обернётся, ежели Москва в порубежье нашем укрепится. Не хотят, чтобы Дико поле заселялось. И нам того не надобно. Потому договорились с ханом. Так что скоро великий князь из степи подарочек получит.
– Какой?
– Набег большой в порубежье придёт. Пришлёт хан пару тысяч нукеров. Да к ним всякой шелупони степной добавится. Одним словом, большая сила соберётся. А великому князю не до нас. Ему на Балтике забот не счесть. Литовцы Полоцк отбить норовят. Ляхи, свея. Со всех сторон напирают. Так что на Оке совсем мало сил останется.
Козлов остановился в самом центре лобного места. Андрей Петрович не сводил с него пристального взгляда.
– Так чего ж в таких вестях доброго? – озадаченно спросил Бобриков.
– Михаил Иванович нынче большим воеводой в порубежье будет. На левом берегу полки так встанут, чтобы крымца дальше Жиздры не пустить.
Андрей Петрович задумался.
– Но ведь так выйдет, мы без защиты остаёмся?
– Вот-вот, вовсе без защиты. Бобрик твой и Белёв. Разумеешь?
– Нет покуда.
– Надобно тебе, Андрей Петрович, как степняк придёт, пропустить его без боя. Через Бобрик у него один путь – Ленивый брод. А ежели пройдёт, так до самого Белёва чисто. Грабь, жги. Тебя сыроядцы не тронут, про то разговор с ханом был. И дальше Жиздры, к Перемышлю не пойдут. Туда их Михаил Иванович с государевым полком не пустит. А вот Белёв разорят в пепел. А с ним и дворян всех. Под чистую. А в таком разе и нам Москва неопасной станет. Не то, что нынче.
– А нынче что ж? – Андрей Петрович удивлённо вскинул брови и по выражению его лица Козлов понял, что юный князь и правда озадачен. – Неужто дворяне сии так страшны? Их же всего-то сотня, да и та неполная.
Козлов покачал головой.
– Ну, знаешь, Андрей Петрович. На первой, не полна сотня – это ведь токмо помещики. А уж нынче в Белёв по приказам казённым ещё служилых нагнали. Стрельцы, пушкари да другие всякие. Почитай, ещё боле сотни наберётся. А это две уже. У тебя вот послужильцев сколько? С белёвскими сорок. У иных князей верховских и того не наберётся. По два-три десятка держат, потому как больше – разорительно. Поди, попробуй, прокорми этих рубак, да всё нужное им дай. Коней, доспехи… Да что я тебе, сам, небось, ведаешь, каково это – ратных людей держать.
– Да уж ведаю. – печально признался Бобриков.
– Вот то-то. А коли так выходит, во всём верховском порубежье у царя самый сильный кулак собрался. Две сотни вояк. Да каких. Испытанных. А у князей по горсточке. У тех, кто побогаче, – пять-шесть десятков. А уж боле сотни кто собрать может, таких во! – Козлов поднёс к лицу Бобрикова ладонь и растопырил пальцы. – Одной руки хватит сосчитать. Вот и выходит, что нынче самый сильный средь верховских вотчинников – великий князь Московский. А не годится этак. Нет, не годится. Потому Михаил Иванович и выбил тебе Белёв в кормление. Чтобы государевых людей в порубежье не было. Через то и Дико поле царь заселять не стал бы. Не смог попросту. Да вишь, каку хитрость царь выдумал… Всё одно дворян нагнал. Потому и надобно извести нынче их. Инше быть беде в порубежье верховском. Теперь понял?
Бобриков зажмурился и потряс головой.
– Кругом всё плывёт… – признался он. – Вроде понимаю, да поверить не могу, что такое слышу. А главное, что сам к столь большим делам причастен.
Козлов рассмеялся, и Андрей Петрович обиженно насупился.
– Ништо, Андрей Петрович. – холоп начальственно похлопал князя по плечу, но Бобриков возмущаться не стал. – Привыкай. Отныне ты среди больших князей. А большим людям – большие дела. Так что привыкай.
– Да уж… – только и нашёлся Бобриков, на что Козлов опять добродушно рассмеялся, но тут же стал серьёзен.
– Ну так Михаил Иванович ответ твой ждёт. Что передать ему? Заодно ли с ним князь Бобриков? Али с Москвой вместе против верховской родни пойдёт?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/petr-viktorovich-dubenko/porubezhniki-daleko-ot-moskvy-70008445/?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Детинец – центральная и наиболее укреплённая часть города, внутренняя цитадель; поса?д – часть города за пределами детинца, с крепостной стеной или без неё; слобода – отдельное поселение около города, население которого временно освобождалось от местных повинностей.
2
Огнищный тиун – старший управляющий княжеским хозяйством.
3
Волконея – (стар. от искаженного иностранного «фальконет») мелкокалиберная, короткая пищаль.
4
Гридница – большое помещение для рядовых дружинников (гридей) в княжеском дворце
5
Тараса – часть крепостной стены в виде прямоугольного сруба, засыпанная землёй и камнем.
6
Гульбище – терраса или галерея, является характерным элементом русской деревянной архитектуры.
7
Повалу?ша – башня в комплексе жилых хором.
8
Закромщик – амбарный, хлебный смотритель, ключник.
9
Летник – старинная верхняя женская одежда, длинная, сильно расширяющаяся книзу. Застёгивалась до горла.
10
Вырец – некое подобие клумбы.
11
Бабий кут – угол (кут) избы, примыкавший к челу русской печи, где производили женские работы: готовили пищу, пряли, ткали, шили и т. д. Отделялся от горницы занавеской, иногда дощатой загородкой в виде неглубокого шкафа для кухонной посуды.
12
Перекрыша – верхняя стенка печи, где устраивают лежанку
13
Полавочник – полка над лавками, непрерывно огибающая стены в избе.
14
Колотовник – драчун.
15
Рассоха – двузубые вилы из раздвоенной ветки дерева.
16
Правёж – суд, разбирательство.
17
Старорусские меры объема сыпучих тел: полокова ? 419,84 л (7 пудов ржи = 114,66 кг); осьмина ? 104,95 л; гарнец ? 3,276 л.
18
Заводные – запасные лошади, предназначенные для замены усталых и больных, для немедленного пополнения убыли и для припряжки в труднопроходимых местах.
19
Со?гра – угнетенный лес на заболоченной кочковатой местности в поймах рек или на плоских водоразделах.
20
Заповедные дела – контрабанда.
21
Зернь – азартная игра
22
Полушка – мелкая медная монета в четверть копейки, самая мелкая неделимая денежная единица в Древней Руси
23
Деньги в рост – кредит, лихва – проценты.
24
Буслай – бешенный, яростный человек.
25
Большой государев наряд – особый артиллерийский полк, который состоял из крупнокалиберных пушек и полевых орудий, и содержался за счёт государственной казны.
26
Леваши – постное русское лакомство: толчёные ягоды, высушенные в натопленной печи в виде лепешек.
27
Клуня – хозяйственная постройка для молотьбы и хранения хлеба.
28
Куль – старорусская мера объёма сыпучих тел. 1 куль: ржи – 9 пудов + 10 фунтов ? 151,52 кг; овса – 6 пудов + 5 фунтов ? 100,33 кг.
29
Закуп – человек, попавший в долговую кабалу и обязанный своей работой вернуть полученную «купу».
30
Фибула – металлическая застёжка в виде булавки с «замком», одновременно служила украшением.
31
Волостель – в средневековой Руси должностное лицо, управлявшее определённой территорией от имени царя.
32
Сакма? (вероятно от тюрк. sok ?бить’) – след, оставленный конницей.
33
Тягиляй – защитный доспех конника: длинный кафтан с воротником-козырем, между подкладкой и верхом прокладывали слой пакли с вложенными в него металлическими пластинами. Тегиляи стоили дешевле кольчуг, но не признавались полноценным доспехом, являясь защитным снаряжением второго сорта.
34
Шапка бумажная – защитный головной убор, тип шлема. Это были стёганные шапки на пуху, из сукна, шёлковых или бумажных (хлопок) материй, с толстой хлопчатобумажной или пеньковой подкладкой.
35
Обветшаться – стать ветшанином, то есть уйти в отставку.
36
Чумичка – деревянный или берестяной половник.
37
Забаутник – балагур, рассказчик.
38
Булгачить – скандалить, производить переполох, беспокоить, будоражить
39
Шугай или шуга?ец – старинная русская женская одежда, род короткопо?лой кофты с рукавами.
40
Кара инде – ты смотри.
41
Чеснок – кованый или гнутый четырехконечный шип; рассыпанные по земле чесноки калечили ноги лошадей.
42
Гако?вница – крепостное и полевое дульнозарядное ружьё XV—XVI веков с крюком («гаком») под стволом, которым зацеплялись за крепостную стену с целью уменьшения отдачи при выстреле из неё.
Петр Викторович Дубенко
16 век – для Руси тревожное грозное время. На глазах рушатся старые устои и через кровь, мучения, борьбу рождаются новые. А на рубежах молодое государство терзают внешние враги. В этой обстановке далеко от Москвы, в верховьях Оки живут простые люди: любят, растят детей, мечтают. Но совсем скоро перед ними встанет непростой выбор. И сделать его придётся каждому.
Петр Дубенко
Порубежники. Далеко от Москвы
КНИГА ПЕРВАЯ
Перевяжите вену – вы вызовете болезнь. Перегородите реку – поднимется наводнение. Преградите будущее – начнутся революции.
Виктор Гюго
Часть первая
Глава первая
Все восемнадцать лет жизни князь Андрей Петрович Бобриков свято верил, что однажды злодейка-судьба непременно воздаст ему за страдания, а потому терпеливо ждал этого дня и однажды, дождался.
Причин считать свою долю незавидной он имел предостаточно. Отец его, Пётр Иванович, происходил из рода знатного, но обмельчавшего настолько, что Бобриковы владели самой маленькой вотчиной среди всех верховски?х княжеств – земель по обе стороны Оки в её верхнем течении. Столицей служил небольшой городишко: слободка из дюжины дворов, посад на три десятка домов и тесный детинец с обычным пятистенком вместо терема князя[1 - Детинец – центральная и наиболее укреплённая часть города, внутренняя цитадель; поса?д – часть города за пределами детинца, с крепостной стеной или без неё; слобода – отдельное поселение около города, население которого временно освобождалось от местных повинностей.]. Всё это сгрудилось на вершине каменистого холма с высоким обрывистом склоном. У его подножия в Оку падал мелководный Бобрик. В одном месте он сильно раздавался вширь, из-за чего вода становилась почти неподвижной, и над её поверхностью выступали верхушки камней. Прыгая по ним, можно было пересечь реку не замочив ног, поэтому брод назывался Ленивым. А за ним уже начиналось то самое Дикое поле – первобытный мир, что испокон веку манил русских людей безграничной волей и пугал волчьей лютостью царивших там законов.
Оттуда каждый год приходила беда. То налетят стремительным вихрем черкесы, то огненным смерчем пройдут ногайцы, то прокатится крымская орда, а то нагрянет за поживой шайка степных бродяг без роду и племени. С кем-то из них и рубился Пётр Иванович на Ленивом броде поздней осенью 1545 года, пока слуги и повитуха суетились у постели молодой княгини, что готовилась разрешиться первенцем. За ночь защитники отбили четыре приступа, и на рассвете незваные гости собрались уходить, но перед этим в порыве бессильной злобы обрушили на переправу ливень стрел. И одна из них угодила князю в шею чуть выше ключицы, задев яремную вену. За пару мгновений Пётр Иванович потерял столько крови, что уже не мог стоять на ногах. Его принесли в терем, уложили на кровать. Сутки семейный священник не отходил от образов, а знахарь смазывал страшную рану вонючим зельем и поил князя секретным отваром. Но всё оказалось тщетно, и когда старая холопка прибежала из женской части хором с радостной вестью, в опочивальне князя её встретили скорбным молчанием.
Так, едва появившись на свет, Андрей Петрович остался без отца. А вскоре потерял и мать. Ирина Ивановна была дочерью князя Ивана Васильевича Белёвского. Господь подарил ему ещё четырёх сыновей, но до зрелых лет дожил лишь один. И как единственный наследник Иван Иванович всегда видел в сестре обузу – хочешь, не хочешь, а закон обязывал выделить ей на жизнь кусок общих семейных владений. А отдавать не хотелось. Не для того предки пядь за пядью собирали эти земли, чтобы теперь вот так разбазаривать их, отдавая всяким проходимцам только за то, что они женились на засидевшейся в девках дуре. Поэтому, когда сразу после смерти отца подвернулся случай отдать Ирину за небогатого и захиревшего князька, Иван Иванович даже не раздумывал – ведь Пётр Иванович Бобриков так стремился породниться с богатым знатным семейством, что согласился взять сестру Белёвского князя почти без приданого.
В гибели Петра Ивановича белёвский князь увидел возможность полностью прибрать к рукам владения южного соседа. Ведь Иван Иванович как ближайший родственник мог стать опекуном новорожденного княжича и до его взрослых лет распоряжаться Бобриком как душе угодно. Правда, по всем порядкам, законам и обычаям опекать Андрея должна была мать. Но после семейного совета, что проходил за плотно закрытой дверью, Ирина Ивановна нежданно объявила, что уходит от постылой мирской жизни в монастырь, а двухмесячного сына доверяет заботам старшего брата.
О том, как именно белёвский князь заставил сестру сделать это, ходили самые разные слухи, один несусветней другого. Спросить бы у самой Ирины Ивановны, да спустя четыре года после пострига она скончалась в Оптиной пустоши, о чём Андрей узнал только в 11 лет.
Первым делом попечитель избавился от огнищного тиуна[2 - Огнищный тиун – старший управляющий княжеским хозяйством.], который верой-правдой служил не только Петру Ивановичу, но помнил ещё его деда. Сначала Иван Иванович отстранил его на время, а потом вовсе дал путь чист: в таком городишке свой управляющий ни к чему, со столь малым хозяйством справятся его люди, которые будут приезжать раз в месяц. Остальная дворня, устрашённая печальной судьбой старого тиуна, перечить уже не посмела.
Иван Иванович сразу же взялся за дело, и от его неустанных хлопот княжество, без того не шибко цветущее, с каждым годом скудело всё больше. Через пять лет в казне уже не осталось даже полушки, а по амбарам насквозь гулял ветер. И чтобы малолетний Бобриков не голодал и худо-бедно мог содержать десяток воинских людей, белёвский князь от имени племянника каждый год брал взаймы у самого себя немаленькую сумму, половина которой даже не приходила в Бобрик, под множеством благовидных предлогов оставаясь в Белёве. Долги росли как снежный ком, и поскольку отдавать их было не чем, Иван Иванович начал в счёт уплаты отрезать куски от опекаемых земель.
Благодаря такой заботе за двенадцать лет владения Бобриковых уменьшились настолько, что теперь их из конца в конец за один день пешком прошёл бы и хромой калека. Поначалу всё это не печалило малолетнего князя. Отроком он уже начал понимать, что происходит, но по закону слова в делах ещё не имел. А к тому времени, когда достиг, наконец, взрослых лет и вознамерился взять всё в свои руки, долг перед дядей вырос до таких чудовищных размеров, что стоило Белёвскому потребовать уплаты хотя бы десятой его части, и юный князь Бобриков пошел бы по миру с сумой. Так что, даже став совершеннолетним, Андрей Петрович продолжал терпеть опеку дяди.
Пользуясь этим, Иван Иванович гнул свою линию и через пару лет предложил племяннику вовсе отказаться от владений.
– Сам посуди, на что тебе сия маета? – мягким вкрадчивым голосом объяснял он. – Поднять хозяйство не под силу, только пуп надрываешь зря. А мне земли уступишь, и заботам конец. Я тебя из Бобрика гнать не буду, разрешу остаться, по-свойски. Ну, племянник всё же.
Возмущенный Андрей, не ответив, вышел вон и даже хлопнул дверью. Но потом, остыв, в сотый раз пересчитал гроши в казне и понял, что ему, урождённому князю, потомку Рюрика, придётся стать безземельной голытьбой и жить на подачки богатой родни.
Так бы и случилось в самой скорости, однако 17 января 1558 года войско великого князя московского вторглось в Ливонские переделы. И пусть от Бобрика их отделяла тысяча вёрст, именно это событие самым решительным образом изменило судьбу юного князя.
Началась война удачно. «Братство рыцарей Христа Ливонии», что зиждилось на древних орденских началах и воевало по старинке, не смогло дать достойный отпор. Русские полки, у которых уже имелись волконеи[3 - Волконея – (стар. от искаженного иностранного «фальконет») мелкокалиберная, короткая пищаль.], пищали и даже большие осадные пушки, легко разбивали рыцарей в поле и брали крепость за крепостью. Очень быстро стало ясно: орден доживает последние дни. И это вдохновило всех его соседей. Они тоже хотели получить кусочек от ливонского наследства. А потому, одной рукой помогая уже обречённым рыцарям сопротивляться русским варварам в восточных землях ордена, другой они торопливо рвали его западную часть. Пока московские воеводы осаждали и штурмом брали города, ландсмейстер Кетлер добровольно уступил шведам Ревель, за тридцать тысяч таллеров продал датчанам остров Эзель, после чего признал себя вассалом Сигизмунда – короля Польши и великого князя Литовского в одном лице.
Так стало ясно, что в скором времени Москва неизбежно схватится с Литвой. И тут, конечно, вспомнили, что всего сто лет назад многие верховские князья служили Вильно, даже воевали против русского царя. И далеко не все ушли под руку Москвы добровольно, многих пришлось покорять огнём и мечом, так что кое-кто до сих пор грезил обратным переходом. И если в мирную пору даже Иван Васильевич, неспроста названный Грозным, часто смотрел сквозь пальцы на выходки верховских князей, то на пороге войны любая оплошность могла стать для них роковой.
Никто не знал в точности, что именно послужило поводом для опалы белёвского князя. Одни верили, что Иван Иванович пострадал без вины, ибо слугу более верного царь вряд ли сыскал бы во всём порубежье. Другие говорили, что он и прежде позволял себе многое, и его верёвочка вилась слишком долго. Как бы то ни было, но в один из летних дней белёвского князя схватили, заковали в кандалы и отправили на Вологодчину, в Белозёрский монастырь.
Там Иван Иванович и скончался 24 августа 1563 года. А поскольку детей завести он не успел, и братьев у него не осталось, то единственным наследником становился сын сестры. Вот так, нежданно-негаданно, восемнадцатилетний Андрей Петрович Бобриков из горемычного сироты и обиженца, стал вдруг владельцем Белёвского княжества – одного из самых больших и богатых во всём верхнем Поочье.
На девятый день после смерти дяди Андрей Петрович собрался в Белёв, чтобы устроить там достойные сороковины, а после вступить в законное наследство. Ранним утром, едва розовый свет зари разлился над детинцем, юный князь вышел из терема, готовый к дальней дороге. Старая отцовская шуба на щуплом мальчишке висела мешком, так что по?лы стелились по земле. На выходной шапке в соболиный околыш, изрядно потраченный молью, вклинились куски заячьих шкурок. Крупная серебряная пряха с семейным гербом украшала простой тканевый пояс. Сапоги сверкали до блеска начищенной яловой кожей, но каблуки без подков сточились чуть не до подошвы.
У крыльца ожидала свита: два послужильца, двое огнищан и один домашний слуга. Андрей Петрович, конечно, хотел взять людей побольше. Хорошо бы десятка три, но в конюшне нашлось всего шесть лошадей, а въезжать в Белёв с караваном подвод князю не пристало.
К неудовольствию семейного попа Андрей Петрович даже не дослушал его молитву, легко впрыгнул в седло и, не оглянувшись на отчий дом, ткнул пятками в конские бока. За ним тронулся весь небольшой отряд. Сначала они шагом пересекли лобное место. Застеленный досками пятачок справа упирался в длинный барак гридницы[4 - Гридница – большое помещение для рядовых дружинников (гридей) в княжеском дворце], гнилые брёвна которой почернели от старости и заросли цветущим мхом. Слева от площади плотной цепью тянулись конюшня, сенники, склады и амбары, половина которых пустовала, а потому прорехи в их соломенных крышах последние лет десять даже не латали.
За церквушкой с единственным деревянным куполом и покосившимся крестом всадники пустили коней в лёгкую рысь. Миновали дубовые ворота, по обе стороны которых над невысоким частоколом торчали маленькие стрельни, и оказались на мосту через ров шириной в три сажени. За ним начинался посад, втиснутый меж Бобриком и его старым руслом, которое теперь превратилось в заросший заболоченный овраг с крутым обрывистым краем. С обеих сторон единственной улицы, прямой, как стрела, лепились друг к другу тесные дворы: низкие щелястые заборы из горбылей; срубы с кровлей из старой соломы; сараи и плетеные пуни. В их беспорядочную гущу уползали узкие проходы, где не разойтись было и двум встречным.
Внешней границей посада тоже служил ров длиной шагов триста, соединявший речной овраг с балкой. Дальше начиналась слобода – около сотни отдельных дворов раскидало вдоль тёмно-жёлтой ленты дороги, которая у края поселения разделялась надвое: одна часть уходила на север – к Белёву, другая на юг – к Ленивому броду. У развилки Андрей Петрович остановил коня и обернулся. И пусть Бобрик ещё скрывала полутьма незрелого рассвета, юный князь легко узнал в смутных размазанных очертаниях знакомый город. Узнал и злорадно улыбнулся. Сегодня он покидал это проклятое место, в котором безвыездно провёл восемнадцать лет, полных унижений, душевной боли и потаённых слёз. Покидал, твёрдо уверенный в том, что больше сюда никогда не вернётся.
Глава вторая
За двадцать вёрст Андрей Петрович не сделал ни одного привала и перестал хлестать коня, лишь когда разглядел на горизонте Белёв, над которым высоко в небе парил огромный янтарный шар – это сверкал позолотой купол Успенского собора. Тёплый ласковый свет разливался над городом и посадом, отражался в голубых лентах рек и казался юному князю торжественным, благодатным знаменьем, возвещавшим о начале новой жизни. Счастливой, радостной и полной великих свершений.
Правда, когда Андрей Петрович въехал в Завырскую слободу, на мгновение ему показалось, что он просто дал большой круг и вернулся обратно в Бобрик. Повсюду встречались ему заросшие дёрном землянки и неказистые избушки, от которых за версту разило гнилой репой и прелым зерном – знакомый с детства запах нищеты. Но вскоре князь увидел детинец, с севера и юга стиснутый меж Белёвкой и Выркой. Две мелководные речушки за версту друг от друга падали в Оку, что подпирала городскую цитадель с востока. По берегам вдоль крутого обрыва тянулись дубовые тара?сы[5 - Тараса – часть крепостной стены в виде прямоугольного сруба, засыпанная землёй и камнем.] в два человеческих роста, а над ними ещё на сажень поднимались вышки стрелен с щелями бойниц.
Дорога, пройдя сквозь слободу, вывела к широкому мосту, на другом конце которого высилась трёхэтажная громада проезжей башни – брёвен, что ушли только на её постройку, вполне хватило бы на два ряда частокола вокруг всего Бобрика. Проехав через захаб – узкий коридор длиной шагов двадцать, который кончался подъемной решёткой из толстых прутьев – Андрей Петрович попал в детинец. Его неровный прямоугольник от Козельской проезжей башни до Болховской наискось рассекала широкая лента единственной улицы. С правой её стороны стояли дома местных огнищан – крытые осиновой дранкой многостенные срубы на каменных подклетах. Слева в три ровных, словно по линейке расчерченных ряда, тянулись бараки амбаров, складов и житниц, а также конюшня с повозником и сеновалом.
В центре кремля улица растекалась в большое бесформенное пятно лобного места, сплошь замощённого булыгой. Во главе площади, на самом высоком месте тянулся к небу главный городской собор: белокаменные стены украшал узор затейливой лепнины; глубоко утопленные стрельчатые окна сверкали разноцветным стеклом; над ломаной многоугольной крышей высоко взмывала звонница, которую венчал золотой купол с большим восьмиконечным крестом. При виде такой красоты Андрей Петрович восхищенно присвистнул, но когда увидел терем, то даже не заметил, как широко разинул рот в беззвучном возгласе восторга. Это были двухэтажные хоромы из брёвен в обхват толщиной с просторным высоким крыльцом под навесом на резных столбах и широкой лестницей в два пролёта; с прирубом для домашних слуг на одном торце и огромной поварней на другом; с широким крытым гульбищем[6 - Гульбище – терраса или галерея, является характерным элементом русской деревянной архитектуры.], где и сотне человек не стало бы тесно; с тёсаной крышей, над которой торчали кирпичная труба и луковки двух повалуш[7 - Повалу?ша – башня в комплексе жилых хором.].
Но ещё больше потрясло князя то, что он увидел внутри. В главной горнице – она одна оказалась раза в два больше княжеских хором в Бобрике – пол сплошь покрывали домотканые ковры разных цветов и размеров. На трёх стенах висели медвежьи и бычьи шкуры, а заднюю, глухую, почти полностью занимала кирпичная печь в расписанных изразцах. Стол, за которым могло свободно разместиться два десятка человек, заполнила серебряная утварь, в центре стоял шестиголовый бронзовый подсвечник, а над ним с потолочной матки нависала большая лампада. В красном углу начищенной позолотой сверкал подвесной трёхстворчатый киот с пятью иконами в лакированном окладе.
От одной только мысли, что всё это богатство, красота и роскошь теперь принадлежат ему, у юного князя кружилась голова и путались мысли. С малых лет влача жалкое существование в убогом нищем мирке, Андрей Петрович, догадывался, конечно, что где-то есть другая жизнь – чудесная, безбедная, полная земных радостей. Бурная детская фантазия часто рисовала её, эту другую жизнь, но даже в самых смелых мечтах маленький Андрейка не видел и десятой части того, с чем столкнулся в Белёве. И уж тем паче неимущий бесправный княжич сроду не смел подумать, что когда-нибудь войдёт в этот прекрасный мир как его полноправный хозяин.
Первым делом Андрей Петрович распорядился собрать всех белёвских огнищан. Вскоре перед ним стояли два десятка человек, и каждый в руках держал огромные писчие книги или стопки тетрадок. Князь медленно прошёлся вдоль строя, просто скользя взглядом по испуганным растерянным лицам, но у края шеренги задержался, внимательно посмотрел на невысокого мужчину с большим округлым животом и узкими плечами. Это был старший тиун Белёва. По нескольку раз в год без малого десять лет он приезжал в Бобрик и вёл себя там по-хозяйски нагло, распоряжался в чужой вотчине как законный её владелец. Теперь же в покорной рабской позе замер перед юным князем и по-собачьи заглядывал в глаза господину, стараясь угадать его мысли. Андрею Петровичу это польстило, и он властно потребовал с довольной усмешкой:
– Сесть найди.
Тиун с готовностью пробежал к изголовью стола, выдвинул большое массивное кресло, поднял его, покраснев от натуги, и засеменил обратно. Андрей Петрович дождался, пока тиун поставил кресло рядом с ним, а потом отошёл на несколько шагов и ткнул пальцем в пол:
– Сюда.
Плюхнувшись на мягкое сиденье, Андрей Петрович откинулся назад и широко, по-хозяйски расставил ноги.
– Ну вот что. Как тебя? – Не дождавшись ответа, князь небрежно махнул рукой и продолжил. – Мне на тиунском месте верный человек надобен. Дабы я ему как себе верил. Сам понимаешь, сие не ты. Отныне из моих людей тиун будет.
Андрей Петрович повернулся к бобринцам, которые стояли чуть в стороне, и коротким жестом подозвал одного из них. Невысокий сухой человек вздрогнул и растерянно огляделся, словно не верил, что князь обратился к нему. Ростом и сложеньем он больше походил на мальчика-подростка, но морщинистое лицо, почти лысая голова с остатками редких волос и длинная седая борода выдавали его немалый возраст.
– Вот Захар Лукич Бобышев. Люби и жалуй.
В Бобрике все знали, как Андрей Петрович привязан к старому холопу. Ведь с малых лет князя Захар Лукич Бобышев был при нём сразу нянькой, учителем, матерью и отцом. В иные особо трудные зимы, когда в житницах Бобрика становилось хоть шаром покати, только заботы Захара Лукича, его добычливость и сметка спасали маленького князя от голодной смерти. Потому решение Андрея Петровича не удивило никого из бобринцев. Кроме Захара Лукича. Тот не на шутку испугался и на какой-то миг даже потерял дар речи, а когда он к нему вернулся, Андрей Петрович не позволил возразить.
– Время даром не теряй, Захар Лукич. Сразу за дело берись! – князь говорил деловито, с уверенным напором, но на гласных голос ломался, выдавая волнение. – Сыщи мне всех недоимщиков. Хоть бы кто и полушку должен, всё одно – в роспись их. Разумеешь? А коли так, не медли. Тем паче посошные книги все тут.
Андрей Петрович широким движением руки обвёл неровный строй белёвцев, а потом указал на стол.
– Сносите. А ты, Захар Лукич, нынче же проведай, кто из них кто есть, и каждому замену подбери. Из наших, бобринских. – По толпе приказчиков пробежал сдержанный ропот. Андрей Петрович сурово сдвинул брови и повысил голос. – А как хотели? Мне огнищанам доверять надобно. А вы меня сколько лет обирали? Так что нынче не взыщите. Ну, чего остолбенели? Сноси книги, сказано.
Первым подчинился теперь уже бывший тиун. Он подошёл к столу и молча положил на него большую печать с золотой цепочкой. Это стало сигналом для остальных, и они друг за другом вереницей потянулись через горницу.
– А ты, Захар Лукич. – Андрей Петрович повернулся к новому тиуну. – Всё проверь и каждого, кто хоть полушку задолжал, в особый список. Отдашь его Ваське Филину. А ты время не теряй, недоимщиков сразу в оборот и хоть душу вытряси, но пусть всё выложат. Понял?
Не получив ответа, князь посмотрел на горстку своих людей. Взгляд его остановился на невысоком кряжистом бобринце, который нарочито стоял в стороне ото всех, даже от земляков. На левом боку у него висела дорогая сабля, на правом – длинный турецкий кинжал, но при этом кафтан из дорогой малиновой ткани едва сходился на животе, что небольшой складкой свисал над кожаным ремнём. Розовощёкое лицо с полными губами и прямым точёным носом могло бы считаться красивым, но всё портил уродливый обрубок, торчащий вместо левого уха. Плечом привалившись к бревенчатой стене, Васька Филин с мечтательной улыбкой следил за сенной девкой, что суетилась у стола, выставляя блюда с угощением и большой серебряный кувшин.
– Слышишь, что ли, Васька?!
Филин вздрогнул, растерянно огляделся и безотчётно тронул пальцами остатки уха. Он лишился его три года назад. Тогда известный на весь Бобрик потаскун подкараулил в подклете юную холопку с княжеской поварни, но та не далась добром, а когда Филин попытался взять её силой, зубами вцепилась ему в ухо и не отпустила, пока на Васькин вой не сбежалась вся домашняя челядь. Это случай стал единственным, когда Филин получил отпор и не смог добиться своего. Правда, спустя две недели девушка вдруг бесследно исчезла, а потом её случайно нашли в Оке, сильно посечённую кнутом, с ожогами по всему телу и без левого уха.
– Да, Андрей Петрович, чего?
– Чего-о-о… – раздражённо передразнил князь. – Говорю, возьмёшь у Захар Лукича список недоимщиков, и чтоб всё, до полушки.
– Понял, ага. – кивнул Филин и расплылся в довольной улыбке.
– Вот то-то. – строго сказал князь и повернулся к другому бобринцу. – Тонко?й, Сидор Михайлович, с тобой теперя.
Вперёд с готовностью шагнул высокий и худощавый мужчина лет сорока. Кудлатая копна русых волос, оттенённая бронзовой кожей, казалась белоснежной. Узкий лоб, сильно выпиравшие скулы, болезненно впалые щёки и острый голый подбородок – всё это делало лицо похожим на хомячью мордочку, и разбавляли сходство лишь густые вислые усы с концами кисточкой.
– Ратным головой отныне будешь. – сообщил Андрей Петрович и взглядом отыскал бывшего тиуна. – Сколько здесь послужильцев?
– Двадцать восемь. – глухо ответил тот, не поднимая головы.
– Да наших девять. Итого – тридцать семь. Так что из своих трёх десятников подбери.
Сидор поморщился словно от внезапной зубной боли.
– Помилуй бог, Андрей Петрович. Надо ли? – натужно прохрипел Тонкой, большим пальцем потирая красное пятно на гортани.
Когда-то давно в это место вонзилась крымская стрела. Рана оказалась не опасной, но с тех пор Сидор не мог говорить нормально – голос звучал хрипло и натужно, будто каждое слово давалось с трудом. Потому говорил Сидор мало, отрывисто и грубо, будто лаял старый цепной пёс, шею которого до кровавых мозолей истёр стальной ошейник.
– Может, прежних оставить? От греха подале.
– Какого такого греха? – Князю казалось, что он говорит сурово и властно, хотя голос его прыгнул почти до визга. – Это что же? Мне своих же холопов опасаться, стало быть? А может, мне разрешения княжить у них спросить ещё? Городишь не пойми что.
– Да не в опаске дело. Тут, Андрей Петрович, другое. Десятным оно ведь как – не каждый смогёт. Тут особый норов надобен.
– Потому и говорю наперёд. – раздражённо ответил Бобриков. – Подумай, кого прочишь? Тебе в сём деле, никак, видней меня, вот и думай. А мне не досуг. Всё.
Андрей Петрович жестом остановил возражения Тонкого и, откинувшись в кресле, капризно надул губы.
– Пущай велят обед подавать. Нешто мне голодным целый день сидеть?
Глава третья
Так уж случилось, что местом сбора для белёвских послужильцев всегда была конюшня. Когда-то давно имелась в кремле гридница, но потом её снесли, а посещать кабак на посаде покойный князь запрещал под страхом тяжких наказаний. Поэтому обсудить насущные дела или просто потрепаться ни о чём, когда на это находилось время, городские ратники зимой собирались в большой пристройке, где хранились сбруя, седла и попоны, а летом – у загона для объездки жеребят. Туда-то и отправился Сидор Тонкой сразу после разговора с князем.
Двадцать пять послужильцев обступили его полукругом и подавлено молчали, лишь иногда в гнетущей тишине слышался чей-то печальный вздох. Чуть впереди всех стоял теперь уже бывший ратный голова – Корней Семикоп. Поджарый ветеран с покривлённым носом и выпуклым шрамом на левой щеке за одно утро постарел на два десятка лет: плечи опустились, спина сгорбилась, и даже морщин на лице, казалось, стало вдвое больше.
– Да уж, выслужил за двадцать лет награду, – криво усмехнулся он, выслушав Тонкого.
Сидор пожал одним плечом, избегая смотреть Семикопу в глаза. Хотел было сказать, мол, не держи зла, не моя на то воля, но решил, что в разговоре с подначальным людом это ни к чему. Ещё подумают вдруг, что он лебезит перед ними. А потому, наоборот, добавил сухо и холодно:
– Десятников тоже… Ну, того. Новых ставить буду. Так что…
– Погодь-ка, – раздался в ответ низкий гудящий бас и вперёд вышел один из десятников.
Фёдор Клыков походил на пень векового дуба с двумя толстыми корнями вместо ног. Крупная косматая голова в длинных и густых каштановых кудрях сидела на бычьей шее. Пышная борода делала без того квадратный подбородок ещё крупней и тяжелее.
– Сдаётся, рано ты, мил человек, нас хоронишь. – Клыков встал рядом с Корнеем, порывистым движением сорвал с головы рыжий лисий малахай и повернулся к послужильцам. – Мыслю так: мы хоть и холопы княжьи, а всё же не рабы. Власть князей она, конечно, от бога, спору нет, да нынче не старое время. Нынче над князьями тоже божья власть есть – царь. А он за служилых людей стоит. И собор земской по всеобщему слову неспроста новые правды народу даёт. А по ним выходит, дескать, хоть ты и князь, а служилый люд забижать не моги. Потому как наша кровь в порубежье мир держит, и, стало быть, нам слово иметь до?лжно. Верно?
По рядам послужильцев пробежал сдержанный одобрительный ропот.
– Верно! – подтвердил Илья Целищев, молодой ратник в лихо заломленном колпаке. – В прошлый год на козельском рынке слыхал, дескать, князей да бояр великий князь в кулак жмёт, а служилым людям почёт и уважение.
– Вот-вот. Всё нынче по-другому станет. Так что неча молчать, братцы. – Запальчиво продолжил Фёдор, так и не дождавшись ответа от остальных. – Ведь и в пьянку-то с кем ни по?падя не сядешь. А уж на сечу идти – подавно. Корней Давыдович у нас уж тринадцать лет голова. Мы его как облупленного знаем и как себе верим. А ты, мил человек, уж не забижайся на нас, но тебя мы вперво?й видае?м, и каков ты в деле есть, ведать не ведаем. Може, ты уме?лей нас вместе взятых, а може, мордофиля дыролобый. В перво?м же деле по дурости сам пропадёшь и нас всех погубишь. Быват таково?
– Ещё как быват! – опять за всех выкрикнул Целищев.
Сидор хотел возразить, но тут в разговор вступил самый старший послужилец Платон Житников. На крупной его голове почти не осталось волос, лишь на затылке и висках ещё белели короткие жидкие пряди, зато седая борода густой лопатой свисала до середины груди.
– Ну, покуда говоришь ты верно, Фёдор Степанович. Токмо к чему ведёшь, никак в толк не возьму.
– К тому, чтобы собраться всем миром и князю поклон бить, – объяснил Фёдор. – Мол, милости просим. Пущай над ратью старшим Семикоп останется. Его человек, бобринец этот, он, може, не хужей нас всех разом взятых, а всё же… Не ведаем, каков он, и в бой за ним иттить нам опасливо. Потому за Корнея просим.
– Эка… князю, стало быть, перечить? – осторожно вставил Роман Барсук по прозвищу Зяблик. – Как бы с того беды не вышло.
– Беда, Ромка, уже вышла, – возразил Клыков. – Товарищей ваших, аки псов шелудивых, под зад коленом гонят. И ежели ты мнишь, что вас сия доля минует, так зря. Сперва Корнея, после нас, десятников, а там и за вас возьмутся.
– А дело Фёдор Степанович толкует, – согласился Ларион Недорубов, поглаживая жидкую бородку ладонью, на которой не хватало мизинца.
– Верно! – поддержал его Целищев, и следом подали голос ещё несколько послужильцев.
Фёдор с благодарностью кивнул каждому из них и, приободрившись, хотел продолжить, но тут из толпы вышел Кудеяр Тишенков. Это был не обычный послужилец, его покойный князь держал при себе для особых поручений. Каких именно – никто не знал.
– Так ты, Фёдор Степанович, по совести нынче скажи… – нерешительно начал он. – Взаправду об Корнее и всех нас радеешь, али свой шкурный интерес блюдешь?
– Чего? – растерянно переспросил Клыков. – Каков интерес?
– Каков интерес… – усмехнулся Тишенков, избегая смотреть на Клыкова. – С десятников слететь не хочешь, вот каков.
Клыков быстро пришёл в себя и даже рассмеялся в ответ на такой упрёк.
– Ну, братцы. Сколь годов я служилую лямку тащу? Шестнадцать? А десятником стал – без году неделя. Так что я за сей чин не держусь. Допрежь того без него не тужил и дальше б тужить не стал.
– Это ещё с какого боку гля-я-я-януть… – возразил Кудеяр, со значением растягивая предпоследний слог и поглаживая свою жидкую бороденку – единственное, что росло на его бледно-желтом безбровом лице. Обычно гладкое, как репа, в ехидной улыбке оно словно потрескалось, разойдясь от уголков рта крупными морщинами. – Всем ведомо, за ради чего тебе князь, упокой господь его душу грешную, десятство дал. Чтоб Сёмку сосватать, не инше.
О предстоящей женитьбе младшего Клыкова судачил чуть ли не весь Белёв. А всё потому, что жених и невеста жили хоть и в одном городе, да в разных мирах, не имевших ничего общего. Семён Клыков – единственный сын боевого холопа, готовился в скором времени, едва исполнится пятнадцать, тоже стать послужильцем, каким был его дед, прадед и ещё более дальние предки. А вот отец его невесты Лады – Елизар Устинович Горшеня служил старшим закромщиком[8 - Закромщик – амбарный, хлебный смотритель, ключник.]. Весь хлеб, что поступал в белёвские амбары, проходил через Горшеню, и без его ведома никто не получал из княжеских запасов даже крошки.
Потомством бог наградил Горшеню щедро. Первая жена родила ему пять мальчишек, а вторая подарила девочку. Сыновей Елизар Андреевич ценил только как работников, которым не приходится платить, а дочку надеялся как можно выгодней продать, то есть отдать замуж. Среди княжеской дворни каждый мечтал породниться с Горшеней. Так что женихи вились роем – один завиднее другого. Но угораздило красну девицу на масленой забаве повстречать Семёна Клыкова.
С того дня Лада и Семён даже думать не хотели о других женихе или невесте. Да вот беда – оба родителя встали на дыбы. Ибо где такое видано, чтобы единственный сын почтенного служильца женился на дочери чернильной крысы, выжиги и скупердяя. Да и какой же закромщик отдаст дочь замуж за огрызка тупоумного рубаки. На том бы всё и кончилось, не будь влюблённый юноша из Клыковых, на весь Белёв известных дурной прытью и упрямством. Семён заявил, что женится только на Ладе, и твёрдо стоял на своём. Фёдор испробовал всё. Сначала пытался образумить сына, увещевал житейской мудростью, мол, не в свои сани не садись. Потом стал грозиться, а после дошёл и до наказаний. Но всё было тщетно. И тогда он решил насильно женить сына на дочери Платона Житникова.
Будущие сваты уже назначили день свадьбы, готовилось приданое, когда Фёдор, задавая корм лошади, случайно нашёл в ворохе сена узловатую верёвку с крюком на конце. А ещё заплечный мешок, со снедью – как раз на двух беглецов. В ярости Фёдор выволок сына на улицу и выпорол до полусмерти, но, перед тем как потерять сознание, Семён успел сказать три слова:
– Всё одно – сбегу.
Вот тут Фёдор и сдался. Знал ведь, что сын пошёл в него не только видом, но и норовом. И уж если что втемяшилось ему в башку, так хоть кол на ней теши, а хочешь, с плеч долой снеси – не отступится. Либо своего добьётся, либо кончит плохо. А ведь во всём огромном мире у Фёдора не осталось никого, один только Сёмка. Он родился уже через девять месяцев после свадьбы и Фёдор, которому тогда едва исполнилось семнадцать, на крыльях летал от счастья. Но дальше как отрезало, и за восемь лет брака больше детей господь Фёдору не дал. А потом неведомая хворь сожрала мать Семёна. Она сгорела на глазах. Изошла кровавой рвотой и поносом, всего за неделю из цветущей пышнотелой бабы превратилась в обтянутый кожей скелет. Местный батюшка по привычке объяснил необъяснимое наказаньем божьим. И хотя Фёдор, как ни старался, не смог вспомнить своих грехов, за которые могла бы так пострадать жена, всё же в словах протоирея сомневаться не посмел. А раз так, чтобы его вина не испортила жизнь кому-то другому, решил больше не жениться. Иногда, конечно, по мужскому естеству ходил к какой-нибудь марухе, но о женитьбе не думал. Так и жили они с Сёмкой – одни на всём белом свете. Так что, как бы ни был суров и горяч Фёдор Степанович Клыков, но при одной только мысли, что может лишиться сына, от ужаса в жилах у него стыла кровь.
И Фёдор смирился с выбором Семёна: уже следующим утром единственный раз в жизни пошёл на поклон к господину. Иван Иванович принял просьбу благосклонно и обещал помочь. Князю Горшеня, понятно, отказать не мог, а чтобы Елизару проще далось согласие, покойный Иван Иванович сделал Клыкова десятником. На декабрь назначили свадьбу, Сёмка ожил, окрылился и начал приводить в порядок холостяцкий дом.
Никто не сомневался: если Фёдор Клыков слетит с десятников, Горшеня тут же ухватится за это и отменит свадьбу. На что и намекал Тишенков.
– Боишься, что вильнёт Горшеня, потому и взвился, – заявил он, наконец найдя в себе силы поднять голову и посмотреть на Фёдора, при этом глаз Тишенкова нервно задёргался. – Сам на рожон лезешь – это ладно, дело твоё. А нас в свою крамолу не тяни! Мы за твой барыш страдать не желаем.
– Да ты меня… В чём винишь… паскуда? Что я за свой барыш брато?в продать хочу? Да я…
Густые брови Клыкова сошлись к переносице, глаза из светло-голубых стали тёмно-лиловыми, а ладони сжались в кулаки – по пуду каждый. Но когда Фёдор уже шагнул к Тишенкову, между ними появился второй десятник.
Иван Пудышев при росте без малого в сажень был тощ, как осиновая жердь. Длинные худые ноги напоминали ходули, а руки из костей и сухожилий доставали чуть не до колен. Тонкий крючковатый нос и густой ёршик коротких волос делали его похожим на ястреба, а тяжёлый взгляд сощуренных мутно-серых глаз усиливал это сходство.
– Погодьте сва?риться. – Иван в стороны раскинул руки, уперев их в грудь Клыкова и Тишенкова. – Не об том здесь дело.
– И то верно. Как быть решаем, а вы тут… – Ларион Недорубов тоже встал промеж спорщиков и, чтоб повернуть разговор, робко предложил. – Коль так, давай, Иван Афанасьевич, и ты скажи слово. Тоже, никак, десятник.
Иван не ожидал такого поворота, но остальные послужильцы тоже поддержали Лариона. Пудышев покраснел и несколько раз дёрнул правой щекой, по которой наискось от краешка носа до скулы протянулся страшный рубцеватый шрам. Потом смущённо откашлялся и заговорил медленно, будто сначала несколько раз повторял по себя каждую фразу, и только потом произносил её вслух.
– Я так мыслю. Царь да правды евонные, новь всяка – это хорошо. Токмо Москва далеко, а князь и его ратные люди – вот они. Здесь, рядом и с нами заодно. Коли наше воинство нынче десятком бобринцев прирастёт, плохо разве? Да токмо ежели с изначальства промеж нас чёрна кошка пробежит, к добру ли выйдет? И чем для нас кончится? Не добром уж точно. И ежели на одну длань весь Белёв покласть с семьёй моею, а на другую десятство моё… – Пудышев поднял обе руки ладонями вверх, изображая колебание весов. – Так ответ ясен. Для меня наперёд всего – чтоб Белёв целым был. Инше ежели Белёв не уцелеет, так всё, чем дорожу, тоже сгинет. А потому за место держаться не буду. Хоть кем служить стану. Раз уж князь решил, так тому и быть. Я над вами три года началил, и коль уважения хоть капля ко мне есть, вот от меня вам слово. Бузить нынче не дело. И я за то не встану, уж прости, Фёдор. Да и ты, Корней Давыдович, зла не держи. За службу и дружбу поклон земной. Прощайтесь с десятником Иваном Афанасьевичем, да принимайте Ивана – ратника простого. Вот таков мой сказ.
Клыков всплеснул руками и разочарованно произнес:
– Не дело вы затеваете, братцы! Волков бояться, так и в лес не ходить. А зараз отступимся, так и станут гнуть. – Взволнованно, с упрёком высказал он. – Ну, ежели вправду мните, что я за шкурный прок вас хочу на крамолу смутить, так я один пойду, без вас. Уж не испугаюсь…
Внезапно Клыков замолчал, на плечо ему легла сухая костлявая ладонь Семикопа.
– Ладно, Федь, не горячись. – спокойно сказал Корней с печальной ласковой улыбкой. – Что заступь дать хотел, благодарствую и по гроб жизни помнить буду. Токмо… Не во мне ведь дело. Прав Ванька, всё верно сказывал. Не за честь служим, за совесть. Да и годами я уже не молод. Тяжко. Потому… а, ладно, чего там. Стало быть, за службу и дружбу благодарствую, а лихом меня не поминай.
Корней тяжко вздохнул, махнул рукой в ответ собственным мыслям и, не прощаясь, понуро двинулся прочь. Послужильцы, не шевелясь, провожали его виноватым взглядом, но, едва Семикоп скрылся за углом конюшни, из толпы, гордо приосанившись, снова вышел Кудеяр Тишенков. Он мельком взглянул на молчавших белёвцев, потом повернулся к Тонкому, откашлялся со значением, чуть склонил голову в знак почтения и размашисто зашагал к лобному месту. Чуть погодя за ним потянулся ещё один послужилец, потом второй, третий, четвёртый, и вскоре у конюшни остались только два бывших десятника и Сидор Тонкой. Но последний тоже задержался ненадолго, ибо старый рубака, знавший много воинских хитростей и уловок, словами владел плохо, и в нужный момент они всегда разбегались от него, ка цыплята от коршуна.
– Ну, ладно, чего уж. Свидимся еще, – только и смог сказать он со смущённой улыбкой, после чего тоже покинул жеребячий загон.
– Идёшь? – спросил Иван спокойно и буднично.
Пудышев и Клыков семнадцать лет жили бок о бок. Их дворы разделяла худая изгородь, которую забором называли только в шутку, и при нужде соседи ходили друг к другу напрямик. Потому, обычно, закончив все дела по службе, домой они всегда возвращались вместе. Кроме тех редких дней, когда были в ссоре.
Не дождавшись ответа, он махнул рукой и медленно двинулся по амбарному проулку. Но не успел выйти на главную дорогу, как Фёдор догнал его и пошёл рядом. Пока Пудышев делал один длинный тягучий шаг, Клыков успевал шагнуть два раза, но всё равно отставал от товарища, так что иногда ему приходилось догонять Ивана семенящей трусцой.
Так они миновали лобное место и через три двора остановились у хлипких ворот с намалёванным на досках петухом, выцветшим и облезлым. Слева, в щелястом заборе из горбылей открылась калитка и на дорогу вышла женщина в простом суконном летнике[9 - Летник – старинная верхняя женская одежда, длинная, сильно расширяющаяся книзу. Застёгивалась до горла.] с большим деревянным ведром на верёвочной ручке. Не глядя по сторонам, она вылила грязную воду и только тут заметила мужчин.
– Ох, здравствуй, Фёдор Степаныч. – Поставив пустое ведро, она со смущённой улыбкой поспешила заправить под платок белокурую прядь.
– Здравствуй, соседушка.
Марья Пудышева была на девять лет моложе мужа. Изначально родители сосватали Ивану её старшую сестру Анну. Случилось это, когда невесте исполнилось десять, а жениху – двенадцать. Иван даже помнил, как во время сговора двухлетняя Машка с задорным визгом голышом носилась по избе и всё норовила забраться к нему на колени. Тогда он и подумать не мог, что это и есть его суженая. Но через четыре года Анна померла от тяжёлой простуды, а родители, чтобы не нарушать семейных обещаний, решили отдать Пудышевым младшую дочь. Свадьбу, правда, пришлось отложить ещё на девять лет, но отец Ивана согласился, ибо всех подходящих годами белёвских невест к тому дню уже обещали другим, а родниться с кем попало Афанасий Иванович не желал. Так и вышло, что только в двадцать пять, уже будучи зрелым мужем и не раз познав женщин, Иван Афанасьевич Пудышев женился на юной красавице пятнадцати лет.
С тех пор минуло четыре года, жена подарила Ивану троих детей: двух дочек и сына, но тот умер во младенчестве. Роды сильно изменили Марью, от былой её красоты, точёной фигуры и милого лица даже следа не осталось. Она погрузнела, раздала?сь книзу и, наоборот, иссохла в груди; когда-то розовые щёки впали и побледнели; сахарные уста превратились в тонкую линию сухих бескровных губ; на лбу уже появились складки, в скором времени обещавшие первые морщины, и только глаза цвета речной воды сохранили прежний задорный блеск, хотя под ними тоже залегли глубокие тёмные круги от бессонных ночей и тяжких трудов.
– А у меня как раз вечерять поспело, – обрадовалась Марья. – Уважишь по-соседски?
Фёдор вопросительно посмотрел на Ивана, и тот кивнул с добродушной усмешкой.
– А мёду нальёшь, хозяйка?
Марья удивлённо вскинула брови, но Иван успел ответить за жену.
– Сегодня нальёт.
Они прошли на двор: клочок земли, по задней стороне очерченный небольшим огородом – пять грядок и вырец[10 - Вырец – некое подобие клумбы.] со всякой зеленью. Справа – обычный пятистенок с холодным прирубом под зимние припасы; слева – длинный сарай для скотины; а в проходе между ними едва бы втиснулась телега.
Через клеть с лазом в подпол хозяин и гость попали в большие тёмные сени, где стояли короба, мешки и кадка с водой, а оттуда – в горницу. Едва Иван перешагнул порог, как на нём с радостным визгом повисла трехлетняя Настенька. Старшей дочери Пудышевых – Анне, что сидела за пряхой в бабьем заку?те[11 - Бабий кут – угол (кут) избы, примыкавший к челу русской печи, где производили женские работы: готовили пищу, пряли, ткали, шили и т. д. Отделялся от горницы занавеской, иногда дощатой загородкой в виде неглубокого шкафа для кухонной посуды.], уже исполнилось четыре и она, как взрослая, чинно поздоровалась с отцом, потом поклонилась гостю, после чего вернулась к работе.
– Садись. – Без церемоний предложил Иван, подставляя под ручонки дочери усы и бороду.
Фёдор подошёл к столу, накрытому серой чуть не до дыр застиранной рогожей, но сесть не успел. Матерчатый полог у задней стены с тихим шелестом отодвинулся в сторону и в узком пространстве запечья появился то ли человек, то ли невесомый бестелесный призрак. С трудом, натужно кряхтя, старый Афанасий Пудышев на четвереньках добрался до края лежанки, сел и свесил две тонкие, как палки, ноги. Абсолютно лысая голова с редкой прядью бородёнки смотрелась неестественно огромной. Казалось, даже маленький деревянный крестик на суконной нити непосильной ношей гнул старика к земле.
Афанасий с болезненным стоном поднял худые руки, кончиками кривых узловатых пальцев протёр подслеповатые глаза, скрытые в дряблых морщинистых веках и зарослях бровей. При этом наброшенный армяк соскользнул с узких плеч, обнажив дугой согбенную спину, на которой даже сквозь рубаху проступали хребет и рёбра.
– Ванька. Ты, что ли?
– Я, бать. – коротко ответил Иван, заранее зная, каким будет следующий вопрос.
– А с тобой кто? От матери вести?
Отец, который последнее время и так по возрасту слабел умом, стал совсем плох, когда в прошлом году умерла его жена – Ульяна Никитична. Помутившийся рассудок никак не желал смириться с потерей. Афанасий Иванович твёрдо верил, что жена просто куда-то уехала, и терпеливо ждал, к каждому гостю приставая с расспросами, не видал ли он его Ульяну Никитичну, или, может, она передала с ним какую-то весточку.
– Нет, бать. – терпеливо ответил Иван. – Ко мне по княжьей службе.
– Я это, Афанасий Иванович, Фёдор. – подал голос Клыков.
– Какой ишо Фёдор? – В последнее время старик, в мельчайших деталях помнивший детство, мгновенно забывал день вчерашний и никого не узнавал из настоящего. – От Ульяны Никитичны?
– Да пососедник ваш.
– Вот же ж. А я думал… – Афанасий Иванович разочаровано всплеснул руками и захлебнулся сухим лающим кашлем.
Уняв, наконец, перхоту, старик подобрал ноги и полез обратно на лежанку. Раньше Афанасий любил спать на перекрыше[12 - Перекрыша – верхняя стенка печи, где устраивают лежанку], но последние годы взбираться наверх ему стало не по силам, так что для него устроили особую лежанку, поставив в запечье сундук, где хранились доспехи и оружие Ивана.
Проводив отца взглядом, Пудышев ногой выдвинул из-под стола широкий приземистый чубрак и сел. Настеньку устроил на коленях, и та принялась радостно лепетать что-то на своём детском языке, понятном только ей. Но тут Марья забрала её у отца и лёгким шлепком отправила в закуток к Анне. А сама принялась хлопотать над угощением. Достала из печи чугунок со щами и опустила в него две деревянные ложки. Тут же рядом появилась глиняная чаша с огурцами и чищенной головкой чеснока, половина каравая да ещё короткий, сильно сточенный нож с чёрной от старости ручкой. В довершение Марья поставила на стол высокий кувшин.
– Про мёд-то не шутили? – настороженно спросила она.
– Нет, Маш, не шутили. – ответил Иван, но, когда он уже взялся за ручку кувшина, жена положила на узкое горло ладонь.
– Сначала сказывай, чего стряслось? – мягко, но решительно потребовала она. – Вижу ведь, сам не свой. Чернее тучи оба.
Пудышев, глядя на жену, непонимающе пожал плечами, но Марья в ответ качнула головой, давая понять, что отделаться от неё простой отговоркой не выйдет. Фёдор ехидно усмехнулся, а Иван опасливо оглянулся на закуток и, только убедившись, что девчонки увлечены чем-то своим, тихо сказал:
– Тут, Маш, тако дело… Вышло так… Не десятник я боле.
– Новая метла по-новому метёт? – после короткого раздумья спросила Марья. Иван коротко кивнул, и она продолжила с печальным вздохом. – Ну, чего ж. Я, чай, замуж-то не за десятника выходила. И Аннушку простому вою родила. Это, вон, Настёна у нас десятская дочь, но она про то не ведает покуда. Так что… Допрежь жили и нынче как-то проживём.
Марья улыбнулась, убрала руку с кувшина и направилась к сеням, и, едва за ней закрылась дверь, Фёдор задумчиво произнёс:
– Метла метлой, да боюсь, за ней скребок в ход пойдёт. – Он с укором взглянул на Ивана. – Раз уж промолчали.
–Плетью обуха не перешибёшь. А новины все эти… – Пудышев покачал головой и, разливая мёд по кружкам, взглядом указал на потолок. – Это там, они промеж себя мо?чи делят, а нам с того какой прок? Нам, простым людям, токмо беды. Вот, на нас взгляни, опять же. Всего-то князь новый прибыл, а как закружилось. А ты говоришь… вся Русь другой станет. Этак каков же пожар раздуется? Как бы всё в нём не погинуло. Так что, уж как по мне: живём, хлеб жуём, и всё до?бро.
Фёдор, нарезая хлеб крупными кусками, печально усмехнулся:
– Може, и так, може, и прав ты. Да и чего уж нынче об том. Давай уж, коли так, помянём десятство наше. – Фёдор взял кружку, принюхался к аромату хмельного мёда и с довольным видом повёл бровью. – Одно хорошо – месяц в головстве не побыл. Отвыкать не придётся.
Глава четвёртая
Сороковины покойного князя попадали на последний день сентября, и пусть до них оставался без малого месяц, Андрей Петрович начал готовиться сразу же. Ведь на поминках ожидался поверенный великого князя – он приезжал, чтобы принять от нового вотчинника Белёва присягу на верность московскому царю – а перед таким гостем Андрей Петрович не мог ударить в грязь лицом.
Однако сразу же всё пошло вкось. Сначала оказалось, что казна пуста. Не совсем, конечно, кое-что в ней нашлось, и, обладай он таким богатством в Бобрике, Андрей Петрович почитал бы себя Крезом. Но для Белёва с его огромным хозяйством это был сущий пустяк. Крохи, которых едва хватало на повседневные траты. А, между тем, предстояло не только щедро накормить всю челядь, но на городском торжище раздать хлеб с мясом каждому, кто пожелает помянуть покойного князя. Будь это даже последний нищий или прокажённый бродяга, занесённый в Белёв случайным ветром. Так требовал обычай княжеской чести. А потом ещё накрыть богатый стол для ближайшей родни: три перемены главных блюд, к ним не меньше дюжины угощений попроще и непременно хмельной мёд, олуй и заморские вина рекой. Да и после наверняка придётся кормить загостившихся князей и царского посла, который, конечно, не уедет сразу, а по делам задержится в лучшем случае на несколько дней. А может, на неделю. Так что, когда Захар Лукич даже примерно подсчитал предстоящие расходы, Андрей Петрович удивился тому, что бывают вообще такие числа.
А в казну, меж тем, за неделю не поступило даже зёрнышка овса. Правда потом случился прибыток, да не простой, а сразу в три рубля. Но Андрей Петрович, хотя прежде никогда не держал в руках столь больших денег, всё же предпочёл бы остаться нищим, чем получить такой доход. А дело было в том, что некий послужилец Кудеяр Тишенков вдруг полностью, до копеечки, рассчитался по кабальной грамоте. Такую бумагу подписывал каждый, кто поступал в княжеское войско. При этом нового холопа снабжали доспехом, оружием и всяким прочим, без чего в ратном деле не обойтись. Но получал он всё это не от господских щедрот, а как бы платой в счёт будущей службы. Специальный человек из государевых приказов тщательно описывал выданные вещи и назначал за них справедливую цену. На эту сумму и составляли кабалу, после чего вольный ратник становился холопом и впредь мог покинуть службу только после выплаты долга. Именно это Тишенков и сделал.
Поступок его озадачил всех. Никто в Белёве не мог припомнить подобный случай, ведь для простого ратника три рубля – небывалое богатство, но Тишенков их где-то раздобыл. В ответ на вопросы удивлённых огнищан он только презрительно фыркал и лишь однажды снизошёл до короткой фразы:
– Потому как ценить надобно верных слуг.
Князь истолковал это по-своему: холопы, видя его бедноту и немощь, предпочитают уйти от такого господина на вольные хлеба. Андрей Петрович не сомневался, что Тишенков – лишь первая ласточка. Помешать ему Бобриков уже не мог – закон был на стороне послужильца – и теперь приходилось думать о другом: что можно сделать, чтобы пример Тишенкова не вдохновил остальных. Решение находилось только одно: срочно пополнить казну, тем самым доказав, что он способен править Белёвом не хуже покойного дяди.
Захар Лукич день и ночь корпел над стопками писцовых книг и огромной кипой грамоток, пергаментов и свитков. Но чем усердней он пытался распутать паутину слов и чисел, тем яснее сознавал свою беспомощность. Новый тиун был малый честный и беспредельно преданный князю, но отродясь не имел дела с таким большим хозяйством, где с одной ничтожной деревушки оброка собирали больше, чем во всех землях Бобрика вместе взятых, а запись дворовых расходов за неделю порой достигала сотни статей, о смысле которых старый ключник мог только гадать. В конце концов, смирившись с тем, что самому разобраться ему не под силу, Захар Лукич обратился к местным огнищанам, и те охотно пришли на помощь, стали подробно объяснять все тонкости и трюки, так что совсем скоро неопытный тиун запутался ещё сильнее. Через две недели он честно признался князю, что недоимок так и не нашёл. Ни одной.
Правда, при разборе свежих челобитных, что поступили к огнищанам уже после смерти князя, Захар Лукич нашёл одну странную бумагу. Община Водопьяновки, села на окраине белёвских земель, просила на три года освободить их от хлебного оброка, чтобы они смогли перейти с двух полей на три. Сама просьба подозрений не вызвала – последние годы такой переход становился делом обычным. Но вот простые расчёты, что имелись в этой грамоте, привели старого тиуна в замешательство. По ним выходило, будто каждый год община Водопьяновки отдавала княжеской казне девяносто один пуд ржи. Разделив их на ставку хлебного оброка – половина пуда с каждой чети пашни, Захар Лукич получил примерный размер Водопьяновских полей. Сто восемьдесят две чети. Тогда как во всех подушных книгах за сельцом числилось всего семьдесят. И хлебного оброка с них брали соответственно – тридцать пять пудов. Как так выходило, ни Захар Лукич, ни Андрей Петрович понять не могли, и потому решили отправить в Водопьяновку Ваську Филина. Посмотреть и разобраться, что там да как.
Глава пятая
Из двух десятков деревушек княжества по вёрстам, указанным в писчих книгах, Водопьяновка находилась от Белёва ближе всех. Но при этом ехать к ней пришлось вдвое дольше, чем к самой дальней заимке. А всё потому, что нормальный путь закончился через пять вёрст, когда от столбовой дороги на Козельск малоезженая тропка свернула влево и углубилась в густой сосновый лес. Несколько раз она почти терялась среди хвойной чащи, едва заметной колеёй петляла по заросшим оврагам и лощинам, пересекала десяток ручейков, а один раз большой петлёй огибала вонючее болотце. Так что, покинув Белёв ещё на рассвете, до Водопьяновки Филин добрался ближе к вечеру, когда в сером небе проступил серп молодой луны.
Тропинка вывела к Сетухе – маловодной речушке, берег которой зарос камышом и осокой. За ней раскинулась огромная поляна, с трех сторон окружённая лесом. На опушке узкой полоской желтела рожь. Три коровы и десяток овец лениво бродили у родника, что бесформенным пятном синел в центре луговины. От речного русла его отделяли всего-то полсотни шагов по прямой, но тонкая нитка ручья на этом пространстве делала пять крутых поворотов и дюжину петель, словно горький пропойца, что в хмельном безумстве блуждает по округе в поисках потерянного дома. За эту особенность ручей окрестили Пьяным. По нему же дали и название селу – Водопьяновка.
Васька надеялся без труда опознать двор старшины, как самый большой и богатый. Однако, село представляло собой дюжину совершенно одинаковых домов, скученных так тесно, что в наступивших сумерках казалось, они вырастают один из другого. И, как назло, все дворы пустовали, так что, если б не струйки дыма и вялый перелай собак, Филин решил бы, что здесь давно никто не живёт.
Он остановил коня на околице и огляделся в поисках хоть кого-то, кто мог бы ему подсказать. Как раз там, где Пьяный ручей падал в Сетуху, на обрывистой круче одиноко стояла берёза, а в тени её раскидистой кроны мелькала фигура. Васька подъехал ближе – неясный силуэт оказался молодой девушкой в домашней суконной рубахе с витым шнурком вместо пояса. Она серпом срезала траву вокруг ствола, на котором среди чёрно-белых лохмотьев мёртвой коры и молодых наростов проступал неясный потемневший от времени лик, а на сухой треснувшей ветке, что склонилась к самой земле, висели разноцветные ленты и холщовые мешочки.
Филин знал, что такие деревья назывались берегинями и встречались почти в каждом селе. Когда-то давно древние люди, от которых теперь не осталось имён, считали Берегиню матерью всех духов и богатств земли, а потому обращались к ней за советом и на любое начинание просили разрешения. Обычай этот пережил даже пятьсот лет христианства. Правда, теперь крещёные язычники называли древнюю богиню «Сырой Богородицей», но, помолившись, как учила новая вера, перекрестившись и отвесив поклон рубленой иконе на стволе березы, они обязательно приносили дары Берегине, как завещали традиции предков. Для надёжности. В конце концов, разве получится хуже, если в небесах у тебя будет не один помощник и заступник, а сразу два?
За работой девушка не заметила Ваську и продолжала стоять к нему спиной, то нагибаясь так, что ткань обтягивала сочный зад, то распрямляясь, отчего пропитанная потом рубаха прилипала к прямой гладкой спине и тонкой талии, а край юбки, с обеих сторон подоткнутый за верёвочный пояс, до середины бедра обнажал стройные ноги. От такой картины во рту у Филина пересохло, и каждый удар сердца горячим пульсом отдавался внизу живота. Он решил подъехать ближе, но стук копыт выдал его, и девушка обернулась. Поначалу растерявшись, через миг она вскрикнула и, юркнув за берёзу, только там оправила подол. Потом испуганно посмотрела на Ваську из-за ствола. На её бронзовый от загара лоб из-под косынки выбилась длинная прядь с золотым отливом; под чёрными дугами бровей изумрудами сверкали широко распахнутые глаза, пухлые губы цвета спелой вишни сложились сердечком; высокие скулы плавно переходили в мягкий круглый подбородок. Расстёгнутый ворот рубахи открывал жадному взору точёную шею, тонкие ключицы и ложбинку меж небольших грудей с пиками выпиравших сосков.
– Это, слышь, ага… – От накатившей страсти голос дрогнул и сломался на последнем слоге. Но висевший на ремне деревянный цилиндр с княжеской грамотой, больно упираясь в бок, напоминал о деле, и, тяжело сглотнув подступивший к горлу ком, Филин взял себя в руки. – Ты это, вот чего. Тутошняя ведь? Ну, ясно дело, ага. А это… Старшина-то ваш где проживает?
– Мефодий Митрофанович? – радостно переспросила девушка, ибо вопрос означал, что незнакомец прибыл по делу, а раз так, то опасаться его нет причин. – Так это вот, сосед мой. По дороге второй дом слева.
– Ясно. – Филин тряхнул головой, пытаясь избавиться от похотливых мыслей. – Ну, благодарствую.
Жилищем старшины оказался небольшой домишко, ничем не отличавшийся от прочих. Кривая завалинка растрескалась и обсыпалась, местами обнажив подошву из склеенных глиной камней. Один угол сруба сильно осел и под чёрным от времени лежнем торчал ещё светлый булыжник. Между венцов зеленел свежий мох, недавно набитый в огромные щели рассохшихся брёвен. Из-под накренённой кровли выбивалась струйка дыма, и ветерок разносил вокруг запах ячневой каши и хлеба с отрубями – запах нужды и лишений.
Старшина встретил Филина на крыльце. Заплесневелый старикашка, настолько съеженный и сухой, что даже большую блестящую плешь с жидкими пучками седых волос по краям изрезала сеть глубоких морщин. Мочалка козлиной бородки падала на сухую впалую грудь, и даже старый армяк казался непосильной ношей, так поникли узкие плечи и сгорбилась спина.
Поначалу Мефодий отнёсся к незнакомцу настороженно, с опаской, но, едва узнав, что тот прибыл от князя, просиял и жестом пригласил в дом. В маленьких сенях едва помещалась кадка с водой и стопка поленьев. Вход в жилище закрывал полог из коровьей шкуры, за ним открывалась комната, большую часть которой занимал огромный стол. Вдоль двух стен с окошками из мутной плёнки пузыря примостились длинные скамьи, а над ними протянулся широкий полавочник[13 - Полавочник – полка над лавками, непрерывно огибающая стены в избе.], заваленный корзинами, горшками, коробами и прочей утварью помельче. У третьей глухой стены громоздилась печь, у шестка которой возилась со стряпней тощая девчонка лет тринадцати с тугой косой светло-русых волос.
– Кхм, Дуняха. Собирай-ка на стол живо. Гость у нас важный. – строго приказал Мефодий и, обернувшись к Филину, пояснил. – Младшая моя. А енто вот Серафима. Сноха. Матвейки, стало быть, жена.
Старшина кивнул в бабий угол, где между печным боком и бревенчатой стеной втиснулся объёмистый сундук. На нём сидела невысокая, про таких говорят – «чуть от земли видно», но безобразно толстая женщина с тяжёлой отвисшей грудью. Круглое лицо ещё хранило остатки былой красоты, но оплыло и поблёкло, под впалыми глазами набухли большие тёмные мешки. На руках у Серафимы спал завёрнутый в тряпку младенец, рядом на цветной лоскутной ватоле копошился годовалый мальчуган, а на полу, у босых ног с самодельной куклой голышом играла девочка лет трёх.
– А сам-то сын где? – равнодушно спросил Филин, только чтобы не молчать, потому что от кислой вони в жилище его начинало мутить.
– В поле, где ж ещё-то. Страда в разгаре. Нынче все при деле. Что мужики, что бабы. Здеся токмо старики, да детишки малы.
Филин скользнул взглядом по тощей фигуре Дуняхи и в памяти тут же всплыл образ девушки на краю села.
– То-то я гляжу, как вымерли все. Пока тебя нашёл, наплутался. Хорошо хоть, девка на околице попалась. У берегини вашей. Подсказала.
– У берегини? Кулька Хапутина. – догадался Мефодий. – Она, окромя неё, некому. Всё жениха доброго просит. И то сказать, девка видная. Из наших парней любой бы взял. В радость только. Да брательник её, Забуга, хорохориться. – Мефодий тихо рассмеялся. – А наши мужики Забугу сторонятся. Колотовник[14 - Колотовник – драчун.] знатный. Любого кулаком сшибёт. Так что с ним не балуй, хе-хе…
– Вон как. И где ж он нынче? Глянул бы, каков богатырь. – спросил Филин, принимая игривый тон старшины. – Тоже в поле, небось?
– А где ж быть…
– А ещё из Хапутиных кто есть?
– Жена Забугина – Любомира. Да она нынче тоже в поле, мужикам помогат. Хоть и на сносях.
– Акулька одна, стало быть?
– Одна. – подтвердил старшина, но тут же спохватился и принялся оправдывать девушку. – Но она не просто так. У ей забот – прорва. Кулька сроду без дела не сидит. Покуда брат с женой в поле, всё хозяйство на ней. Потому Забуга и не спешит замуж её отдавать.
– Ясно. Ну да бог с ней, с Кулькой, я ж не за ней прибыл. По делу. – спохватился Филин. – Челобитную вашу князь прочёл. Да вот меня послал на месте поглядеть. Так что сказывай толком, чего да как, ага.
– Так, а чего сказывать? На три поля хотим перейти. И весь сказ.
– На что?
– Чего на что? – не понял старшина.
– На что вам три поля, спрашиваю, ага. – раздражённо пояснил Филин.
– Так ведь это… Община народишком прирастат. Уж, почитай, скоро сотня ртов будет. Оно ведь как…
Мефодий замялся, и Филин подсказал ему с тихим смешком:
– Эх… плодитесь и размножайтесь.
И тут же Васька сам пожалел о сказанном – при этих словах в памяти опять всплыл образ Акулины. С распахнутым воротом, с обнажённой выше колена ногой. Филин зло рванул ворот кафтана, который мешал ему дышать.
– Ты вот что поясни. Чем три поля лучше двух? – спросил Васька, для которого крестьянские дела были тёмным лесом.
Старшина развёл руками. Он и представить не мог, что человек князя может не разбираться в столь простых вещах, ясных даже самому тёмному смерду.
– Хм, ну вот гляди. Ныне у нас землицы распахано сто восемьдесят четей. С малым лишком. Половина засеяна, другая под паром лежит, не рожает, стало быть. И выходит, что в кажный год мы урожай с половины земли собираем. А ежели мы все поля натрое разделим, так на одной части – яровые, вторая под паром, а третья – под озимые. Этак урожай не с половины земли кажный год собирать, а уже с двух частей из трёх. Ежели в пудах прикинуть – вместо двух сотен две с полтиной выйдет. То бишь пятьдесят пудов сверх. А это для нас нынче… – Мефодий сбился, не в силах подобрать нужного слова, чтоб объяснить горожанину, насколько важна для общины такая прибавка. – Ты пойми, как тебя бишь…
– Вась… – Филин осёкся на полуслове и, откашлявшись, сообщил. – Василий Филиппович.
– Так ты пойми, Василь Филиппыч, нам без этих пудов не выжить. Уж и так с хлеба на воду перебивамся, а как нончая ребятня подрастёт да промеж себя обженится, да свою ребятню народит… Так что, как ни крути, а нельзя нам без третьего поля. Не выжить. Так князю и обскажи. Да ты здесь ли, Василь Филиппыч?
– А? – Филин встрепенулся, отвлекаясь от сладких грёз, и мутным взглядом обвёл избу. – Здесь, здесь, куда ж денусь. И в чём беда, не пойму? Коль третье поле надобно, так пашите, как пристало. Оброк тут причём, ага? Пошто ослобонить от него просите?
– Да как же, Василь Филиппыч? Нам ежели нынче третье поле делать, так в два ближайших года только треть пашни засеять выйдет. С переходом оно завсегда так, по-другому не быват. Два года урожай будет, что кот наплакал, а ежели с него ещё и оброк отдать… Это хоть сразу помирать ложись всем миром. Потому и просим, Василь Филиппыч. Василь Филиппыч, слышь?
Васька слушал старшину, но думал совсем о другом. Ведь Акулина Хапутина наверняка уже покончила с травой вокруг берегини и отправилась в дом. А там, кроме неё, никого нет. Никого.
– Слышу, не ори. – Васька со свистом протяжно выдохнул через ноздри. – Понял я всё про поле ваше. Обскажу князю, как есть, он пущай решает. А я человек маленький. И ты мне другое растолкуй, ага. Вот ты сказывал, что земли у вас почти две сотни четей. Так? А как же вышло, что вы столь лет оброк давали, как за семьдесят?
– Да помилуй бог! Отродясь такого не бывало… – Мефодий испуганно всплеснул руками. – Всё как полагатся платили. С полной пашни.
На лысине у старика проступил пот, большие костлявые ладони нервно вцепились в подол домашней рубахи. Встрепенувшись, Мефодий кинулся в красный угол избы, где под низким сводом на маленькой полке стояла икона в простом деревянном окладе. Тяжко кряхтя, взобрался на скамью, сунул руку за образ и достал большой свиток из серой шершавой бумаги. Спустившись, старшина протянул пергамент Ваське.
– Вот, Василь Филиппыч, гля-ка. У нас всё как следоват, так и отдадено.
Филин взял свиток, но читать его не стал. Он и без того давно понял, что старшина не врёт. А раз так, то выходило, что разгадка тайны скрыта в подушных книгах. Как-то так получалось, что в писарском покое Белёва сто восемьдесят две чети земли превращались всего в семьдесят. Как? И зачем? Но ответить на два таких простых вопроса вряд ли мог старшина из Водопьяновки Мефодий Лапшин.
– Коли так, ладно, ага. – Васька поднялся с лавки, встряхнул затекшие ноги, покрутил головой, разминая шею.
– Так что с третьим полем-то, Василь Филиппыч? – спросил Лапшин, с щенячьей надеждой глядя на Филина.
– Говорю, не моя власть, ага. Обскажу князю. Он и решит. Так что жди покуда.
– А ты куда собрался? – заволновался старик, глядя на Васькины сборы. – Глянь на двор, темнет уже. Бабы мои, вон, видал, посне?дать приготовили. Заночуешь, а там уж давай.
– Благодарствую. Да не досуг мне. Князь ждёт, ага. Так что, прощевай, Мефошка.
Выйдя на улицу, Филин даже не стал садиться в седло. Взял коня за повод и торопливо повёл к околице. Вскоре он оказался у крайнего двора. Его задней границей служила дровяница из больших неколотых поленьев. Один её край упирался в двускатную землянку под густо заросшим дёрном, другой – в утлый сарай, крытый трухлявой соломой. Позади чернел огород без единой сорной травинки – только неровные ряды капусты, репы и свеклы.
Филин намотал поводья на торчащий из земли кол для домашней скотины. Откуда-то из темноты выскочил облезлый пёс. С опаской посмотрев на чужака, он глухо заворчал и попятился к дровам, а стоило Ваське замахнуться, вовсе с испуганным визгом припустил к сараю и проворно юркнул под нижний венец и, только попав внутрь, разразился заливистым лаем.
– Ты чего это, Трезоша? – раздался мягкий и ласковый женский голос, который Васька тут же узнал. – Чего взбаламутился?
Филин молча двинулся к сараю, и когда до него оставалось не больше двух шагов, в открытых дверях появилась Акулина. Испуганно ахнув, она замерла в проёме, а потом стала пятиться внутрь. Васька оглянулся по сторонам, убедился, что вокруг по-прежнему ни души, и решительно переступил порог. В темноте, пахнущей навозом и прелой соломой, Акулина суетливо одёргивала подол и расправляла рабочий передник.
– Ты это… не боись. Я ж это… Добром. – Непослушными пальцами Филин распутал завязки поясной мошны и достал из неё ромбик серебра. – Во, видала? Это знаешь, сколь? Всю вашу рухлядь три раза купить можно, ага. Ну? Подь сюды, сладкая.
Филин медленно приближался к Акулине. Та, настороженно отступала, пока спиной не упёрлась в ограду коровьих яслей. У её ног застыл оскаленный Трезор. Пользуясь тем, что теперь девушке некуда деться, Васька осторожно протянул к ней руку, пытаясь успокоить. Но потом внезапно схватил её чуть ниже локтя и резко дёрнул на себя. Акулина даже не успела вскрикнуть, как оказалась у Васьки в объятьях. Тогда он одной лапищей обхватил её за плечи, второй за тонкий стан и прижал к себе.
Пёс залился истошным лаем, сбиваясь на испуганный вой. На короткое мгновенье Акулина обмерла, страх сковал ей руки-ноги, дыхание заковал в ледяные тиски. Пользуясь этим, Филин освободил одну руку. Потная ладонь прошлась по напряжённой спине, обмяла ягодицы, потом соскользнула вдоль ноги и нырнула под подол. Мясистые губы с силой прижались к дрожащим девичьим устам. Хапутина встрепенулась, в попытке вырваться изогнулась всем телом. Постаралась закричать, но из сдавленной груди вышел только слабый стон, и Васька злорадно усмехнулся. Именно в этот миг что-то вцепилось в его сапог. Собачьи клыки застряли в твёрдой коже голенища, не достав до плоти, но Трезор повис на ноге, и Филину, чтобы не упасть, пришлось разжать объятия.
– Ах, ты…
Филин отшвырнул пса. Тот исчез в ворохе сена, но тут же выскочил готовый к новой атаке, и пока Васька отгонял Трезора, Акулина успела схватить короткую рассоху[15 - Рассоха – двузубые вилы из раздвоенной ветки дерева.].
– А ну отпрянь! Запорю нето! – грозно крикнула она дрожащим от страха голосом.
– Ну, давай, ко?ли так.
Васька шагнул вперёд, так что заострённые концы деревянных вил упёрлись ему в грудь. Акулина подалась назад, и по её растерянному взгляду Филин понял: проткнуть живого человека решимости ей не достанет. С хищным оскалом Васька отвёл россоху в сторону. Выронив вилы, Акулина вжалась в бревенчатую стену и беспомощно завыла.
– Этка чего у вас тута? – неожиданно раздалось позади.
Васька обернулся. На пороге сарая с лучиной в руках стояла сноха старшины. До этого Филин видел её сидевшей на сундуке бабьего угла, но на ногах Серафима Лапшина оказалась ещё ниже ростом и безобразней телом, чем смотрелась сидя.
– Чего надо? Вон пошла! – рявкнул Филин, но Серафима не тронулась с места.
– Ишь ты, каков грознец. – спокойно сказала она. – Да я не к тебе. Кулька, ты забыла, нешто? Нанче ж у тебя бабий сбор. Лён теребить на пряжу, покуда не усох. Забыла? – Серафима со значением посмотрела на Акулину, но та мало что понимала. – Вот и Дуняха со мной. Сейчас еще Каверины придут. Тока что видала их.
С улицы донеслись голоса – у сарая собирались женщины с детьми и, судя по гвалту, который они подняли, было их не меньше десятка. От накатившей ярости Васька чуть не задохнулся. Он побелел лицом, но уже через мгновенье взял себя в руки и лишь недобро ухмыльнулся.
– Так, стало быть, ага? – Васька поправил сбитый на бок ремень, одёрнул полы кафтана, тяжело нагнувшись, подобрал шапку. – Ладно, пусть. Но гляди, девонька, как бы хужей не вышло.
Филин резко развернулся и выскочил из сарая, чуть не сбив Серафиму, – та едва успела отпрыгнуть. А вскоре снаружи донеслись ржание коня и дробный топот копыт.
Глава шестая
В Белёв Филин вернулся уже на рассвете, когда по-осеннему скупое солнце едва показалось над горизонтом, и брызги нового утра косым лучом легли на город, розовым бликом заиграли на золотых куполах Успенья, посеребрили зыбучие волны Оки. Детинец только просыпался: на лобное место вышел одинокий холоп с огромной метлой; к портомойне заспешили две женщины с корзинами белья; в людской пристройке терема захлопали двери, заскрипели ставни на окнах; над каменной трубой поварни взвилась струйка белого дыма.
Не замечая удивлённых дозорных, Филин промчался сквозь захаб Козельской башни, рысью миновал собор, у терема чуть не растоптал сонную молодуху с ведром помоев и только в житном переулке пустил уставшего коня шагом. Тот, фыркая и отдуваясь, двинулся вдоль закрытых амбаров, что один за другим тянулись с обеих сторон. Только ближе к концу улицы Васька нашёл барак, ворота в торцовой стене которого были распахнуты настежь. Он спешился и решительно взбежал по наклонным сходням в сенцы, где остро пахло лежалым зерном и соломой, а в неподвижном воздухе стоял туман мучной пыли.
Рядом со входом за низким маленьким столом сидел закромщик, немолодой уже румяный мужчина. Одной рукой он подпирал пухлый подбородок, переходящий в пышную лопату бороды, а другой пером делал пометки в длинном списке. В расстегнутом вороте малинового кафтана виднелся массивный ключ, который висел на толстой шее вместо креста. Перед кладовщиком топталась стряпуха, у её ног на полу стоял большой кузовок для продуктов. Женщина что-то негромко говорила, а он деловито кивал.
При появлении Филина закромщик вздрогнул, отчего по серой бумаге пошла безобразная клякса, а стряпуха испуганно смолкла на полуслове.
– Вон пошла! – рявкнул Васька.
Женщина хотела возразить, но Филин свирепо посмотрел на нее, и та молча попятилась к выходу, даже забыв про кузовок. Ничего не объясняя, он сделал несколько шагов в глубь хранилища и внимательно вгляделся в полутьму. С одной стороны вдоль стены сплошь тянулись ряды сусек, на их плотно закрытых крышках лежали деревянные совки, ковши и меры для зерна; с другой – огромные лари и на них корзины, короба и туески; в торце хранилища в три плотные шеренги сомкнулись бочки.
Убедившись, что в амбаре никого, Васька вернулся, встал перед столом и, не говоря ни слова, жгучим, пронзительным взглядом уставился на закромщика. Тот испуганно молчал и чем дольше длилось молчание, тем, он, казалось, становился меньше, всё сильней вжимаясь спиной в бревенчатую стену.
– Ну а ты чего сидишь? – наконец заговорил Филин. – Вставай. К князю на правёж[16 - Правёж – суд, разбирательство.] пойдём.
– Ч-ч-ч-ч-чего это? – заикаясь, промямлил закромщик.
Филин бросил перед ним грамотку, которую прихватил в доме Лапшина.
– А вот чего. Поведаешь, как так вышло, что из Водопьяновки в подать кажный год девяносто пудов ржи уходит, а в княжеские закрома только тридцать пять попадает. Куда остальное просы?палось? И почему в сошных книгах ваших заместо ста десятин земли за селом всего семьдесят четей водится. Всё поведаешь, как горящий веник к брюху поднесут. – Филин говорил тихо, с холодной угрожающей усмешкой, но потом вдруг изменился в лице, выпучил глаза, скривился в яростном оскале и заорал страшнее раненного зверя. – Ах ты сучий потрох, вор поганый, за всё ответ держать будешь!
Васька руками упёрся в один край стола и другим прижал закромщика к стене.
– Д-д-да ч-ч-ч-его ж я то? К-к-к-райний нешто? – заверещал огнищанин. – Б-б-будто по доброй воле. Сам пону?жден был.
– Понужден? Кем?
– Так ведь князь покойный сам. Иван Иванович.
Обескураженный Филин на мгновение ослабил хватку, и закромщик успел вдохнуть с болезненным хрипом, но тут же Васька надавил на стол с ещё большей силой.
– Ну ты, врать – ври, да не завирайся. Он, что же, сам себя обкрадывал?
Закромщик тихо простонал, широко открытым ртом хватая воздух. Столешница глубоко вошла ему под рёбра.
– Дабы Москву в службе об-ма-нннуууть… – с трудом прошептал он и обмяк. – Пу… пусти.
Филин шагнул назад. Закромщик, часто дыша и рыгая, схватился за живот.
– Ну, говори.
– Это уж лет десять так ведётся. Сразу, как на Земском соборе учинил великий князь уложение о службе, так Иван Иванович, царствие ему небесное, и задумал обман сей.
Филин нахмурился, с трудом и смутно припоминая давние слухи о том, что в Москве какой-то Земской собор принудил вотчинников выставлять в государево войско не сколько они захотят или смогут, как велось испокон веку, а по всаднику с каждых ста четей пашни. К счастью, их богом забытый Бобрик это всё обошло стороной, ибо доброй угожей земли там значилось с гулькин нос. И коль скоро на жизни города новость никак не сказалась, о ней быстро забыли. Но Белёв, однако, не Бобрик.
– С новым-то порядком, ежели всё по правде делать, с белёвских пашен полагалось боле сотни всадников. – Пояснил закромщик, когда наконец отдышался. – Откуда взять? Отродясь столь послужильцев не водилось. Аще были бы, расход на них каков? Любого разорит. Вот и придумал князь две посошны книги завести. Одна – для себя, с верным счётом. А другая, где пашен второе меньше, для царёвых слуг. По ним с Белёва всего двадцать три ратника полагалось. Вот и вся хитрость.
– Это что ж выходит, по всем сёлам так? – с затаённой надеждой спросил Филин.
– Само собой, а как же.
Сердце в груди у Васьки кувыркнулось, на мгновенье сжалось, замерло, а потом пустилось вскачь с утроенной силой. В предвкушении большой удачи он облизнул пересохшие губы. Чтобы не выдать закромщику истинных чувств, отвернулся, закрыл глаза и протяжно выдохнул, стараясь успокоиться.
– Выходит, Захар Лукич по обманным книгам казну сверяет?
– Отож… – закромщик уныло кивнул.
– А оброк смердам вы по тайным назначали? Стало быть, брали чуть не втрое больше. Куда делось?
– Как стало ясно, что новый князь едет, тиун наш… Ну тот, что опальный нынче, говорит, такое, мол, раз в жизни выпадает. Нынче упустим, больше не свезёт. Ну вот мы и… того. Кое-что в Козельск на ярмарку свезли, купцам тамошним чохом отдали. А остальное… – закромщик шмыгнул носом и потупился. – Остальное по себе растащили.
– Вот паскуды… сучье племя… – недобро усмехнулся Филин. – И много вас в сём воровстве замешалось?
– Да, почитай, все огнищане.
– Ого. И вот как нонче с вами быть прикажешь? Открыть всё князю? А?
Закромщик вскинул голову и устремил на Ваську полный ужаса взгляд. Потом вдруг кинулся вперёд, рухнул на колени и на четвереньках, скуля и подвывая, пополз к Филину. Не успел Васька опомниться, как тот уже обхватил его правую ногу и припал губами к голенищу сапога.
– Не губи, не губи, Василь Филиппыч…
– Ну, чего удумал-то? – строго сказал Васька, но убрать ногу даже не попытался.
– У меня детишек пятеро. Пропадут без меня. Не губи, благодетель.
– Эх, вот сгубит меня доброта моя. – Васька нагнулся, запустил пятерню в густую гриву закромщика и оторвал его от сапога. – Ладно, будя, вставай. Так и быть, не стану православных на дыбу отправлять. Мне такой грех на душе ни к чему, ага.
Закромщик облегчённо всхлипнул и попытался встать. Но ослабевшие ноги отказались держать грузное тело. Он сел на край лавки и опрокинул ее навзничь. Дрожащими руками поискал опоры, да так и остался сидеть на затоптанном полу, рукавом вытирая слёзы.
– Но ежели хочешь, чтоб голова при тебе осталась, так помогать мне будешь, ага. – наставительно сказал Филин. – Ибо я, конечно, князю близок, но из такого болота мне без помо?ги вас не вытянуть. Разумеешь?
Приходя в себя, закромщик часто закивал:
– Конечно… Конечно! Чего скажешь, то и сделаем.
Филин не спеша поднял опрокинутую лавку и оседлал её, оказавшись перед закромщиком, всё ещё сидевшим на полу.
– Перво-наперво, всё мне поведаешь. Сколь, чего и у кого хранится. Сколь чего купцам свезли и каков барыш получили. Да гляди, без утайки чтоб. Коли прознаю чего…
– Да ну, Василь Филиппыч, нешто можно, чтоб ты меня спасал, а я… Нет уж, коли назвался груздем, так полезу в кузов.
– Вот это верно. – одобрил Филин со снисходительной улыбкой. – Дале. Нынче из-за проделок ваших Андрей Петрович в нужде пребывает. Потому и лют зело, а это не к добру. Надо бы уважить князя. Дам тебе список, за ночь соберёте по запасам своим. На месяц другой успокоится всё, тогда уж и о моих выгодах потолкуем. Ведь не за спасибо спасать вас буду, сам понимать должон.
– Это само собой, Василь Филиппыч. Чего ж мы, без понимания, что ль?
– Ну, а уж после виноватых искать станем.
– Ч-ч-чего? – закромщик снова начал заикаться.
Филин развёл руками, давая понять, что по-другому не получится.
– Рано ли, поздно, а обман сей с двойной пашней на божий свет выйдет. Уж если мне сие открылось, так и Захар Лукич дотёмкает. Он, конечно, в хитростях таких не шибко сведущ. Но и не дурак же вовсе, ага. Да и добро утаённое как выдавать станем? Как объяснишь князю, что нынче не было, да вот нашлось? А? Под лавку закатилось? Так что надо загодя решить, кто из вас крайним станет. – Глядя на закромщика, который тут же побледнел, Филин по-хозяйски усмехнулся. – Да не робей, уж точно не ты. Ибо мне наперёд для других важных дел сгодишься. Ты, гляжу, не промах, кашу с тобой варить можно. Так что, коли всё верно делать будешь, правой рукой мне станешь, ага. А это… Захар Лукич-то не вечен. Ему уж ныне много лет. А, кроме меня, у князя боле доверенных нет. Вот и думай, кто тиуном станет. Небось, хочешь подтиунником быть? А?
Закромщик смущённо улыбнулся.
– То-то. – Филин снисходительно похлопал его по щеке, а потом опять крепко ухватил за волосы. – Ну, раз так, думай, кого крайним делать будем. Чего глядишь? Есть среди дворни, кто жить тебе мешает?
Васька не успел договорить, как закромщик встрепенулся и возбуждённо сверкнул глазами.
– Есть, Василь Филиппыч. Очень даже есть. – зашептал он, ладонью обхватив себя за горло. – Во как донял.
Филин одобрительно кивнул.
– Хм… Не ошибся я в тебе, споёмся. Звать-то тебя как, помощник?
Закромщик слабо улыбнулся и впервые за весь разговор сказал спокойно, без испуга:
– Елизар Горшеня.
Глава седьмая
В тот же день, когда Филин вернулся из Водопьяновки, Кудеяр Тишенков покинул Белёв. Сначала он отправился на большой рынок в северной части посада и до обеда бродил там меж лавок и рядов. В итоге взял полокову ржи, осьмину ячменя, гарнец[17 - Старорусские меры объема сыпучих тел: полокова ? 419,84 л (7 пудов ржи = 114,66 кг); осьмина ? 104,95 л; гарнец ? 3,276 л.] соли и ещё за гроши разжился у барахольщиков старой одеждой. Нагрузив покупки на заводного[18 - Заводные – запасные лошади, предназначенные для замены усталых и больных, для немедленного пополнения убыли и для припряжки в труднопроходимых местах.] коня, Тишенков выехал из Завырской слободы на Болховский шлях.
Через одиннадцать вёрст он свернул с наезженной дороги, но перед этим долго и внимательно смотрел вокруг, словно хотел убедиться, что никто случайно его не увидит. Проехав по целине с полверсты, Кудеяр наткнулся на балку шириной в три сажени. Края её поросли непролазной стеной кустарника. Однако Тишенков уверенно направил коня в самую чащу и оказался на узкой, но вполне проходимой тропинке. По ней Кудеяр спустился на дно оврага. Там повернул налево и двинулся по топкой ложбине меж неприступных обрывов, что отвесной стеной вставали с обеих сторон. Шагов через двести слева отвесная стена перешла в пологий склон, по которому кони легко вышли из оврага. Ещё версту Тишенков петлял по дебрям молодых разлапистых кустов, а потом пошла со?гра[19 - Со?гра – угнетенный лес на заболоченной кочковатой местности в поймах рек или на плоских водоразделах.] из корявых сосен и чахлых берёз, меж которых в рост человека стояла трава и кудрявился дикий малинник. Пришлось спешиться и вести коней в поводу. Продираясь сквозь заросли, Кудеяр прошёл три версты и уже ближе к закату попал на просторную поляну, среди которой притаился хуторок.
Невысокий тын с узкой калиткой окружал кусок земли с полсотни шагов в поперечнике. Его почти надвое делили стоящие в ряд ветхие избы с дерновой крышей. На одной половине тесно жались друг к другу пуня ледника, колодец, чёрный от копоти сруб бани с жердяным сушилом для белья и летняя кухня с длинным столом и маленькой глиняной печью под соломенным навесом. На другой одиноко стоял большой крытый сеновал, набитый под завязку. Рядом с ним спокойно ходили на привязи корова с телёнком и три козы, а вокруг встревоженно бегал десяток превосходных скакунов – гривастых ногайских трёхлеток разных мастей.
Когда Тишенков ещё только подходил к плетёной ограде, калитка открылась. В проёме появился босоногий мальчишка в дерюжной рубахе с прожжённой дырой на боку. Щербато улыбнувшись, он обернулся и звонко крикнул куда-то в глубь хутора.
– Дед Лаврентий! Приехал.
Из-под навеса летней кухни выскочил сухой поджарый старик в заячьей епанче, подвязанной верёвкой вместо пояса. Он колченого засеменил навстречу Кудеяру, взволнованно причитая на ходу.
– Слава тебе господи! А то уж он девять дён как здеся торчит. Сказывал, завтра десятый дён жду, не будет – ухожу. А тебя всё нет да нет. Здравствуй, Кудеяр Григорьевич.
– Здорово, Лаврушка. – По-барски небрежно бросил Тишенков, хотя седой собеседник был вдвое старше него. – Такое в белом свете деется, недосуг нос утереть. А ты говоришь – не еду. Ну, где он?
Старик с пониманием закивал и обернулся к мальчишке.
– Прошка, сбегай.
Прошка припустил к средней избе, исчез в ней, и вскоре на крыльце появился мужчина в измятом исподнем. На вид он был степняком: восточная кровь говорила и в темно-бронзовой коже, и в иссиня-черной гриве с широкой проседью, и в разрезе глаз, но их светло-серый цвет выдавал славянина.
– Здорово, Свист. – сдержанно поприветствовал его Кудеяр.
– Алейкум салам… – Свист остановился у ведра с водой и несколько раз плеснул себе в лицо. Он почесал густо заросшую грудь, где на нитке вместо крестика висел деревянный амулет. – Где тя шайтан носит? Мы уж тут дрыхнуть устали.
– Эх, Свист, знал бы ты… – вздохнул Кудеяр, не слишком умело изображая скорбь. – Плохие вести я привёз. Князь наш, Иван Иванович, богу душу отдал.
Лаврентий охнул и уронил мешок с крупой, который только что достал из перемётной сумы Кудеяра. Лицо Свиста осталось бесстрастным, только соломинка, которую он жевал, на короткий едва уловимый миг застыла, но тут уже вновь заходила вверх-вниз. В этом был весь он: ангельская улыбка и добродушие в секунду сменялись холодным волчьим взглядом из-под нависших бровей, и только одному богу было известно, что именно на душе сейчас у этого человека.
– К?к патшалгы. Царствие небесное. – коротко прошептал Свист, перекрестился и тут же заговорил без тени печали в голосе. – И как же дальше?
Кудеяр не ответил, коротким кивком призвал следовать за ним и прошёл под навес летней кухни, где для вечерней трапезы собрался весь хутор: три мужика средних лет, пять женщин и детвора. Тишенков снова жестом дал понять, что чужие уши тут ни к чему, и кухня сразу же опустела. Последним навес покидал Лаврентий, который хотел было остаться, но, поймав выразительный взгляд Кудеяра, последовал за остальными.
– Помянем раба божьего Ивана?
Кудеяр поставил на стол глиняную бутыль с вином. Разлив его по трём деревянным чашкам, убрал одну в сторону и накрыл ломтем чёрного хлеба. Потом залпом осушил свою, занюхал рукавом. Свист только пригубил, но пить не стал.
– Так как же будем?
Кудеяр задумчиво посмотрел на другую сторону хутора, где по загону бегали дикие кони. Каждого из этих скакунов в Москве за пять рублей оторвут с руками, а ежели с умом поторговаться, так можно взять и пять с полтиной. Вот только если вести их в столицу по столбовым дорогам, то на мытное пятнание, мостовщину с превозом, замыт с явкой, костки и другие подати, а также взятки на таможенных заставах уйдёт не меньше гривны. Если учесть, что в степи подобных коней отдавали по два-три рубля, то чистой выгоды от такой продажи при самой удачной сделке выйдет полтора, из которых ещё нужно вычесть долю погонщиков, плату за ночлег, корм на стоянках и прочие расходы. Одним словом, после всего на руках останется сущая мелочь.
Но можно за бесценок взять скакунов у степного конокрада, а потом провести небольшой табун по тайным тропам в обход таможенных застав. Такая торговля принесёт гораздо больше. И Свист, который сейчас сидел напротив Кудеяра, как раз был настоящий мастер заповедных[20 - Заповедные дела – контрабанда.] дел. Он водил знакомство с разным кочевым людом и мог пройти через всю степь с закрытыми глазами. Но главное – он знал тайный брод через Оку. Купить или выменять у степняков коней могли многие, но вот провести их к ярмаркам в обход застав – это сделать мог только Свист.
Кроме него, про переправу знал ещё покойный князь Белёвский. Он то и открыл этот секрет Кудеяру, которого шесть лет назад поставил при себе управителем заповедных дел. Специально под них заложили этот хутор – он не значился ни в одной писцовой книге и располагался близ Оки средь глухого леса в таком пограничье, что, случись разбираться, даже самый въедливый чинуша не смог бы определить, кому принадлежит эта земля – Белёву или Бобрику. Люди сюда попадали особые. Такие, которых за пределами хутора никто не ждал, или, наоборот, жадно стерегли, чтобы предать суду. Вроде хозяина здесь был дядька Лаврентий, когда-то давно сбежавший из родных мест, случайно став душегубом. И прошлое других обитателей хутора было ничуть не лучше.
Всё работало просто. Свист пригонял диких коней, их прижигали княжеским клеймом, ковали и уводили в Перемышль, где отдавали знакомым купцам по три рубля, имея прибыль по два целковых с каждой головы. С первой оттепели до самой зимы, пока степь не укрывал снег, делавший ее непроходимой, Свист появлялся на хуторе пять-шесть раз. Выходило, за год Иван Иванович Белёвский получал сто двадцать рублей чистого дохода. Свою выгоду имел и Свист, и даже Кудеяр. Но смерть князя ставила заповедную торговлю под угрозу.
– Барыш не хотелось бы терять… – признался Тишенков и посмотрел на Свиста. – Однако ж, новый князь свой порядок заводить желает. Без году неделя княжит, а уж всех придушил до нетерпения. Чую, погубит он всё. Ежели не со зла, так по глупости.
В конце короткой речи голос Кудеяра дрогнул от обиды – он вспомнил спор с Клыковым, когда тот подбивал ослушаться князя. Ведь Тишенков тогда не просто так пошёл супротив десятника. Он рассчитывал, что новый голова оценит эту помощь и, коль скоро ему нужны новые десятники, одним из них непременно сделает его, Кудеяра. А у него и подарок на этот случай князю готов – заповедная торговля лошадьми и сто двадцать рублей барыша в год. Но с тех пор прошла неделя, а Тишенков так и остался простым послужильцем. Вот почему он решил уйти от князя, благо три рубля для выкупа кабального письма с последней продажи заповедных лошадок приберег.
– К чему ведешь? – просто спросил Свист.
– Княжеские клейма у меня. Поддельные мытные знаки тоже. В Перемышль коней я водил. Купцов тамошних знаю. Вот и выходит, что князь энтот нам – всё одно, что пятая нога корове. Сами можем делать всё. Без князя. И долю его промеж собой делить.
– Менэ ничек. Вот оно что… – Под пристальным взглядом Тишенкова Свист даже бровью не повёл. – Барыш делить – это хорошо. Только как мы его делить станем?
– Поровну. – с готовностью ответил Кудеяр. – Всё, что сторговали, поровну делить.
– Ну, это, брат, не совсем правильно выходит… – усмехнулся Свист. – Ты ж один, а нас четверо. Где же справедливость?
За прошедшие дни Кудеяр много раз представлял себе этот разговор и был готов к такому повороту.
– Один-то я один, да забот на мне много боле, чем на вас, вместе взятых. – спокойно возразил он. – Так что без меня не сладить вам.
– Салу, дускай. – Свист сдержанно рассмеялся. – Брось, дружок. Мнишь, мы этаких красавцев без тебя сбыть не сможем?
Свист лукавил. Ногайские кони, конечно, товар ходовой, но без Кудеяра шайка не сможет найти покупателя. И даже если сильно повезёт, без княжеской тамги и поддельных мытных пятен цена окажется такой, что едва покроет расходы. И Кудеяр это тоже знал.
– Да, не сможете. – уверенно возразил он. – В города вам не сунуться. С вашим-то рылом. Купцов не знаете. Тамги и пятен нет. Так что не обойтись вам без меня. Нет, не обойтись.
– Тебе без нас тоже.
– Согласен. Потому и предлагаю поровну. Мог бы без вас обойтись, так не предлагал бы вовсе.
Свист взял со стола тонкий стебель зелёного лука, неспешно макнул его в солонку, с хрустом откусил белую головку и принялся жевать. Согласиться с Тишенковым для шайки означало получать по два рубля с каждого коня. А ведь когда имели дело с князем, им доставалось меньше одного. Казалось, тут и думать нечего, но какой же лихой разбойник согласится взять малое, не замахнувшись на большое.
– Нет, дускай, не по совести сие. Тем паче, я за этих коней степнякам уже десять гривен серебра отдал. Ежели нынче ты их за три рубля продашь, и мы сие надвое разделим, так, выходит, ты в пятнадцать рублей барыш возьмёшь, а мы пять. Где же справедливость?
Этот простой вопрос смутил Тишенкова. Он закусил губу и нервно хрустнул пальцами. Глядя на него с улыбкой, Свист продолжил:
– А ещё о риске не забудь. Он тоже денег стоит. Оно же нынче как выходит: ты на кон ничего не ставишь. А я – голову. Что ежели ты обманешь, коней сведёшь, да с деньгами сгинешь? Как тогда? Кто вот им за обман ответит?
Свист кивнул в сторону колодца, где уже собрались его ватажники: натянутый, как тетива, Вадим Печора; мордвин Викай и Давыд, который прозвище Меченный получил за то, что на обеих щеках у него чернели выжженные буквы «Т», а на лбу «А». Если сложить их, получалось «Тать». Так метили воров, пригнанных в казённые каменоломни на вечные работы. Как Давыд с таким клеймом оказался на свободе – никто и не спрашивал.
Каждый из них признавал старшинство Свиста и не перечил ему, когда доходило до важных решений. Но это только до первой промашки. Таков уж неписаный закон – если промахнется вожак, лишит подельщиков удачи, век его будет недолог. Возможно, Вадим Печора, с которым Свист знался больше десятка лет, один раз и закрыл бы глаза на вину старого друга, но от Викая такого не жди. Свирепый мордвин однажды в кабаке выдавил глаза незнакомцу, только заподозрив, что тот жулил в зернь[21 - Зернь – азартная игра] со ставкой в полушку[22 - Полушка – мелкая медная монета в четверть копейки, самая мелкая неделимая денежная единица в Древней Руси].
– Так что не крути, дускай. В нашем промысле закон простой. Кто на кон больше ставит, тому и доля с барыша больше. Вот так-то. А посему выходит, нам семь десятин, тебе три. Вот как по правде будет. А ежели хочешь пополам, тогда гони червонец, как твой князь делал. – Свист усмехнулся и добавил. – Тогда и сам князем станешь.
Кудеяр от возбуждения клацнул зубами. Внезапно к нему пришла смелая мысль. Все купцы, с которыми он от имени князя имел дело, кроме торговли, ещё давали в рост[23 - Деньги в рост – кредит, лихва – проценты.]. Лихву, правда, начисляли безбожную – за год половину от выданной суммы. Так что, сейчас взяв у них десять рублей, следующей осенью придётся отдать пятнадцать. Для большинства такой долг превращался в неоплатную кабалу. Но ведь у Кудеяра есть заповедная торговля. Если за следующий год Свист сходит в степь пять раз, как это обычно бывало, то к осени Кудеяр соберёт пятьдесят рублей. Таким доходом может и не каждый князь похвастаться.
– Что ж, Свист. Тогда жди с деньгами. – Тишенков решительно провёл ладонью по поверхности стола, сметая крошки хлеба. – Но уж после не взыщи. Уж коли весь риск на мне будет, так и про торговлю нашу решать тоже я стану.
Глава восьмая
Свой первый настоящий княжеский совет Андрей Петрович собрал на тридцатый день пребывания в Белёве. За это время горница терема сильно изменилась. Место большого стола, за которым обычно для трапезы собиралась не только семья, но и близкая челядь, теперь занимали одинокий стул и стол – небольшой, но сплошь заставленный серебряной посудой. Глухую стену закрывал разноцветный персидский ковёр с пышными кистями на углах. Раньше он висел над кроватью в княжеской опочивальне, но там его никто не видел, поэтому новый хозяин распорядился перенести столь ценную вещь туда, где он собирался встречать гостей. А большое кресло, что так приглянулось князю в день его приезда, теперь переместилось в центр покоев.
На совет, который Андрей Петрович назвал большим, собралось всего-то три человека. Огнищный тиун Захар Лукич устроился на широкой лавке у окна и задумчиво листал настоящие посошные книги, что на днях случайно нашлись в одном из амбаров. Десяток пухлых фолиантов лежал в коробе, который покоился в самом дальнем углу, под ворохом мешков, корзин и туесов со всякой всячиной. Филин вальяжно развалился на печи и тусклым взглядом, без большого интереса следил за юной сенной девкой, что суетилась у стола. Васька заприметил её в первый же день и с тех пор не давал прохода, но, вернувшись из Водопьяновки, внезапно потерял к ней интерес и теперь, глядя на статную холопку, вспоминал Акулину Хапутину и… огорчённо вздыхал.
Третьим участником совета стал Елизар Горшеня. Именно он, конечно, по случайности нашёл верные книги и тут же принёс их князю. А заодно подробно объяснил, зачем прежний тиун вёл двойную запись. Казна этим не наполнилась, но отныне всё встало на места, так что Андрей Петрович на радостях и с ловкой подачи Филина тут же сделал закромщика старшим подтиуном и по каждой мелочи стал спрашивать его совета. Поэтому, когда встал вопрос, что делать с челобитной водопьяновцев, первым делом князь дал слово Елизару.
– Тут ведь, Андрей Петрович, не тако просто дело… – Горшеня говорил медленно и важно, иногда со значением поднимая вверх указательный палец. – У тебя в казне без того шаром кати. Как три года без оброка?
– Ну, чай, не одна Водопьяновка закрома наполняет. – вставил Захар Лукич, не отрываясь от книг.
– Да это ж наперёд известно, как сложится. Другие как прознают, что ты одним дозволил на третье поле перейти да от тягла ослобонил, – ого! Потонешь в челобитиях. Что ж ты, Захар Лукич, всем оброк простишь? А коли кому откажешь, так они с земли подымутся. А как же, не холопы ведь. Вольны уйти, ежели что не в них. Вот и выбирай. То ли смердов ублажить, то ли казну наполнить.
– Так ведь то-то и оно. Я же ведь, Андрей Петрович, посчитал тута, что да как. – Захар Лукич постучал ладонью по раскрытой книге. – Ежели все княжьи пашни на три поля перейдут, так это ж урожая чуть ни вдвое больше будет. Уж три года передюжим, небось как-то. Зато после-то.
Андрей Петрович выслушал тиуна и вопросительно посмотрел на Горшеню. Тот снисходительно усмехнулся и покачал головой.
– Не в обиду тебе, Захар Лукич, не в упрёк, да вот сразу видать, что в большом хозяйстве ты отродясь не тиунил. Урожай-то, каким бы ни был, он ведь в селе остаётся. А оброк един и берут его не с урожая, а с пашни. Нынче урожай жидкий, казна княжеска пуд ржи и овса с каждой десятины получит. А в будущий год пахари, глядишь, втрое больше соберут. Да князь от них получит такожде. Ибо пашни-то больше не стало. Так что от третьего поля смердам выгода, а князю нашему – всё одно. Андрей Петрович сколь получал оброка с Водопьяновки, столь получать и будет.
– Это что ж выходит? – насупился Бобриков. – Я за счёт своей казны для смердов сытну жизнь купить должон?
– Именно. – Горшеня хлопнул в ладоши. – Так и есть, Андрей Петрович. Потому и говорю, на что тебе маета сия? Смердова беда, так пущай они и чешутся.
Захар Лукич разочарованно поджал губы, но сдаваться не спешил:
– Ну, коли нашей казне прибыток с четей, так пущай смерды не в три поля переходят, а нову пашню чистят.
Горшеня в ответ только рассмеялся.
– Ты, Захар Лукич, думаешь, спроста князь покойный ложны книги завёл? Вот настоящие в руках нынче держишь. Ну-ка, сочти, сколь по ним Андрей Петрович должон людей в царёво войско кажный год давать. Сотню? А то и боле. И каждому двух коней да прокром ещё. Это не мене червонца. На каждого. – Горшеня назидательно потряс пальцем. – А ты говоришь, давай, мол, ещё пашней прирастём. Коли так сделать, то на государеву службу таков расход станет… Андрей Петрович вовсе без портков останется.
– Ну ты меня тоже дыролбней не держи. – взвился Захар Лукич. – Вы ж прежде пашню от московских дьяков как-то прятали. А что ж нову так не спрятать?
– Эка. Московским дьякам поля наши правильно считать блеск серебра мешал. Кажный год, почитай, пятнадцать гривен на посулы уходило. А ежели нынче пашня вдвое вырастет? Так и серебра вдвое больше надобно. Опять же, где брать при казне пустой?
– Ну всё, будет. – постановил Андрей Петрович. Он уже устал слушать пререкания и каждый новый довод тиуна принимал с нараставшим раздражением. – Ты, Захар Лукич, тоже подумай. До тебя, небось, не дурак какой делами ведал. Так что… На том и забудем, про челобитную. Глупость, смердовы хотелки.
– Верно, Андрей Петрович. – поддакнул Горшеня. – А ежели хочешь казне прибыток сделать, так для того других путей множество. Вон, переправа под Жермином. Можно перевоз поднять. Даже ежели с каждого парома на полушку больше брать, на чох за год рублей двадцать прибытка. А ещё побережный сбор ввести. На перевозчиков тягло возложить. Вот где жила настоящая. Трудов, почитай, и нет совсем, да серебро как из воздуха капает. А новы пашни чистить, на три поля пахарей переводить… Сие всё такая маета. Князя в расход введёт, а прибытка не даст. Ежели какая копейка и придёт с этого, так лет через двадцать не ранее.
– Ну нет, столь ждать мне под силу. – отрезал Андрей Петрович.
– А с людями как быть? – осторожно, но настойчиво спросил Захар Лукич. – Голодать же станут.
– А это не моя печаль! – резко оборвал его князь и стукнул кулаком по подлокотнику. – Не любо при мне, пущай идут, вон, в Дико поле. Там и земли полно и оброк брать некому. Всё, Захар Лукич, не упрямствуй. Ты, как-никак, мой тиун и наперёд всего о моей казне думать должен. А не про то, как смердам угодить. Так, аль нет?
– Так. – обиженно буркнул Захар Лукич.
– А коли так, лучше воров мне сыщи. – строго продолжил Бобриков. – Кто до приезда нашего из амбаров растащил всё? Вот чем займись. Пользы боле будет.
При упоминании о пустых амбарах, Горшеня потемнел лицом и со страхом посмотрел на Филина. Васька промолчал весь совет, но тут встрепенулся, откашлялся.
– Это сыщем, Андрей Петрович, не сумневайся, ага. Уже след взял. Не уйдут тати.
– Вот, Захар Лукич, Ваську в пример возьми. Он хоть делом занят. А от тебя покуда проку мало. – Укорив тиуна, Андрей Петрович повернулся к Филину. – И когда я вора сам узрю?
Васька пожал плечами:
– Ну, спешить в таком деле не к добру. Но, мыслю, через недельку, дней через десять попадётся гад.
Глава девятая
За две недели до назначенных поминок из Бобрика пришли тревожные вести. У Ленивого брода заметили степняков. Десяток всадников подошёл к самой реке, покрутился на берегу, а один смельчак даже сунулся в воду. Правда, заметив караульных, поспешил назад. Нукеры ускакали на полёт стрелы и оттуда долго наблюдали за переправой, а потом двинулись вверх по руслу.
Тонкой сразу оживился – ему не нравилось в Белёве. Вся жизнь старого рубаки прошла в маленькой убогой крепостце, где он знал всех и каждого, а в чужом городе с его большим детинцем, роскошным теремом и высоким каменным собором Сидор ощущал себя не человеком – муравьишкой. Потому, едва дослушав рассказ гонца, ратный голова тут же предложил отправить на рубеж княжеских владений всех послужильцев.
Правда, Андрей Петрович это не одобрил:
– А здесь кто останется? Отныне это стольный град. Случись чего, кто ж защищать станет?
– Ленивый брод – на весь рубеж одно такое место, где малой силой большую сдержать можно. – рассудительно заметил Тонкой. – А коли перейдут нукеры Бобрик, так, поди, после споймай их. Гоняйся тады по всей земле. Поля сожгут, деревни пограбят, людей полонят. А ежели сие случится, когда гости здеся будут? Тогда как?
Андрей Петрович слушал и несогласно качал головой. В глубине души он не хотел, чтобы белёвские холопы увидели, из какой убогой глухомани к ним приехал новый господин. Но последний довод Тонкого убедил князя.
В тот же вечер начались сборы, а уже на рассвете следующего дня три десятка всадников покинули Белёв и к закату достигли Бобрика. Тонкой сразу же взялся за дело. Сначала распустил старые десятки и собрал их заново, к семи белёвцам добавляя трёх бобричан, один из которых становился головою.
Бывший десятник Клыков уже простым воином попал в десяток Корнила Бавыки. Исполинского роста богатырь, в огромных лапищах которого тяжёлая двуручная секира смотрелась хрупкой соломинкой, болтать попусту не любил и объяснялся в основном жестами, из-за чего Фёдор поначалу принял его за немого. Зато когда Бавыка говорил, его, казалось, слышали даже глухие. Настолько мощный и громкий голос даровал ему господь.
Пудышев в головы получил Ерофея Чередеева, которому товарищи дали странное прозвище – кроткий Буслай[24 - Буслай – бешенный, яростный человек.]. Глядя на то, как в схватке он нещадно и яростно рубил всех попавшихся под руку, никто бы не поверил, что это тот же самый Ерофей, который за обедом, как бы скуден он ни был, обязательно откладывал кусочек хлеба, чтобы после покрошить его в птичью кормушку.
Корнил и Ерофей приняли новость о своём десятстве без особой радости. Бавыка безразлично пожал плечами, а Чередеев даже невесело буркнул под нос, мол, за большую честь и спрос велик. А вот третий десятник – Филат Шебоня, к удивлению белёвцев, даже попытался отказаться.
– Сидор Михалыч, ты это… Не подумай чего. Ежели тебе надобно, я хоть чёртом стану. – сбивчиво, явно смущаясь, объяснял он. – Токмо… Вот как бы… А с огнебоем в Белёве как?
– Уфффф… – Тонкой скривился, будто от зубной боли.
Филат Шебоня был отличным лучником. Он пускал точно в цель четыре стрелы за то же время, пока другие возились с двумя, чтобы одной из них промахнуться. Но пять лет назад волей случая Шебоня увидел стрелецкий полк и большой государев наряд[25 - Большой государев наряд – особый артиллерийский полк, который состоял из крупнокалиберных пушек и полевых орудий, и содержался за счёт государственной казны.]. И потерял покой. Пороховой бой так впечатлил Филата, что любой разговор о ратном деле он неизменно сводил к пищалям и ручницам.
– Погодь ты с этим, Филат.
– Да чего ж годить, Сидор Михалыч? – затараторил Шебоня.
Он уже успел расспросить белёвцев, с интересом выслушал их рассказ об огромных стенах, стрельнях, башнях с бойницами и пришёл к выводу, что в такой крепости непременно есть пушки. Хотя бы одна.
– Нет, десятником оно конечно. Коли надобно, так что ж. Но ежели огнебой есть, ты меня лучше над ним поставь. Уж я тогда так расстараюсь…
– Поглядим. Покуда важней дела есть. Принимай десяток.
Вернувшись в родные места, Сидор расцвёл и приободрился. А вот белёвцев Бобрик вогнал в уныние. Почерневший от времени тын детинца, покосившийся терем с просевшей в середине крышей, на посаде нищета и запустенье. Всё это против воли внушало невеселую мысль: если князь жил в этакой дыре, не доведёт ли он их город до того же. Однако, вскоре началась служба и водоворот привычных дел не оставлял для размышлений ни времени, ни сил.
Первым делом Тонкой отправил Бавыку и его людей вверх по руслу Бобрика. Убедиться, что степняки не перешли реку где-нибудь ещё. Десяток Ерофея, который считался лучшим следопытом этих мест, ушёл в сторо?жу до самой речки Злакомы, посмотреть, а нет ли в степи других незваных гостей. А тем, кто остался на Ленивом броде, предстояло нести караул и поправлять обрушенные за год укрепления.
В самый разгар работ неожиданно с посланием приехал Филин. Князь требовал, немедленно вернуть один десяток. На удивление Тонкого Васька пояснил, что совсем скоро в Белёв приедет царский посланец. Из самой Москвы. И как же Андрей Петрович будет его встречать, если в городе ни одного послужильца? Всё это могло обернуться большим позором.
И хоть ратников на броде не хватало, Сидору пришлось подчиниться и отдать Ваське людей Шебони. Однако, Филин отказался. Он подробно расспросил о новых десятках и заявил, что прислан именно за Бавыкой. Ведь Андрей Петрович вряд ли сможет удивить московского гостя числом своей рати. Даже если поставить в караул всех послужильцев разом – столичный человек, без сомнения, видел дружины гораздо больше. А вот такого красавца-богатыря, как Корнил, во всем верховском порубежье не сыщешь.
– Так он до самых Близненских дворов пойдёт. – сообщил Тонкой. – Почитай, двадцать вёрст в один конец. Так что не раньше пятого дня вернётся.
– Так гонцом кого пошли. – настоял Филин.
Сидор с озабоченным видом почесал косматый затылок.
– Бобка!
Уже через мгновение перед Тонким возник Борис Замятин, а попросту Бобка – младший дружинник 15 лет отроду. Худой, в рубахе будто с чужого плеча, но с кинжалом на боку – пусть из дрянной стали и с деревянной ручкой, – но вид он имел такой, будто носит за поясом дорогой дамасский ханджар.
Держался Бобка гордо, с достоинством, но при этом по-собачьи преданно смотрел на Тонкого и подражал ему во всём: в походке, в привычке во время разговора заправлять большие пальцы рук за пояс и даже манерой говорить чуть слышным полушёпотом.
– Давай-ка, возьми коня пошибче и ветром за Бавыкой мчись. – распорядился Сидор.
Бобка засиял от радости, кивнул и во всю прыть припустил от реки к городу. И не успел Филин проехать полверсты от Ленивого брода до слободы, а Замятин уже верхом выскочил из посада и помчался вдоль Бобрика на поиски Бавыки.
Десяток Корнила вернулся тем же вечером, а следующим утром снова отправился в путь и после полудня оказался в Белёве. На городском посаде Фёдор Клыков отстал от товарищей – заехал на торговище и купил там три малиновых леваша[26 - Леваши – постное русское лакомство: толчёные ягоды, высушенные в натопленной печи в виде лепешек.]. Знал, что вечером Семён уговорит отпустить его на гулянье, где, конечно, встретится с Ладой. Но сам-то он слишком молод, чтобы додуматься и купить невесте гостинец.
Семён встретил отца на дворе. Радостный и беззаботный. Несмотря на юный возраст, в стати он запросто мог потягаться со взрослым. Этим Семён пошёл в родителя: тот же разворот могучих плеч; те же мускулистые руки и большие тяжёлые кулаки. Да и на лицо это был тот же Фёдор, лишь на двадцать лет моложе, вот только цвет глаз ему подарила покойная мать – вместо карего они светились ярко-голубым.
При виде сына у Фёдора сладко защемило сердце, но Клыков считал, что будущий воин должен расти в строгости, без всяких нежностей, поэтому сухо распорядился:
– Прими коня. – Но всё же не сдержался, чуть заметно улыбнулся и потрепал сына по каштановой гриве.
Семён взял лошадь под уздцы и повёл в сарай. Фёдор вошёл следом, хозяйским взглядом окинул козу, кур на насесте и вышел. Как раз в это время во дворе появилась Марья Пудышева.
– О, здорово, соседка.
– Храни тебя бог, Фёдор Степанович. – Марья слегка склонила голову. – Не серчай уж на меня, не удержалась вот. Вижу, приехал. Дай, думаю, зайду, поспрашаю, как там Ванюша мой.
– А чего ему сделается? – ответил Фёдор с доброй усмешкой. – Да ты зря не думай. Нынче в рубежах спокойно, не видать степняка. Так что служба – не бей лежачего. Токмо знай, что наливай да пей.
Пока он это говорил, через дыру в ограде прошмыгнула Анна, а за старшей сестрой хвостиком потянулась и Настя.
– А вы-то чего? Вот ведь непоседы! – Марья всплеснула руками и для вида даже насупилась. – Пошто деда оставили? Ещё натворит чего без досмотра. Анютка, тебе хоть что доверить можно?
Фёдор улыбнулся, глядя на то, как Анна виновато супилась и пыхтела, а Настенька пряталась за спину старшей сестры.
– А тут вот батька ваш гостинец передал. – Клыков достал оттуда свёрток с левашами. – Ну-ка, держите, да бегом домой.
Анна с горящими от восторга глазами приняла сладости, по-взрослому приложила маленькую ручонку к груди и поклонилась важно, но неуклюже и смешно.
– Благодарствую, Фёдор Степанович.
– Так это я вам благодарствую, Анна Ивановна, что за Сёмкой пригляд ведёте. А то он ведь оболтус тот ещё. Без присмот…
С грохотом распахнулись ворота. Одна их створка с такой силой ударилась о стену сарая, что с треском лопнули доски, а искорёженный запорный крюк упал на землю. Марья вскрикнула, в испуге бросилась к дочерям, обняла их, закрыла собой. Фёдор тоже шагнул вперёд и встал между детьми и остатками ворот. Рука по привычке легла на саблю. Но тут в открытом проёме появился Корнил Бавыка в доспехах и с неизменной своей секирой. За десятником прятался Васька Филин, рядом с ним суетился ещё один послужилец из Бобрика, а дальше, уже на дороге толпилась дюжина огнищан, среди которых Клыков разглядел будущего тестя – Горшеню.
Бавыка прошёл на двор, держа секиру по-боевому, в обеих руках.
– Ты это, Фёдор, не дури, да. – произнёс Корнил мягко, но настойчиво
Фёдор недоумённо округлил глаза и пожал плечами:
– Ты про что, Корнил? Скажи толком.
Бавыка смущённо поморщился, вздохнул и нехотя кивнул на Филина.
– Тут вот, Василь Филиппович говорит, будто ты вор и князю нашему изменник.
Фёдор улыбнулся. Настолько нелепо это прозвучало. Но хмурый взгляд Бавыки и плотная шеренга огнищан, что обступили Клыкова полукольцом, подтверждали, что Корнил не шутит.
– А ты как думал, шелупонь? – Филин вышел из-за спин рядцов, но встал чуть позади Бавыки, с опаской косясь на руку Фёдора, что по-прежнему сжимала рукоять. – Харч княжеский из амбаров таскать разве не измена? Как есть измена, ага. И кто на таком пойман, тот вор. Самый что ни есть истинный.
– Да ты чего несешь-то? Какой харч?
– Ну ты невинну овцу из себя не корчи. – жёстко отрезал Филин. – Лучше повинись добром. Тогда и мы, глядишь, лютовать не станем.
– Так знать бы, в чём вина. – честно признался Фёдор.
Васька с расстроенным видом покачал головой.
– Как скажешь. Коли так, искать будем, ага.
Филин отступил за Бавыку и коротко кивнул ему. Корнил положил огромную ручищу Фёдору на плечо.
– Не обессудь…
Подоспевший послужилец виновато посмотрел на Фёдора. Тот не сразу понял смысл этого взгляда, а когда догадался, согласно кивнул и сам расстегнул пояс с саблей. Васька взял оружие Клыкова и заговорил уже смело, без опаски:
– Ну, чего церемонитесь с ним, будто с князем?
– И сыну скажи, чтоб не дурил. – попросил Бавыка.
Клыков оглянулся на сарай. В открытых дверях стоял Семён с вилами в руках. Перехватив его взгляд, Фёдор лёгким кивком призвал не сопротивляться. На какое то мгновенье Семён заколебался и в порыве даже, наоборот, сильнее сжал древко. Но потом заметил в толпе Елизара, и присутствие будущего тестя обнадёжило Семёна. Он опустил вилы, отшагнул в сторону, пропуская в сарай огнищан. Последним, пряча взгляд, прошмыгнул Горшеня, но уже через несколько мгновений он вернулся, волоча по земле большой мешок, за которым тянулся белёсый шлейф мучной пыли.
– Вот! – торжествующе объявил он. – В сене спрятал, вор. Там ещё с полдюжины, не меньше. И прочего добра имеется.
– Ну? – Филин с вызовом посмотрел на поражённого Клыкова. – Нынче понял, что за измена?
Бавыка разочарованно вздохнул. Конечно, Фёдора он знал всего пару недель и ручаться за него не мог. Но зато с Васькой Филином Корнил был знаком уже десяток лет и верить ему на слово никогда не стал бы. Но теперь, когда в сарае нашли воровской схрон, как уж не поверить.
– Как же это? – тихо спросила Марья, растерянно глядя на Фёдора.
– Сам не ведаю… – честно признался Клыков. – Отродясь не видал.
– Ага, само в сене народилось. – подсказал Филин с язвительной усмешкой. – Ну да ничего. Посидишь в темнице, вспомнишь, как и с кем воровал. Ну, чего встали? Вяжите его, да на правёж поведём.
Глава десятая
Шла последняя неделя сентября, в природе наступила та пора, когда два времени года сходятся и правят миром попеременно. Днём стояло бабье лето, воздух наполнялся приятным теплом, а ночью на землю сплошным покрывалом ложился серебряный иней, и по утрам над Окой клубился холодный туман. Дожди ещё не пришли, стояло крепкое вёдро, но вместо белоснежных облаков всё чаще серую муть небосвода застилали тучи. Лес не спешил сбрасывать летние одежды, кроны деревьев игриво шумели в порывах ветра, но в зелёной гуще уже появились первые жёлтые точки высохших листьев и красным пятном проступали гроздья рябины. Луга и поляны ещё украшал пёстрый узор последних цветов, но в изумрудном море всё шире становились островки жухлой поникшей травы.
Спустя две недели после первого визита Филин вновь прибыл в Водопьяновку. Он въехал в село чуть за полдень и, оказавшись у старой берёзы с ликом Сырой Богородицы, против воли придержал коня. Перед его мысленным взором встали картины, что все четырнадцать дней не давали покоя и пятнадцать ночей являлись во снах. Но если всё получится, как он задумал, то уже сегодня к вечеру мечты станут явью.
Старшину Филин нашёл в общинной клуне[27 - Клуня – хозяйственная постройка для молотьбы и хранения хлеба.]. Большой дощатый помост застилали снопы овса. Вокруг плотным кольцом стоял десяток мужиков в мокрых от пота рубахах и до колен засученных штанах. Над их головами в пыльном воздухе мелькали колотушки цепов. Размеренная дробь глухих ударов сливалась в оглушительный грохот. Чуть поодаль несколько женщин в один большой стог метали охапки уже обмолоченной соломы. Под ногами у работниц копошилась ребятня, по одному собирая просыпанные зёрна. За всем наблюдал Мефодий Лапшин. Дряхлый старик ни мгновенья не стоял на месте. Он то помогал мужику скорей заменить поломанное било; то суетился среди женщин, сгребая в кучу отдельные стебли; потом забирал у детишек лукошки с зерном и подавал пустые.
Акулина тоже была здесь – стоя у развалистой копны, ловко управлялась с деревянными граблями. Задранный подол обнажал икры, испачканные землёй. Мокрая серая рубаха облепила тонкий стан. Заметив девушку, на миг Филин перестал дышать и даже услышал стук собственного сердца. Внизу живота сладко заныло, по телу побежала тёплая волна приятной дрожи.
– Здорово, работники.
Сельчане замерли. В бездыханной тишине, среди которой тихо жужжали осенние мухи, а ветерок едва слышно теребил солому, Васька нарочито неспешно сошёл с коня, поправил кафтан, одёрнул саблю и бережно провёл ладонью по небольшому мешочку, что висел у него на поясе. Мужики, женщины и даже дети настороженно смотрели на чужака.
– Ну, здорово, Мефошка. – Филин прошёл по ещё необмолоченным снопам, отчего лицо старшины болезненно скривилось, будто топтали его самого. – Вот, приехал, как обещался. Пойдём, что ль, об деле потолкуем, ага?
Старший Лапшин мотнул почти лысой головой.
– Некогда, мил человек. Вишь, работы сколь. Не дай Бог погоде спортиться, вот и поспешаем. Говори здеся, пошто приехал. Коли про общинные дела, так при общине и рядить станем.
Васька недобро усмехнулся. Прилюдный разговор в его расчёты не входил. Он не то что бы хотел оставить втайне цель приезда. Просто считал, что склонить старшину к согласию будет проще наедине, чем при всей общине. Однако упрямый нрав семейки Лапшиных он узнал уже в прошлый визит, а потом ещё наслушался про них от закромщиков Белёва. Потому возражать не стал – понимал, что бесполезно.
– Ладно, что ж. Могу и при общине, ага.
Филин открепил от пояса мешочек и достал из него свиток. Со значением посмотрел на старшину, потом медленно развернул бумагу, картинно откашлялся и начал:
– Вот, Мефошка. В бумаге сей по всем утайкам вашим и ви?нам подсчёт сделан. В писцовых книгах значится, что вы последние пять лет оброк на семьдесят четей платили. Тогда как пашни у вас втрое больше. Воровали, то бишь, ага. Отсюда подсчёт простой. Выходит, за прежние неправды долга на вас встало тридцать кулей[28 - Куль – старорусская мера объёма сыпучих тел. 1 куль: ржи – 9 пудов + 10 фунтов ? 151,52 кг; овса – 6 пудов + 5 фунтов ? 100,33 кг.] ржи. И столько же овса. Да за нончий год ещё по десять кулей. Вот и считай, Мефошка, коли смогёшь, ага.
Лапшин побледнел, тонкие бесцветные губы мелко задрожали, в остекленевших глазах застыл ужас.
– Да как же? Это ж чего? Это ж… Разорение. – Постепенно дар речи возвращался к старшине, но говорил он запинаясь и тяжело глотая после каждой фразы. – Да мы в лучший год по две осьмины с чети собирам. А нонче неуродно вышло. Этак нам всё из сусек выгрести придётся. Мало – жрать неча будет, так и на семя не останется.
– Ну ты эти жалости оставь. – Филин махнул рукой. – Хорошо было князя обирать? Нынче ответ держать пришло, ага.
– Да как же мы обирать могли? – взвизгнул Лапшин. – Нам сколь скажут дать, столь и давали.
– Не знаю, моё дело маленькое. – ответил Филин со скучающим видом. – Сказано известить воров. Вот, извещаю. А уж как вы там обойдётесь – это без меня, ага.
Мефодий беспомощно повернулся к односельчанам. Те смотрели на старшину с непониманием и страхом. Из них мало кто умел считать до десяти, но даже самый тёмный дурачок во всей деревне сознавал, что такой долг для общины станет приговором.
– Да за что ж вы нас так? – едва слышно прошептал Мефодий.
Старшина закачался. Его сначала сильно шатнуло назад, потом повело в сторону, после чего старик медленно осел на подогнувшихся ногах. Лапшин непременно упал бы, но его успел подхватить молодой и крепкий мужичок.
– Тихо, тихо, батя, я это, Матвей.
Матвей подхватил отца под мышки, помог ему сесть. Тут же старшину окружили общинники. Кто-то махал на Мефодия юбкой, кто-то брызгал водой в лицо и, глядя на эту суету, Филин решил, что настало время сделать следующий шаг:
– Ох, пропаду я через жалость свою, ага. – простонал он, закатив глаза. – Не моё, конечно, дело, но… Так и быть. Могу я перед князем слово за вас молвить.
На короткое мгновенье вновь повисла тишина, но очень быстро она сменилась возбуждённым ропотом, в котором слабая надежда мешалась с подозрением.
– И что? Так-таки весь долг отпустят нам? – Сын старшины недоверчиво сощурился.
Внешне Матвей не имел с отцом ничего общего: высокий, мускулистый и буйно кудрявый против стариковской немощи и полного отсутствия волос. У младшего Лапшина даже борода росла иначе, не редким клинышком, а густой лопатой медного оттенка. Но при этом все ухватки, жесты, голос и даже манера говорить ему достались от родителя.
– Ну уж… прям отпустят. – хмыкнул Филин. – Прост ты, братец.
Васька помедлил. Делая вид, что с головой погружён в нелёгкие раздумья, он прошёлся вдоль снопов, постоял возле кучи обмолоченной соломы, потом также неспешно вернулся и осторожно присел на короб с семенами.
– Ну вот что скажу. Долг отпустить, конечно, не отпустят. Такого обещать не стану, ибо не кудесник я, ага. Закромщики у князя те ещё мироеды. Но вот убедить их, что вам взаправду отдать нечего, это мне по силам. А коли так, уговорю Андрей Петровича, дабы вместо оброка закупа[29 - Закуп – человек, попавший в долговую кабалу и обязанный своей работой вернуть полученную «купу».] из общины вашей взял. Зимой на поварне да в портомойне рук не хватает, ага. Подсобник лишним не станет. Да и вам хорошо. Никак одним человеком рассчитаться проще будет, чем всё зерно отдать. Верно ведь?
Крестьяне задумчиво молчали. С одной стороны, если рассуждать холодно и трезво, посланник князя просил вполне приемлемую цену. Отдать в холопы кого-то одного, чтобы спасти от голодной смерти всю общину. Но каждого точила мысль, что этим счастливцем может оказаться кто-то из его родных и близких. А в таком свете предложение казалось уже не столь заманчивым и щедрым.
Филин, словно угадав мысли селян, нанёс решающий удар.
– Словом, ежели гоже вам такое, заберу нынче Кульку Хапутину и, считай, нет за вами долгу.
Три десятка человек одновременно повернулись к одной юной хрупкой девушке. Акулина не сразу поняла смысл Васькиной речи, а когда сообразила, что речь идёт именно о ней, грабли выпали из ослабевших рук. Растерянный взгляд заметался по толпе односельчан, но каждый, кто с ним встречался, спешил отвести глаза, потупиться, отвернуться. И всё молча, без единого слова.
– Господи… – тихо прошептала Акулина и тут же бросилась к старшине, упала перед ним на колени. – Мефодий Митрофаныч, миленький, не отдавай меня ему. Сам же ведаешь, что не для портомойни. Не губи, Мефодий Митрофаныч!
Старшина не ответил. Его пустой остекленевший взгляд уставился куда-то мимо, и ни один мускул на морщинистом лице не шевельнулся. Не поднимаясь, Акулина на коленях метнулась к стоявшему рядом парнишке лет двадцати. Рубаха на нём, казалось, полностью состояла из заплаток, а штаны настолько истёрлись, что сквозь ткань виднелись коленки.
– Забуга, братик. Спаси, не отдай в пропастищу! – взмолилась Акулина. Схватив брата за руки, она продолжила, в отчаянии мешая слёзную мольбу с чудовищной угрозой. – Инше всё одно – марухой жить не стану. Руки наложу. Свою душу погублю да перед тем и вас всех прокляну во веки веков.
Это подействовало. Забуга вздрогнул и словно пришёл в себя.
– Люди добрые, братцы, соседушки… – тихо произнёс он, и на глазах его сверкнули слёзы. – Да как же? Не губите сестрёнку. Бабоньки, вы же сами… ну, того. Как же после-то?
Но все его призывы растворялись в глухом молчании односельчан. Лишь иногда звучал горестный вздох или кто-то из женщин, всхлипнув, вытирал слезу. Но ни единого слова. Уж слишком несравнимое стояло на кону: с одной стороны – честь чужой девушки, пусть и соседки, а хоть бы и дальней родни, с другой – жизнь или голодная смерть собственных детей.
Задохнувшись как от удара под дых, Забуга бросил взгляд на старшину, но Мефодий сидел, бессильно уронив тяжёлые костлявые руки, смотрел в пустоту перед собой и только жалобно постанывал. То ли от боли в груди, то ли от беспомощных мыслей.
Хапутин зажмурился и поник, но в следующий миг встрепенулся, услышав Лапшина младшего.
– Ну вот что. – тихо, нерешительно заговорил Матвей. – Годите покуда с Кулькой-то. Наперво потребно с долгом разобраться. Инше как так вышло, ежели отдавали мы всё в срок и полной мерой. Откель набралось? Да ещё в таком множестве. А? Разобраться надобно, что за обман такой.
Он посмотрел на Филина. Тот встретил его взгляд наглой усмешкой, но где-то на клуне в поддержку Матвея раздался робкий мужской возглас. Следом поддакнула женщина, и вскоре над только что молчавшей толпой тихо загудел сдержанный ропот. Стараясь не выдать себя, Васька тяжело сглотнул. Столь внезапный поворот мог обернуться неудачей. Если о его проделке узнает князь, тут уже не будет нужен никакой правёж. Тогда не только Акулина ускользнёт из его рук, но ещё и сам Филин может оказаться в опале.
Всё ещё улыбаясь, Васька как бы случайным движением руки передвинул саблю так, чтобы при нужде быстрее выхватить её из ножен.
– Ты, давай-ка, стихни, ага. Думай, с кем про обман толкуешь. Али хочешь князя на правёж вызвать?
Филин шагнул к Матвею, и тот попятился под решительным натиском.
– Да нет, чего ж князя… Я ведь не про то. – промямлил он, заикаясь и отводя взгляд. – Я того… ну… ошиблись, может.
– Ошиблись? – жёстко спросил Филин, продолжая наступать. – А может, мне по ошибке замест Кульки тебя в закупы взять? Коль ты умник таков, ага.
– Да я чего…
Филин не дал договорить. Он медленно потянул саблю из ножен, под металлический скрежет зловеще сверкнула сталь клинка. Матвей побледнел и в испуге отшатнулся, едва не сбив с ног стоявшую позади жену. Оступившись, муж навалился на неё всем телом, однако грузная женщина с бочкообразным животом не просто устояла сама, но ещё и не дала упасть Матвею.
– Вот то-то. – глядя на раздавленного страхом Лапшина, Филин удовлетворённо хмыкнул и добавил уже спокойно. – Не твоё дело, так и не лезь, ага.
– Да как же не наше? – вдруг раздался надтреснутый женский голос, и Серафима Лапшина взглянула на Филина из-за плеча мужа. Она говорила тихо и сдержанно, но уверенно и твёрдо. – Нынче тебе Кульку отдать, так завтра за Дуняхой явишься. А после и до моих дочурок доберёшься. Ведомо, что за утроба ваша. Ненасытная. Потому хоть и никто нам Кулька, а всё же дело наше.
– Ну ты, куда вякаешь, свербигузка! – прорычал Филин. – Помалкивай, гляди. А не то кожу с задницы сдеру, будешь знать.
– Да тут, мил человек, не знаешь, что хужей будет. – спокойно возразила Лапшина. – Так что не пужал бы ты меня.
– Во как? Ну как знаешь.
Филин протянул к Серафиме руку, но тут Матвея словно подменили. Всего мгновение назад он вёл себя как послушный телёнок, испуганно что-то мямлил и не смел даже взглянуть на Ваську. Теперь же встал между женой и Филином, при этом сгорбленная спина распрямилась, плечи расправились, и Васька с удивлением обнаружил перед собой не худосочного замухрышку, а богатыря почти в сажень ростом. Да ещё с упрямым решительным взглядом.
– Но-но, не ершись, дура.
Филин с вызывающей усмешкой положил ладонь на сабельный эфес, и Матвей снова отступил. Но в этот раз для того, чтобы взять цеп. Ухватив древко, Лапшин занёс тяжёлое било за спину и чуть поднял над головой, готовый ударить.
– Фух, ты это на кого? – спросил Филин с возмущённым недоумением.
Он всё ещё сжимал саблю и улыбался уверенно и надменно, но побелевшие губы слегка повело вкривь. Оглянувшись, Васька заметил справа Забугу Хапутина, который тоже напружинился всем телом. Слева ещё один долговязый мужик удобнее перехватил вилы.
– Ах вон оно чего… – Филин с лязгом вернул саблю в ножны и выдохнул. – Стало быть, разобраться хочешь? Ну что ж, твоё право, Матвей Мефодич. Токмо гляди – за навет на княжеских людей вира положена. Так что ежели на правеже не докажешь правоту свою… – Васька покачал головой. – Так просто не отделаться, ага. Сам рабом станешь. Да не закупом, а в челядь, без возврату. И батя со старшин слетит, это уж как пить дать. Что тогда с детишками станется, а? Думаешь, кто из них пожалеет? Нет, и не надейся, ага. Так что ты, мужик, подумай хорошенько. Стоит ли за чужих людей всё семейство в опасность ставить? Али лучше мирно всё решить? А?
На мгновение Матвей опять заколебался. Заметив это, Филин уже собирался было надавить ещё, но в это время взгляд Лапшина упал на детвору, что стайкой испуганных воробьев сгрудилась за клуней. При виде чумазой дочурки, в одной рубашонке стоявшей среди таких же малолеток, Матвей вспомнил слова жены и, когда снова посмотрел на Филина, от былых сомнений уже не осталось и следа.
– Нет уж, Василь Филиппыч, нет, мил человек. На правёж пойдём. А там как бог даст.
Васька разочарованно выдохнул, нервно рассмеялся и посмотрел на Акулину. Бледная, растрёпанная, она всё еще дрожала от уже схлынувшего страха и дышала так, будто без остановки бежала несколько вёрст. Чувствуя, как кровь закипает в нём от желания и злости, Васька приблизился к Матвею и едва слышно прошипел:
– Ну, гляди, коли так. Сам ты этого хотел, не ропщи после.
Со злом пнув соломенный сноп, Филин зашагал обратно к лошади.
Глава одиннадцатая
Тридцатого сентября наконец прошли сороковины, и следующие пять дней Андрей Петрович измаялся в сладком нетерпении. Чтобы стать полноправным белёвским князем, ему оставалось сделать один шаг – присягнуть на верность государю всея Руси. Посланца из Москвы ждали со дня на день, и юный князь хотел устроить ему не просто пышную, а роскошную встречу. Пусть даже слуги царя в белокаменной столице знают, что новый владетель белёвской земли, Андрей Петрович Бобриков, не какой-то калик перекатный, голь пустокарманная, а богатый, состоятельный вотчинник.
Филин дважды объездил княжество, собирая с деревень и сёл особый налог – погостье. В итоге стол ломился от угощений. Горшеня задумал пять перемен горячих блюд и два десятка закусок, названия которых Андрей Петрович услышал впервые. А ещё приготовили по корчаге вина, пива и хмельного мёда. Захар Лукич тоже не сидел без дела – ездил в Перемышль, где купил самую дорогую на всём торжище ткань. Четыре аршина красного аксамита с густым узором золотого шитья обошлись в такие деньги, что в Бобрике князь мог бы прожить на них целый год. И ещё столько же тиун уплатил именитому портному, чтобы тот лично приехал в Белёв и сшил князю парадную ферязь. Богатый наряд дополнил фамильный перстень белёвских князей – широкий золотой обод венчал огромный вишнёвый яхонт. Украшение оказалось велико для тонких пальцев юноши, так что пришлось специально везти ювелира, чтобы тот подогнал кольцо по размеру.
Встречать знатного гостя Андрей Петрович собирался в большой горнице. Глухую стену с печной кладкой завесили синим шёлком, на котором мастерицы в разных цветах вышили карту белёвской земли. А в центре покоя возвели дощатый помост и на нём поставили кресло. То самое, что так полюбилось князю с первого дня. Только теперь его дополнила обивка из красного бархата, небольшая подушка в изголовье высокой спинки и мягкая подставка под ноги. Так что это было уже не кресло, а трон. Настоящий княжеский трон.
Все приготовления удалось закончить за день до того, как в город прибыл доверенный царя. Им оказался служилый князь Пётр Иванович Горенский. Сам Андрей Петрович услышал это имя впервые, но Горшеня поведал, что это обмельчавший выходец из знатного рода Оболенских. Пять лет назад, чтобы получить при государевом дворе выгодное место, Горенский согласился признать себя полным холопом великого князя и перевёл все свои земли из вотчины в лен. Узнав об этом, Бобриков решил, что не выйдет встречать посланника на улицу, как предписывал порядок, а будет ждать в тереме. Ибо кто такой этот московский цепной пёс, чтобы перед ним стелился вольный верховской князь, не менявший отцовских владений на объедки с царского стола.
Горенский приехал с десятком московских дворян, но в терем вошёл один. Увидев его старый плащ с обычной бронзовой фибулой[30 - Фибула – металлическая застёжка в виде булавки с «замком», одновременно служила украшением.] и простую шапку даже без меховой опушки, Андрей Петрович надменно усмехнулся. Но на пороге царский посланник сбросил верхнюю одежду и остался в роскошном малиновом кафтане, а на поясе с золотой пряжкой в россыпи каменьев обнаружилась турецкая сабля, что одна стоила как пять ферязей Бобрикова. Юный князь нахмурился, закусил губу и против всех приличий встретил гостя надменным кивком, даже не привстав.
– Что ж, Пётр Иванович, давай начнём, пожалуй. Чтоб быстрей покончить.
Андрей Петрович взглядом указал на укрытый бархатом стол, где лежало всё для присяги. Пётр Иванович бегло осмотрел Библию в потёртом кожаном переплёте, икону в серебряном окладе и золотой целовальный крест с изумрудами.
– Боюсь, Андрей Петрович, быстро не выйдет… – с печальным вздохом сообщил он.
– Это почему же? – спесиво спросил Бобриков, и Горенский показал ему небольшой свиток.
– Родословную твою сверить надобно.
– К чему? – Андрей Петрович всё больше раздражался.
– Положено так. – объяснил Горенский и развернул привезённый свиток. – Итак, стало быть, Андрей Петрович Бобриков. Отец твой Пётр Иванович Бобриков, а дед – Иван Львович, что в 1495 году урождён был. Верно всё?
– Верно. – подтвердил Бобриков, откинувшись на спинку в расслабленной вальяжной позе.
– А его отец, то бишь прадед твой?
– Лев Даниилович.
– Верно, Лев Данилович. – кивнул Горенский, сверяясь с написанным. – Сын Даниила Бобрикова и второй жены его Степаниды Юрьевны Новосильской. А она дочь Юрия Романовича Чёрного, что в 1402 году преставился?
– Сего не ведаю. По мужской части до восьми колен знаю. А по женской на что?
– А зря не ведаешь, Андрей Петрович. – постановил Горенский. – Вишь ли, у Юрия Романовича, пращура твоего по прапрабабке, брат был – Василий Романович Новосильский. Он пять сыновей имел. Среди них Михаил Васильевич, сын коего Василий Михайлович в 1472 году из Новосильского удела вышел и первым белёвским князем стал.
– И что? К чему это всё?
– Да к тому, что, выходит, мать твоя, Ирина Ивановна – внучка того самого Василия Михайловича. А стало быть, родители твои роднёй друг другу приходились. Пётр Иванович Бобриков Роману Новосильскому шестиюродный внук. А матушка, Ирина Ивановна Белёвская, ему же пятиюродная внучка. Так-то.
– И что с того? – в который раз спросил Бобриков. Он всё ещё продолжал надменно улыбаться, но голос дрогнул, а пальцы вцепились в подлокотник. Горенский тяжело вздохнул и развёл руками, всем видом давая понять, что происходящее не доставляет ему радости.
– А то, Андрей Петрович, что по церковному порядку пятиколенный брак только с благословения патриарха законным считается. А коль такого благословения нет…
Андрей Петрович заёрзал на кресле, оно вдруг показалось ему жёстким и неудобным. Взгляд затянула пелена белёсого тумана, и даже Горенский, что стоял всего в пяти шагах, виделся юному князю размытым пятном. Лоб покрыла испарина, язык не слушался и заплетался.
– И… Ч-ч-чего ж тогда?
Горенский пожал плечами.
– Так просто всё, Андрей Петрович. Коли благословенья нет, стало быть, и брак незаконен. А раз так, ребёнок, что в этом браке появился, то бишь ты, байстрюк есть. Незаконнорожденный. Отсюда выходит, что белёвским князьям ты не родня и наследовать им не можешь. Бобрик за тобой останется, ибо родство по отцу и в таком разе переходит. А по матери – нет.
Пётр Иванович замолчал, ожидая ответа, но Андрей Петрович, потрясённый услышанным, только шевелил губами, не издавая при этом ни звука. Горенский откашлялся, принял подобающую позу и закончил короткую речь безжалостным приговором:
– Так что извиняй, Андрей Петрович, за дурные вести, но Белёв не твоя вотчина. В казну московскую отходит, великому князю.
Часть вторая
Глава первая
Той ночью впервые в жизни юному князю приснился Бобрик. В чёрно-белом тумане Андрей Петрович метался меж убогих лачуг и покосившихся заборов, искал дорогу и всё не мог найти её – лабиринт грязных переулков через десяток поворотов неизменно приводил в тупик. Мрачное серое небо без перерыва хлестало дождём, и земля раскисала в липкую кашу. Сначала огромным склизким комом она облепила босые ступни. Потом ноги стали тонуть до лодыжек, до середины икры, до колена. Вскоре он оказался уже по пояс в густом болоте и с каждым шагом погружался в него всё глубже, глубже и глубже. Вот в тёмно-бурой хляби увязли руки, исчезла грудь, плечи, даже шея. Вонючая хлюпкая жижа подошла уже ко рту и просочилась через стиснутые зубы, забила нос, потекла в уши.
Под собственный крик Андрей Петрович вскочил на кровати. Весь мокрый от пота, он дрожал и стучал зубами. Безумный взгляд, полный ужаса и боли, метался по комнате. Наконец остатки страшного сна растворились в ярком свете дня, проникавшем сквозь закрытые ставни, и князь сообразил, что Бобрик далеко. Он облегчённо вздохнул и даже улыбнулся. Но тут же в тяжёлой мутной голове обрывками пронеслись события последних суток. После разговора с Горенским Андрей Петрович на целый день впал в молчаливую хандру, что вылилась в ночной запой и яростный погром горницы, а уже под утро юного князя в хмельном беспамятстве принесли в опочивальню.
За несколько мгновений снова пережив всё это, Андрей Петрович закрыл глаза, спрятал лицо в ладонях и сначала тихо всхлипнул, потом едва слышно заскулил и вскоре всем телом затрясся в рыданьях. Неслышно вошёл Захар Лукич. Он долго мялся на пороге, потом нерешительно приблизился к кровати и тронул князя за плечо. Бобриков вздрогнул и, посмотрев на старого тиуна, торопливо вытер слёзы:
– Чего тебе?
– Андрей Петрович, тама, это… Москвич послал. Ну тот. Спросить, деи, когда уехать думаешь. Мол, не тороплю, конечно, но…
– Уезжать? – переспросил князь, с трудом сдерживая новую волну рыданий. – Да, надо. Скажи, скоро. Всё, ступай.
Захар Лукич понуро двинулся к выходу, но когда уже оказался в дверях, князь бросил вдогонку:
– И скажи, чтоб никого в горницу не пущали. – А потом, пряча взгляд, тихо добавил, словно хотел оправдаться. – Один побуду. Ступай.
Когда тиун вышел, Андрей Петрович долго сидел неподвижно. Потом не глядя обшарил руками постель, нащупал влажное от ночного пота полотенце. Развернув во всю длину, осмотрел его, дёрнул несколько раз, проверяя на прочность, кивнул и сплёл в тугой жгут. Соединив его концы в петлю, князь ненадолго смутился, лицо исказила жалкая гримаса, в светлом пухе первой щетины опять сверкнули слёзы. Однако в этот раз он быстро взял себя в руки, тряхнул головой и твёрдо постановил:
– Уж лучше так, чем побитой собакой вернуться.
Он решительно встал, оделся, закинул на плечо верёвку из полотенца и, напоследок ещё раз оглядевшись, вышел из спальни.
У лестницы князь остановился и вслушался в тишину. Убедившись, что внизу никого нет, быстро сбежал по ступеням и осмотрел горницу. Московский посол, объявив волю царя, покинул терем сразу же, так что яства для пира остались нетронуты. И когда Андрей Петрович наконец пришёл в себя, он первым делом потребовал налить ему бухарского вина. Первый кубок выпил, только чтобы успокоиться после нешуточной встряски. Второй – чтобы избавиться от поганых мыслей. Третий опустошил залпом на помин ещё одного белёвского князя, который помер, так и не успев толком покняжить. Перед четвёртой чаркой провозгласил тост за покойного дядю и всех его предков, которым на том свете не должно быть ни дна, ни покрышки. А для пятой уже не искал повода и дальше пил молча, остервенело вливая в себя всё подряд.
– Не пропадать же добру, коли за него столь плачено. – с жалкой кривой усмешкой объяснял он сам себе. – Что ж, московским чинам всё оставить? Нет уж.
Андрей Петрович припомнил, как с воем носился по горнице, разбил все окна, перевернул стол и в щепки разломал кресло-трон. А в довершение, уже обезумев в пьяном угаре, собрал деревянные обломки в кучу и подсунул под них кипу посошных книг, изорванных в клочья. Собираясь всё это поджечь, князь влез на единственную уцелевшую лавку и попытался сорвать с потолка большую лампаду. За этим его и скрутили набежавшие слуги. Связали руки полотенцем и отнесли в опочивальню, где, исторгнув из себя вонючий поток красно-зеленой рвоты, он наконец уснул.
И вот теперь, стоя посреди разгромленной горницы с тяжёлой больной головой и пересохшим горлом, Андрей Петрович смотрел на пустой крюк в потолочной матке и пытался понять, сгодится ли этот тонкий пруток металла для того, что он задумал. Однако ответить на этот вопрос князь так и не успел. В сенях за плотно закрытой дверью раздался встревоженный голос тиуна.
– Ну говорю же, не велено пущать, ну… – жалобно умолял Захар Лукич. – Андрей Петрович сказывал, чтоб не тревожили. Я царского посланца и то не пустил, а тут уж…
– Чего? Ты это кого с москвичом в один ряд ставишь? – гудел в ответ мощный раскатистый и незнакомый бас. – Меня? Ах ты… Прочь с дороги, олух.
И не успел Андрей Петрович возмутиться наглостью невидимого гостя, как дверь с грохотом распахнулась и в горницу ввалился настоящий медведь в человеческом обличье. Длиннополая шуба искрилась соболиным мехом, горлатная шапка из каракуля на два локтя поднималась над головой, а дополняла эту картину широкая густая борода по пояс с благородным отливом седины. Невысокий, коренастый, с богатырским размахом плеч и необхватной грудью, незнакомец по-хозяйски уверенно прошёл через всю комнату и остановился перед князем. Высокий лоб прорезала глубокая морщина, большие колосистые брови нахмурено сдвинулись и опустились на глаза, под пронзительным взглядом которых Бобриков, вместо гневной ругани, что всего мгновение назад просилась ему на язык, против собственной воли испуганно съежился и поспешил спрятать самодельную верёвку за спину.
– Да уж. Ехал на свадьбу, а приехал на развод! – сокрушённо произнёс загадочный посетитель, оценив разгромленную горницу. – Ну здравствуй, что ли, Андрей Петрович. Воротынский я. Михаил Иванович. Слыхал про такого?
От удивления Андрей Петрович ненадолго потерял дар речи. Кто же из верховских порубежников не слышал о Воротынском? Удельный князь, глава древнего знатного рода, что брал начало от первых Новосильских и по прямой линии восходил к Рюрику. Самый богатый человек в южных пределах Руси, вотчинник, чьи земли на самом резвом скакуне не объехать и за неделю. Даже в Москве при нём уважительно молчали думные бояре, царедворцы и начальники приказов, а за подвиги при взятии Казани Михаил Иванович лично от царя получил право не снимать в его присутствии шапку.
– П-п-проходи, Михаил Иванович. Гостем будь. – предложил растерянный Бобриков, и Воротынский улыбнулся.
– Благодарствую. Только, слышал я, ты и сам отныне здесь гость. – Михаил Иванович подошёл к скамье, но, брезгливо осмотрев её, садиться не стал. – Ну ладно, ладно. Не смущайся. Не дразнить тебя прибыл, не думай.
Воротынский обернулся к открытым дверям, в проёме которых застыл его слуга.
– Стулья раздобудь.
Слуга молча скрылся в сенях, а Михаил Иванович продолжил говорить, перейдя на опасливый шёпот:
– Про беду твою я ещё неделю назад узнал. Когда в Москве был. Проболтался один человечек. Да вот упредить тебя не успел. – Воротынский пристально посмотрел на Бобрикова и печально усмехнулся. – Так уж вышло, Андрей Петрович, что твоя беда наперёд каждого верховского князя тронет. Потому и прибыл я: тебе помочь, а заодно и нас всех от напасти избавить.
Вернулся слуга с двумя стульями. По знаку Воротынского он отнёс их к дальней стене и поставил так, что они почти касались друг с друга.
– Дверь закрой. Да гляди в оба там. – распорядился Михаил Иванович. Оседлав один стул, он взглядом приказал Бобрикову тоже сесть и продолжил говорить, лишь когда слуга покинул горницу. – Вишь ли, Андрей Петрович. До сей поры наше верховское порубежье вольным было. От Перемышля до Бобрика твоего всё сплошь вотчины князей. А царь давно на них поглядывал с прищуром. Москве, вишь ли, новая землица позарез нужна. Русь, конечно, большая, да вот угожих полей не так много. Все государевы нивы нынче уже заняты и не в два, а в три поля пашутся. Да только смердов лишних столько народилось, что всё одно не прокормить. Потому и примеряется Иван Васильевич к верховским владениям. Понимаешь?
Бобриков печально усмехнулся. В памяти его тут же всплыли просьбы водопьяновцев и долгие споры тиуна с Горшеней.
– Так её, землицы свободной, и у нас нет.
– В Диком поле зато много. – жёстко отрезал Воротынский. – Там этой землицы столько, хоть каждому смерду по тыще десятин давай, а всё одно не кончится. Вот потому и мечтает Иван Васильевич безлюдную степь обжить. Давно мечтает.
Андрей Петрович в недоумении пожал плечами:
– А нам что за печаль? Ну хочет Москва своих людишек в Дико поле заселить… Мы-то здесь при чём?
– Да при том, Андрей Петрович, что это для нас Дико поле – степь безлюдная. А для сыроядцев это пастбища. Они там испокон веков кочуют. Как мыслишь, чем обернётся, ежели царь эту землю к рукам прибирать начнёт? А? Обрадуется тому степняк? Али войной на нас пойдёт?
– Эге, тоже мне новость – война. Будто нынче промеж нас мир стоит.
– Э нет, Андрей Петрович, не спеши… – Воротынский с укоризной посмотрел на собеседника. – Нынче степняк к нам просто в набег ходит. Ясыря взять и не более. Да всё врозь, к тому же. Каждый по себе. А вот ежели царь их степи лишать начнёт, тогда уж настоящей войной пойдут. Всем своим миром безбожным навалятся и щадить не станут. Коли выйдет так, былые набеги пустяком покажутся. Небо с овчинку станет, не иначе. И заметь, Андрей Петрович, нам станет. Понимаешь, о чём я?
Бобриков с растерянным видом мотнул головой, честно признаваясь, что смысл последних слов от него ускользает. Воротынский тяжело вздохнул и закатил глаза.
– Москва отсель далеко, потому царь и храбрый такой – степняку не дотянуться. А мы – у них под боком. Неспроста ведь порубежьем зовёмся. Так что вся сила кочевая наперёд всего на нас обрушится. Вот и выходит что? Иван Васильевич холопов своих в Диком поле расселять станет, через то большие выгоды получит. Тягло, оброк, прочий сбор какой. Богатеть он будет, а огнём и кровью за это мы платить станем. Как полыхнёт, от Москвы помощи не жди: Иван Васильевич так в Ливонии застрял, не вылезти. Вот ты не ведаешь, а нынче треть государевых полков, что вдоль Оки стоят, на север уйдут, в Балтику. И без того невелик заслон был, а теперь и вовсе без защиты останемся. Спасибо царю-батюшке. Теперь понял?
Вместо ответа Бобриков зажмурился и крепко сжал ладонями виски. От того, что он услышал, голова шла кругом и звенела. Пытаясь разобраться в словах старого князя, Андрей Петрович ощущал себя неумелым пловцом, который только что с трудом барахтался в стоячем мелководье и вдруг оказался на бурной стремнине, среди волн, водоворотов и бесконечных пенных бурунов.
– Понял, вижу. Понял. А что муторно глядится всё, так-то с непривычки. – Воротынский ласково похлопал юношу по колену. – Погоди, обвыкнешься, всё на места встанет. Главное, пока уразумей: нельзя великому князю Белёв отдать. Думаешь, на что он ему сдался? Для его владений такой прирост – тьфу. И не заметит даже. Да вот нужен ему хоть малый пятачок земли в порубежье нашем, дабы твёрдо на нём встать да с него в Дико поле прыгнуть. А тут Белёв и подвернулся. И коль скоро прыжок этот нам большой кровью отрыгнётся, нужно костьми лечь, а в Белёв царя не пустить. И ты в деле сём на переднем крае оказался.
– Так нешто я один могу чего? – упавшим голосом спросил Бобриков, бессильно разводя руками.
– Можешь, Андрей Петрович, можешь. Один, конечно, в поле не воин. Но коль скоро беда общая, так и мы за тебя горой встанем. А в таком разе и муха – богатырь. Для того и прибыл нынче таким спехом. Дабы ты глупостей всяких не успел натворить. Ибо теперь судьбы всех верховских князей от тебя зависят. Воля наша и достаток – в твоих руках, Андрей Петрович.
– А чего ж делать-то, коли так?
– Подскажу, не бойся. А где надобно – делом пособлю. Говорю же, не оставим. – Воротынский звонко хлопнул в ладоши, потёр их одну о другую и громко крикнул. – Козлов! Ванька!
Тут же, словно стоял за дверями и только ждал команды, в горницу вошёл слуга, что приносил стулья. Весь он был ладный, собранный: кафтан без единой морщинки сидел как влитой. В пять широких шагов Козлов пересёк большую комнату и замер перед господином в ожидающей позе, при этом широкое скуластое лицо его с маленькой острой бородкой оставалось бесстрастным.
– Перво-наперво всех белёвских послужильцев забрать надобно. – продолжил Воротынский, знаком приказав слуге ждать. – Инше они в государеву службу попадут, а три десятка добрых воев царю отдавать не дело. Самим сгодятся, чаю. Так что пущай твой тиун, Андрей Петрович, всех послужильцев кабальные расписки поднимет да сочтёт, сколь серебра надобно. Всё сполна государевой казне выплатишь, а людей себе заберёшь.
– Ого. Это ж каки деньжищи, Михаил Иванович… – вздохнул Бобриков, вспоминая недавний случай с Тишенковым. – По каждой расписке три рубля, небось. Это ж на круг выходит почти сотня. Где столь взять?
Воротынский тихо беззлобно рассмеялся, как смеётся умудрённый опытом отец над безобидной шалостью ребёнка.
– Эх, Андрей Петрович. Эти сто рублей – капля в море. Ибо дальше предстоит нам белёвскую землю тебе в кормление выбить.
Удивлённый возглас застрял у Бобрикова в горле, и он закашлялся, мотая головой.
– Да-да, не удивляйся. Ради того и прибыл. Нынче Горенский этот, царский пёс, кормленщиком здешним должен стать. Но коли так, нам вовсе туго будет. Потому и надобно вместо него тебя волостелем[31 - Волостель – в средневековой Руси должностное лицо, управлявшее определённой территорией от имени царя.] сделать.
– Так разве царь отдаст?
– Просто так, по доброй воле не отдаст. Это уж само собой. – согласился Михаил Иванович. – Стало быть, так надобно сделать, чтоб не мог Иван Васильевич отказать тебе.
– Это как же так?
На этот раз Воротынский долго не отвечал. Задумчиво глядя на юного князя, он теребил кончик бороды и покусывал нижнюю губу.
– Слушай, князь, внимательно. Представь, скажем, среди книг тутошних сыщется вдруг расписка. С печатью княжеской и скрепой его. Всё чин чином. А по ней, по расписке этой, покойный Иван Иванович перед князем Бобриковым, тобой то бишь, должник выходит. Что тогда?
– Что тогда?
– Коли Белёв великому князю переходит, то и долг он наследует. Выходит, великий князь Бобрикову должен отныне. А долг немаленький будет. Таков, что и прежде, в добрые времена, для московской казны неподъёмно было. А уж нынче и подавно. Ну, тысяч восемь, скажем. С войной этой у Москвы без того расходов тьма тьмущая. А тут – восемь тысяч. Ежели нынче такие деньги из казны достать, как после войско снаряжать станешь? А поход уже на носу. Вот и не будет иного пути, как за тот долг в кормление Белёв отдать. Понимаешь?
Андрей Петрович нахмурился, лоб изрезали морщины, растерянный взгляд перебегал с Воротынского на Козлова и обратно.
– Так, а… Где ж такой расписке взяться? Тиун мой уж все бумаги не по разу перебрал. Коли была такая расписка, уж сыскалась бы давно.
Воротынский повёл бровью и громко хрустнул пальцами.
– Ну, коли не сыскалась, так напишем. Печать белёвского князя нынче у тебя. А средь моих слуг есть таков человек – любую подпись сделает, не отличишь после. В самой грамоте, конечно, не про восемь тысяч сказано будет. Ибо никто не поверит, что таки деньжищи у тебя водились. А, скажем так, рублей двадцать. Но возник сей долг лет пятнадцать назад. Когда Иван Иванович опекуном твоим стал и отдавать, само собой, не собирался. А лихва-то шла. По обычному закону на половину в год долг прирастает. То бишь в следующем году уже тридцать рублей было, ещё через год – сорок пять, ну и далее. Вот так за пятнадцать лет восемь тысяч и набежало. Почему в такое не поверить? Коли расписка есть? А для надёжности верность сей расписки ещё пять свидетелей подтвердят. Как законом положено. Де, сами при том были, сами видели. Как же опровергнуть?
Воротынский замолчал, возбуждённо барабаня пальцами себе по колену.
– А ежели… – нерешительно начал Бобриков. – А ежели откажется Иван Васильевич расписку и клятвы признавать? Тогда как?
– Не откажется. – уверенно отрезал Воротынский. – Потому как это для прочих верховских князей законный повод будет от своих присяг отказаться. Мол, вот, глядите, люди добрые, как московский князь верных слуг своих забижает. А раз так, и мы от принесённых клятв свободны. Представляешь, чем сие для Москвы обернуться может? Вот и выходит, что проще будет Белёв в кормление отдать. И отдаст, не сомневайся. Тут уж я кое-кому слово нужное шепну, в кормленном приказе суну кому надо, ну и там другое всякое. По нашему выйдет, это уж твёрдо. Ну, что скажешь? Решай, Андрей Петрович.
Бобриков молчал, глядя на причудливую тень, что сам отбрасывал на пол. Лицо его то озарялось решимостью и надеждой, то вдруг омрачалось от нахлынувших сомнений.
– Что гложет, Андрей Петрович?
– Да вот… Не обессудь токмо, Михаил Иванович, но никак в толк не возьму. На что я тебе сдался. Ведь ежели можешь так с распиской провернуть, пошто себе в кормление Белёв не хочешь взять?
– Мне Иван Васильевич не отдаст. – усмехнулся Воротынский. – Ибо ведает, что я и так крепко в порубежье верховском стою. А ежели ещё Белёв в моих руках будет, тогда и вовсе. Потому не отдаст, забоится. А ты другое дело. Теперь уж ты не обессудь, коли так. Но кто таков Андрей Петрович Бобриков перед великим князем? Букашка малая. Потому тебе отдаст, ничего не заподозрит. А коли по-нашему выйдет, я всё одно через тебя Белёв держать буду. Ты ж, Андрей Петрович, с этаким делом без помощи не справишься. А, стало быть, ежели Белёв у тебя, считай, я в нём хозяин. Как есть говорю, прямо, без утайки.
– Стало быть, ты для себя Белёв у царя выгрызаешь? Правильно понял?
– Для всех, Андрей Петрович, для всех. – поправил Воротынский, сурово глядя на молодого князя.
– Для себя али для всех, неважно. – Бобриков потупился. Видно было, что эти слова даются ему с трудом, но не сказать их он тоже не может. – Ибо на суде перед царём клятву по ложной расписке мне давать придётся. Ни тебе, Михаил Иванович. И не всем. А мне.
– Ну а как ты хотел? – строго спросил Воротынский. – Не разбив яиц, яичницу не сделаешь. Или говорят ещё, любишь кататься, люби и саночки возить.
– Так-то оно так, Михаил Иванович. Только выходит, что кататься все будут, а саночки мне одному возить. Случись чего, за ложную клятву пред царём кто ответ держать станет?
– Ах вон ты о чём… – протянул Воротынский.
Он откинулся на спинку стула, с интересом глядя на собеседника. И Андрей Петрович тоже нашёл силы посмотреть старому князю в глаза. Бобриков ожидал упрёков и даже готов был выслушать гневную отповедь. Однако, Михаил Иванович ласково улыбнулся:
– Что ж, коли так, неволить не стану. Ежели так царя и божьего гнева боишься, можешь прямо завтра в Бобрик уезжать.
Бобриков вздрогнул и болезненно простонал. Лицо его внезапно исказилось так ужасно, что даже Воротынский испугался, как бы юный князь прямо сейчас не скончался от удара. За время разговора Андрей Петрович много о чём успел подумать, но эта простая мысль в голову не приходила. А ведь Воротынский был прав. Ему придётся оставить Белёв и вернуться в Бобрик. В этот мерзкий городишко, который он ненавидел всей душой и сердцем. Прежде мириться с тамошней жизнью ему помогало то, что он не знал, никогда не видел другого. Но теперь Андрей Петрович не мог представить себя в Бобрике. А больнее всего было то, что отныне жить там придётся без надежды вернуться в этот прекрасный светлый и богатый мир. А ведь он заслужил всё это. Тем, что вытерпел восемнадцать лет страданий, унижений и позора. И вот теперь, едва обретя заслуженное счастье, должен отказаться от него? Он резко расправил плечи.
– Захар Лукич! – позвал громко, и, когда появился запыхавшийся тиун, уверенно распорядился. – Бумагу дай, чернила и перо. И печать княжескую неси. Да живо давай.
Глава вторая
В начале октября над порубежьем разгулялся северный ветер. Неделю к ряду он гнул сосны в дугу и трепал вековые дубы; гонял над землей пыльные смерчи; вздымал на реках огромные волны и с рёвом обрушивал их на берег. Но потом, также внезапно сошёл на нет, и с тишиной в эти места пришла настоящая осень. Ока успокоилась, в её бездонно-синей глади, словно в зеркале, отражалось поблекшее небо. Солнце потускнело и часто пряталось средь облаков, что становились всё гуще и стелились всё ниже. Багряный закат опускался на землю ещё до третьей стражи, а приятная прохлада летних ночей сменилась морозцем, что серебром рисовал на пожухлой траве затейливый узор, хрустящий под ногами.
В деревнях собирали последний урожай – пришёл черед капусты, репы и моркови. Крестьяне муравьями рассыпались по нивам. Мужики мотыгой или заступом разбивали холодную землю, женщины выбирали корнеплоды и сносили в огромные кучи, откуда ребятня постарше вывозила урожай в погреба. Те, кто по большим и малым годам не годился для работы в поле, бродили по болотам, где дозревала брусника, и глухим лесам в поисках оставшихся грибов.
На Ленивом броде день и ночь стояли караулы. С высоты церковной колокольни за степью следил дозор. Тонко?й постоянно отправлял в Дикое поле сторо?жи, и те обязательно находили свежую сакму[32 - Сакма? (вероятно от тюрк. sok ?бить’) – след, оставленный конницей.]. Причем каждый раз она становилась шире и глубже и всё ближе подбиралась к Ленивому броду. Иногда, в небе подолгу кружили стаи испуганных птиц, а на исходе первой октябрьской недели далеко у горизонта поднялся чёрный столб дыма. Стало ясно – степь готовится к набегу.
Сразу после поминок вернулся десяток Бавыки, и новость о Клыкове взбудоражила белёвцев. Никто из них не поверил в лиходейство Фёдора, и даже когда Корнил на кресте поклялся, что сам видел горы уворованных припасов, большинство всё равно осталось при своём. Хотя нашлись и те, кто усомнился в честности бывшего десятника.
– А чего же нет? Уж, чаю, не зря он к Горшене сватался. – заметил Илья Целищев. – А с выжигой познавшись, и сам выжигой мог стать. Чужое-то добро к ручкам легко липнет.
– Будет всякое нести-то. – оборвал сердито Пудышев.
– Да Горшеня, небось, первый рад будет. – поддержал Ивана Ларион Недорубов. – Под шумок от свадьбы откреститься.
– И что нынче Фёдора ждёт?
– Уж не знаю… – Бавыка пожал плечами.
В душе он разрывался надвое. Конечно, не хотелось обижать белёвских послужильев, таких же ратных людей, как он сам. Но как пойти с чужаками против собственного князя?
– Суд княжий решать станет. Вот как московского гонца встретят, с делами кончат, так и за правёж возьмутся.
– Хм. И кто ж на правеже при князе будет? – со значением спросил Недорубов. – Небось, огнищане одни.
– Ну а кто ж ещё? – простодушно согласился Бавыка. – Мы-то, ратные, чай, в таких делах не шибко понимаем.
– Ну, ежели огнищане помогать в разборе станут, тогда конечно. – ехидно усмехнулся Ларион. – От них ничто, акромя правды, не родится.
– Вот-вот. Они все одним миром мазаны. Друг за дружку держатся. – поддакнул Платон Житников таким голосом, будто читал заупокойную молитву. – Так что, чую, пропадать ни за грош Фёдору. Заклюют его бумазейники. Как есть заклюют.
– И нешто ничего не сделать? – Иван повернулся к Тонкому. – Сидор Михайлович, ты князя лучше нас знаешь. Чем можно Фёдору помочь?
– А чем тут поможешь? – Тонкой печально вздохнул. – Ты, Вань, знаешь, что? За друга болеешь, понимаю. Да токмо не лез бы ты в сие болото. Без нас разберутся. Наше с тобой дело службу служить. Брод вот стерегти. А в огнищанских сварах чёрт ногу сломит, ежели по правде. Коли перейдёшь кому дорогу, сожрут тебя, не подавятся. Это я не то чтобы пужаю – просто совет по-доброму даю.
– Благодарствую. – криво усмехнулся Иван и провёл пальцем по рубцу на щеке. – Токмо гляжу, прав был Федька, когда говорил, деи, отдадим Семикопа на съедение, так после самих нас жрать начнут. Вот, его уж начали.
– А как по мне, не с того боку ты глядишь, Иван. – Тонкой несогласно покачал головой. – Может, Федьку вашего жрут потому, как нос не туда суёт часто? За Семикопа вступиться ему надобно. Супротив княжьей воли встать – опять он. Вот и нашёл, чего искал.
– Не искать правды, стало быть. Хвост поджать да в кусты?
– Правда. Где видал ты её, правду? – Тонкой печально усмехнулся. – В наших краях сей зверь не водится. А что до Федьки твоего… Ему правду искать легко. Он гол как сокол, бояться не за что. Ему и нынче что грозит? Аще хужей всего с правежом сложится, так свою башку потеряет. Жаль, конечно, будет. Да послужильца голова недорого стоит. Её каждый из нас в любой день лишиться может. Так что сие цена не большая. А у тебя, Вань, старик-отец да жена с детями. Вот и думай. Нужна ль тебе така правда? Или лучше стороной пройти?
После того дня о Фёдоре не говорили. Хотя каждый из белёвских послужильцев вспоминал товарища, что маялся в застенке, но рассуждал об этом только сам с собой. Ибо с совестью договориться проще без свидетелей, наедине. А вскоре на Ленивый брод приехал Филин, и привезённая им весть затмила собой даже тревогу о скором набеге. Оказалось, что Бобриков больше не князь Белёва. Вся земля, а с ней и холопы, отныне становилась личной вотчиной царя. И лишь ратным людям выпала возможность избежать столь незавидной доли. Всех, кто захочет, Андрей Петрович обещался выкупить из кабалы у государя и сделать своим послужильцем.
– Вам решать. Да спехом, не затягивать. – закончил Филин короткий рассказ. – Прям нынче же ответ дать надобно.
Два десятка послужильцев безмолвной толпой застыли у земляного вала на выходе с переправы. Даже бобринцы забыли о работе, хотя выбор предстояло сделать белёвцам. Даже юный Бобка Замятин, что катал туда-обратно бочонок с песком, в котором от ржавчины чистилась кольчуга Тонкого, и тот остановился, участливо глядя на старших товарищей. В повисшей тишине слышно было, как лёгкий ветерок играет в зарослях прибрежных камышей да на камнях Ленивого брода плещется вода.
Первым пришёл в себя Илья Целищев. От волнения он порывисто сдёрнул с головы шапку, повертел её в руках и снова надел, не заметив, что сделал это задом наперёд.
– Это что же? Ежели в государевых холопах, это как же? Кем же мы?
– В помещики обверстают, боле никак. – Рассудительно заметил Недорубов.
– Во как? Привалило счастье.
– А чего? Чем дворянская служба хуже нашей? – осторожно спросил Роман Барсук. – Тот же ратный люд, токмо при государе. Нет?
– Ага, сравнил тоже… – недовольно буркнул Пудышев. – Думаешь, зазря они табунами к князьям на службу переходят? Нешто сам дворян не видал в государевом войске?
Ивану не раз приходилось видеть государевых дворян – одеты как попало, иногда даже без кольчуги, в драном тягиляе[33 - Тягиляй – защитный доспех конника: длинный кафтан с воротником-козырем, между подкладкой и верхом прокладывали слой пакли с вложенными в него металлическими пластинами. Тегиляи стоили дешевле кольчуг, но не признавались полноценным доспехом, являясь защитным снаряжением второго сорта.] и бумажной шапке[34 - Шапка бумажная – защитный головной убор, тип шлема. Это были стёганные шапки на пуху, из сукна, шёлковых или бумажных (хлопок) материй, с толстой хлопчатобумажной или пеньковой подкладкой.] вместо шлема. Старый, много раз чиненый доспех, который достался Ивану от отца и деда, любой дворянин посчитал бы роскошью. На смотры многие приходили пешком, хотя служили в коннице. Просто не могли купить боевую лошадь, хотя бы завалящую кобылку. А уж про заводных и говорить не приходилось. Поэтому мало кто удивлялся, когда дворянин, промаявшись несколько лет на такой службе, мечтал охолопиться. То есть стать таким же боевым холопом какого-нибудь князя.
– Ты на княжьей службе в одном месте сидишь. Всегда при доме, при семье. – добавил Недорубов. – А дворянин по всей Руси мается. Скажем, поместье дадут в Муромских землях, а то ещё хлеще, за Казанью, в Арском поле. А служить в Ливонию пошлют. Ты тама, поместье твоё тута. Через год с похода вернулся. Смерды разбежались, земля в крапиве заросла, усадьбу татарва сожгла. Вот така служба. Вот така жизнь.
Иван ухватил за руку Филина, который собирался уходить, потому что его все эти разговоры не касались.
– А что ты про кормление сказывал?
– Чего? – удивлённо переспросил Васька.
– Про кормление, говорю, чего? Ежели взаправду Андрей Петрович кормленщиком белёвским станет, выходит, всем имуществом распоряжаться будет?
Васька утвердительно кивнул и вместе с тем пожал плечами. Он уже и забыл, что говорил этим олухам, и теперь думал только об одном – как бы быстрей попасть домой, где ждёт натопленная печь, обед и молодая холопка в постели. Но Пудышев не отставал.
– Стало быть, дома наши тоже в его власти будут? Он, как кормленщик, решать станет, кому жить в них?
– Да, он, само собой, кто ж ещё.
– Ну, ежели так, вот что, братцы. – Пудышев легко шагнул на гребень земляного вала, который остальным доходил до груди. – Здесь уж дело таково, что каждый сам за себя решать должон. Потому, никого убеждать не стану, за себя скажу. В дворяне не ходок. Что ежели погонят нынче нас за Казань, а то ещё дальше, в невидаль какую. В необжи?ты места, на целину непахану – света белого не взвидишь. Куда мне с моим-то семейством? Чем так, уж лучше сразу лечь да помирать. Коли Андрей Петрович правда кормленщиком станет, так дома наши при нас останутся. А боле мне ничто не надо.
– Верно говоришь, Иван Афанасьевич. – опять первым заговорил Целищев. – В дворянах не дело, братцы. Послужильцем у князя ещё мой прадед был. И мне от добра добра искать не пристало.
– Согласен. – поддержал Платон Житников. – Видал я житуху тех, кто на вольны хлеба от князя подавался. Не дай бог и мне так. То же к Бобрикову пойду.
– Коли в дворяне уйдём, разбросают нас царёвы дьяки куда кого. – со вздохом постановил Ларион Недорубов. – А оно ведь как? Две головни и в поле дымят, а одна и в печи гаснет. Так что я со всеми.
– Ну чего… Тут уж так тока сказать. – медленно, тяжело, будто ворочал во рту большие камни, заговорил Роман Барсук. – Волк, это самое… стало быть, овце не товарищ. А княжий гридень, того… дворянином не стать ему. Это уж кто где родился, тому там и быть.
Иван поднял руку, и возбуждённый гвалт затих.
– Стало быть, так и порешим, братцы? Отныне все мы у князя Бобрикова служим?
И бывшие послужильцы Белёва один за одним стали подтверждать своё согласие коротким возгласом и жестом. Про Фёдора Клыкова уже никто не вспоминал.
Глава третья
Поскольку Белёвым испокон веков владели вольные князья, то и казённых мест там просто не держали. Даже небольшой тюрьмы, и той не имелось, а княжеских ослушников запирали в каменном подклете главного амбара, куда вёл отдельный ход – десять крутых ступенек под землю и приземистая дверь из дубовых досок с тяжёлым навесным замком. Он и стал темницей для Фёдора Клыкова.
Мутный бледный луч, проникавший в узкое окошко под низким потолком, едва разбавлял сырой могильный мрак. Стоячий затхлый воздух пропах плесенью и гнилой соломой. Стены из нетёсаных глыб сплошь покрывал зелёный нарост, а земляной пол липкой жижей чавкал под ногами. Лежанкой служила куча сена и старого тряпья, внутри которой ворошились мыши. Раз в день с протяжным скрипом открывалась дверь, и княжеский слуга ставил у порога миску с жидкой похлёбкой, кусок хлеба и кружку воды, а после молча удалялся.
Фёдор метался, словно дикий зверь в клетке. Грязь, сырость и голод он не замечал, за годы ратной службы привык ещё и не к такому. Но вот неизвестность сводила его с ума, из гнетущей хандры бросая в бесплодную ярость, а потом обратно вгоняя в тоску. Поэтому когда на исходе второго дня где-то сверху послышался тихий знакомый голос, Клыков кинулся к оконцу под потолком, а увидев в нём кривоносое лицо Корнея Семикопа, просиял, как маленький ребёнок при виде любимой сладости.
– Семён где? – тут же, без приветствия, выпалил Фёдор, отодвигая в сторону узелок с едой, который Корней пытался пропихнуть в зарешёченный проём.
– Покуда на конюшне обретается. Я его там к делу приставил, чтоб дурных мыслей меньше было. А то таки дела творятся… Как тебя сюда свели, сват твой, Горшеня, будь он не ладен, тут же к князю наладился. Так, де, и так, супротив воли прежний князь сосватал, а он, вишь, вором оказался. Я и прежде не рад сему был, а нынче, мол, и подавно, родниться с ними не желаю. Ослобони, Андрей Петрович, сделай милость. Ну, а князь-то с радостью. Заодно и дом ваш того… – Семикоп отвёл глаза и шмыгнул носом. – Словом, босяк ты бескровный отныне.
– Да уж, хороша выслуга. – Лицо Клыкова исказила злая усмешка. – Ты уж, Корней Давыдыч, присмотри за Сёмкой, покуда я здесь. А то наворотит делов. Знаешь ведь, что за но?ров у него.
– А как же. Тут одно хорошо. Про буйность Сёмкину не я один ведаю. Горшеня тоже. Дочку запер, вокруг дома сынов расставил. Ежели токмо приступом взять. А без Лады Сёмка твой никуды не денется. Так что…
Они помолчали. Фёдор, рукой ухватившись за нижний край оконца, мёртвым взглядом буравил каменную кладку. Корней теребил концы завязок на узелке и нет-нет да покусывал губы.
– Ты это, Корней Давыдыч… – заговорил Клыков нерешительно. – Я ведь без вины. Не крал ничего.
– Да это… – Семикоп отмахнулся. – Токмо нынче уж чего об том? Сказывают, как поминки пройдут да из Москвы человека встретят, так сразу правёж будет. Там, глядишь, всё по местам встанет. Я от себя скажу. Так, мол, и так, Федька, он… – Корней осёкся, подбирая нужные слова, а потом добавил с грустью. – Ежели дадут сказать, конечно.
– А другие что же? Нешто все послужилые в стороне будут? Вступятся ведь.
Впервые за разговор Фёдор вскинул на Корнея взгляд, в котором надежда и вера смешалась с испугом. Семикоп отвернулся, шмыгнул кривым носом.
– Ты на них не серчай, Федь. Они ведь люди подневольные. У всех жёны, захребетники. Потому каждый про себя мысль держит. Мол, ежели нынче за вора вступлюсь, меня не коснётся ли.
– Ясно… – обречённо выдохнул Фёдор.
– А за Сёмку не тревожься. Пригляжу. Ты лучше думай, что на суде скажешь, чтобы не мямлить, как час придёт. А ждать недолго. Пару дней и…
Но ждать пришлось почти неделю, и для Фёдора каждый день тянулся так, будто с рассвета до заката проходил целый месяц. Что бы не делал Клыков: лежал на гнилой соломе, бесцельно ходил от одной стены к другой или ложкой гонял по миске мутную похлёбку, – в голове копошились одни и те же мысли. Уже передуманные сотню раз, они возвращались снова и снова, с каждым новым витком становясь лишь мрачнее и безысходнее. Фёдор не сомневался: всё, что с ним случилось, – дело рук Горшени, который так решил избавиться от нежелательной родни. Но как доказать это князю? Самого Клыкова вряд ли станут слушать, любые доводы и оправдания объяснят попыткой свалить с больной головы на здоровую. Послужилое братство от него отступилось, даже те, кого он считал друзьями, боясь за собственную шкуру, предпочтут отмолчаться. А если за всем и правда стоит Горшеня, то на огнищан тем паче нет надежды. Разве ворон клюнет ворона в глаз? Куда ни кинь – всюду клин, и чем больше Фёдор размышлял об этом, тем яснее понимал, что обречён.
Так что, когда через неделю снаружи лязгнул замок, и со скрипом открылась дверь, Фёдор облегчённо вздохнул. Однако на пороге возник Семикоп, и Клыков даже охнул от удивления.
– Сёмка где? – первым делом спросил он, отряхивая грязный кафтан от соломы.
Отвечать Корнею не пришлось – в тот же миг за его спиной появился младший Клыков. Он заметно осунулся, из-за чего стал выглядеть гораздо старше. Но едва увидев отца, Семён на глазах опять превратился в мальчишку. Улыбка на мгновенье тронула его лицо, а глаза с тёмными кругами от бессонных ночей вспыхнули радостью и заблестели непрошенной слезой. Фёдор порывисто обнял сына, прижался небритой щекой к его волосам и, вдохнув родной знакомый запах, понял, что сейчас тоже расплачется.
– Ну-ну, без нюнь давай. – строго приказал он сыну, а заодно и самому себе. И всё же не нашёл сил отпустить Семёна сразу, сначала грубой ладонью провёл по его щеке, и только потом повернулся к Корнею. – Куда идти?
– Сроду не угадаешь. А скажу – не поверишь. – улыбнулся Корней, игриво подмигнув Семёну. – Айда, походя обскажу всё.
Клыков поднялся по крутой лестнице и со стоном зажмурился. Яркий дневной свет больно резанул по глазам, ослепил на несколько мгновений. А когда зрение вернулось, Фёдор не узнал детинца. На лобном месте, что обычно кишело людьми и гудело без умолку, теперь было пусто и оглушительно тихо. По столбовой улице ветер насквозь гнал пыльные тучи. Слоистым потоком они стелились мимо амбаров и житниц, стекаясь в большое сизое облако перед княжеским двором. На крыше терема уныло скрипел вертун, жестяной петух качался из стороны в сторону, но никак не мог сделать полный круг. Большая кирпичная труба поварни не дымилась, на её оголовке по-хозяйски вальяжно сидел огромный чёрный ворон. У заднего крыльца в беспорядке валялись перевёрнутые собачьи миски, под навесом качалась пустая кормушка для птиц. Настежь открытые двери людской пристройки мерно бились о стену, а в пустых окнах на каждый удар отзывалось гулкое эхо.
Пока Фёдор и Корней шли меж амбарных рядов и пересекали пустое лобное место, Семикоп коротко рассказал все новости. Так что, когда они остановились перед теремом князя, Клыков только развёл руками.
– Да уж, неисповедимы пути господни. И что же? Нынче выходит, меня не князь судить будет, а царёв посланник?
– То-то и оно. – Корней опять загадочно ухмыльнулся и подтолкнул Фёдора в сторону крыльца. – Ступай. Сам узнаешь скоро.
Они прошли в трапезную, где за короткий срок всё доне?льзя переменилось. Десять столов прежде соединённых в один большой, тянувшийся через всю палату, теперь стояли отдельно и попрёк, деля залу на несколько частей. В каждом из закутков суетились московские рядцы. Вокруг них громоздились кипы бумаг: стопки серых листков и наваленных свитков. Отдельно лежали папки в узорчатых переплетах и огромные книги с двуглавым орлом на деревянных обложках. Два десятка человек то и дело перекладывали всё это с места на место, внимательно листали, что-то чиркали, вымарывали и делали новые записи, а потом опять носили: со стола на стол, из угла в угол.
Заведовал всем князь Горенский. Пётр Иванович сидел у открытого окна с высоким стрельчатым верхом, по-хозяйски развалившись в большом удобном кресле. Время от времени к нему подходил подьячий с бумагой, что-то спрашивал, тыкая пальцем в ровные чёрные строки, после чего Горенский либо давал короткое распоряжение, либо терпеливо растолковывал смысл статьи из уложения, царского указа или древнего закона.
Оказавшись в переполненной палате, Фёдор слегка растерялся. Он ожидал, что судить его будет пять-шесть человек – старший чин, пара подьячих и писарь. Меж тем, в трапезную набилось больше трёх десятков, но ещё больше Клыкова удивляло то, что на него никто не обращал внимания. Даже Горенский, оторвавшись от изучения какого-то списка, посмотрел на Клыкова с раздражением. Однако, заметив Корнея, Пётр Иванович понимающе вскинул брови.
– Этот, что ли?
– Он самый. – подтвердил Корней и торопливо добавил. – Да ты, Пётр Иванович, без сомнений будь. Уж я-то своих знаю, как облупленных.
Фёдор сообразил, что говорят о нём, торопливо стянул с головы рыжий лисий малахай и неловко поклонился, а когда разогнулся, вдруг осознал, что забыл все заготовленные речи. А ведь неделю обдумывал каждое слово и для верности твердил на память, повторяя сотни раз на дню. Но в решающий момент всё испарилось без следа, вылетело напрочь, оставив после себя лишь нескладный сумбур в голове.
– Я… Пётр Иванович… тут такое дело… воровством не промышлял николи. И ежели…
– Да бог с ним, с воровством. Для другого зван. – перебил Горенский, и Фёдор от удивления крякнул. – Коротко скажу. Нынче Белёв – государя земля, небось, уж знаешь. Но на днях город и всё, что к нему тянет, Бобрикову в кормление отдадут. Хитёр, сука. Не он, конечно. Явно Воротынский руку приложил. Ну, да ничего не сделаешь. Нет в казне денег вольных. Каждая копейка не счету, а тут восемь тысяч.
Горенский закусил губу и нервно хрустнул пальцами. Неделю назад, выезжая из Москвы, он был уверен, что станет кормленщиком Белёва и даже строил планы, как поведёт дела себе на пользу. Но хитрый лис Воротынский обошёл его на повороте да так ловко, что Пётр Иванович узнал об этом, когда всё почти свершилось. Так что при всех стараниях Горенский так и остался служилым князем без волостельской власти.
– Однако ж Иван Васильевич тоже не лыком шит. – продолжил он с печальным вздохом. – Кормление Бобрикову даст, тут уж никуда. Но Андрей Петрович в Белёве только на хозяйстве будет. А ко всему, что с ратным делом связано, он без касательства. По ратным делам я начальствую. Государеву службу порядком налаживать станем. И первым делом на белёвских землях решено дворян верстать. Ибо здешних послужильцев Бобриков сманил. Жаль, конечно, но они своё получат. Дай только срок, уплатят за измену. А пока что верный служилый люд надобен. Да в скорости. Ибо неспокойно в порубежье. Из степи доносят – набег зреет большой. Так что будем здешнее войско наново составлять. Вот так, Фёдор Степанович. Что скажешь?
Клыков растерянно пожал плечами.
– Не знаю. Вам-то с верхов видней. Я что? Каким боком судить могу?
– Судить не можешь, это ясно. А вот касательство имеешь. По книгам выходит, что пашен на сотню поместий хватит. Стало быть, новикам и сотник нужен. И, по всему, хорошо станет, ежели он из местных будет. Дабы всю округу знал как свои пять пальцев. Я, было, Корнея на это место сватал. Да он, вот, обветша?ться[35 - Обветшаться – стать ветшанином, то есть уйти в отставку.] решил. Устал, говорит, от службы ратной.
– Да уж будя, навоевался. – подтвердил Корней. – Без малого тридцать лет в седле. Сплю в обнимку с саблей. Хватит. Нога, опять же. Сразу-то, по молодым годам, ничего, а нынче замечаться стало. Так что пора мне на покой, пора.
– Ну на покой ты даже не надейся. – строго заметил Горенский. – У великого князя нынче каждый верный человек на вес золота. Так что, коли к ратной службе не годен, всё одно, дело по тебе найдём. Да вот хотя бы. – Пётр Иванович выудил из стопки бумаг грамоту, показал её Корнею и бросил обратно в кучу. – В кабак тутошний тебя поставлю. Целовальником. И не криви морду. Это нынче тоже государево дело первой важности. Ну да об этом после потолкуем. А пока про сотника. Корней Давыдович на сей счёт говорит, мол, лучше Фёдора Клыкова не сыскать. Воин, де, добрый, спытанный. И с пониманием, опять же. Ну так что скажешь, Фёдор Клыков? Пойдешь на службу государю сотником?
Фёдор не верил тому, что слышит. То, как внезапно и стремительно всё в судьбе его перевернулось, не умещалось в голове. Ещё утром он готовился к суду, от которого не ждал пощады. И вот не дошло до полудня, а ему уже предлагают стать дворянином, да не простым, а сотным. Даже в бабкиных сказках, где миром правят чудеса, такого не случалось.
– Да я… это…
Стать дворянином Фёдор не мечтал. Родившись в семье послужильца, всё детство проведя средь княжеских вояк, он сам уже много лет тянул эту лямку и не искал себе другой судьбы. А бедолаг, что мыкали горе на государевой службе, ему всегда хотелось пожалеть. Так что если бы стать поместным сотником Клыкову предложили месяц назад, он бы только рассмеялся и кулаком постучал по лбу. Но как отказаться теперь? Ведь тогда придётся вернуться в послужильцы князя. А Клыков не то чтобы боялся суда и наказаний, но то, как с ним обошлись после долгих лет верной безупречной службы, простить не мог. Так уж устроен любой человек, что безвинная обида ранит его гораздо сильнее, чем тысяча ударов батогами.
– Ну вот и ладно. – кивнул Горенский, бессвязные слова приняв за согласие. Князь устало потянулся, громко хрустнув шеей. – Коли так, обверстаем тебя нынче же. По наказу каждому дворянину поместье нужно. Земля сия не твоя, не радуйся. Государева земля. Ты на ней временный хозяин. И за то царю службой обязан. Как призовёт, явиться должен конно, людно да оружно. Разумеешь?
Фёдор молча кивнул и не сдержал печальную усмешку. Бог, видать, большой затейник, раз ему интересно так внезапно и стремительно перевернуть всё с ног на голову.
– Простому дворянину сто четей положено. Но тебе, как сотнику, сверх того дадено будет. – Горенский обратился к писарю, что сидел рядом за кипой бумаг. – Что там есть подходящее?
Чиновник пробежал глазами крупно исписанный листок:
– Да тут, Пётр Иванович, всё, что нарезано, в нужное не выходит. Где десятка четей не достанет, а где и боле. Ежели с прибавком сотным, токмо Водопьяновка к делу стала бы. Да там другая незадача. Слишком много четей. Почти двойной надел выходит.
Князь повернулся к Клыкову.
– Слыхал? Не велик выбор. Либо берёшь меньше того, что положено. Либо Водопьяновка, но тогда придётся тебе второго вояку сыскать и на свой счёт его содержать да оборуживать. Сыщешь?
– А чего искать-то? У меня сыну днями пятнадцать. Коли так, он тоже, считай, дворянин отныне. Вот и выйдет нам на семью Водопьяновка в самый раз.
Горенский сдвинул брови и пристально посмотрел на Фёдора.
– И когда ему пятнадцать?
– Да вот уж прям. – соврал Фёдор.
– Не виляй. – строго, но беззлобно потребовал князь.
– Месяц с малым. – ответил Фёдор, в уме прикидывая, сможет ли скрыть, что на самом деле Семёну до пятнадцати ещё четыре месяца.
– Месяц с малым…
– Да ты не сомневайся, Пётр Иванович. Он у меня парень эге-гей. К службе с малых лет приучен. Что на коне, что пешим – вояка годный будет. Что ж, коли без месяца, так для войны не гож разве?
Горенский задумался.
– Что ж, быть по сему. Запиши. Село Водопьяновка и земля, что к ней тянется, за сотником Фёдором Клыковым и сыном его…
– Семёном. – торопливо подсказал Фёдор.
– И сыном его Семёном. – Горенский откинулся на спинку кресла и устало закончил разговор. – А то, что там сто восемьдесят четей вместо положенных двухсот двадцати, так то сам решать будешь. По уложению на такой случай тебе из казны вспоможение дадено будет. В этот год крестьян тамошних от всякого тягла освободишь. Пущай лес под пашню сводят. Им самим, небось, новые поля не помешают. Вот так-то, Фёдор Клыков. На неделе воинство твоё прибывать станет для верстания. А покуда всё. Ступай, везучий ты сукин сын.
Глава четвёртая
К полудню 20 октября на лобном месте детинца собралось семьдесят два дворянина. Каждый за плечами имел много лет службы на денежном окладе: непрерывные мытарства, казённые углы, скудная кормёжка и вечно недовольное семейство. Потому сейчас, когда они оказались в Белёве, где у государевой казны появились новые свободные угодья, разговоры шли только об одном – земля. Сто четей пашни. Какие они будут, где их нарежут московские рядцы, сколько смердов насчитает сельцо, каково окажется хозяйство, и как пойдут дела. В том, что пойдут они хорошо, никто не сомневался. А как может быть иначе, ведь не зря же так долго ждали.
– Первым делом в усадьбе все дорожки замощу, чтоб про грязь забыть. – мечтательно рассуждал десятник Авдей Жихарь. Как-то раз татарская стрела угодила ему чуть выше колена, зацепив бедренную кость. Рана зажила, но с тех пор от любой сырости правую ногу сверлила нудящая боль. – На службе, в походе оттерплюсь, тут уж чего. А дома нет, не желаю. Всё замощу.
– Да ну, одощатить сподручней будет. Дешевше, опять же. – не соглашался Андрей Развалихин, вечно всё сводивший к подсчётам. – Досок наколол – вот тебе и мостовая.
– Нет уж, братец. – стоял на своём Жихарь. – Доска чего? Сгниёть. А каменюкой замостить навечно. Так что пусть дорого, но мостить буду. Вот ты как думашь, сотник?
Авдей повернулся к дворянину, который сидел на перилах гульбища, свесив короткие, чуть кривые ноги и плечом навалившись на опорный столб навеса. На безбородом скуластом лице выделялись большие прозрачные с лёгкой зеленью глаза, что смотрели на мир с печальной мудростью человека, который за неполные тридцать лет повидал столько, что иным хватило бы на девять жизней. На самом деле сотником он не был. Просто три месяца назад их голова погиб в бою и с тех пор десятник Никита Шелгунов нёс это бремя на себе, поскольку никто из товарищей не возражал.
Вместо ответа Шелгунов печально вздохнул. Перед его мысленным взором чередой промелькнули четырнадцать лет службы. Как жил на узлах без постоянного угла, а порой и вовсе без крыши над головой. Как возил с места на место сначала беременную, а потом только что родившую жену. Как потерял из-за этих переездов первого ребёнка, застудившегося, когда ночевали в поле. Как из-за безденежья не похоронил по-христиански, а просто закопал в чужой земле умершего отца, который тоже тянул лямку служилой жизни от рождения до дряхлой немощи.
– Да уж, сполна хлебнул, чумичкой[36 - Чумичка – деревянный или берестяной половник.]. – невпопад сказал Никита, но тут же просветлел лицом и мечтательно улыбнулся.
Ныне дело шло к счастливой перемене. Теперь за многолетнюю верную службу ему обещали дать поместье в сто четей плодородицы. Как в сказочных грёзах, что Шелгунов с малого детства лелеял в душе под рассказы отца, который помещиком так и не стал. Да и сам Никита иногда, в особенно трудное время, терял надежду. Но вот ведь – дожил и уже сегодня получит вожделенный надел.
– А я первым делом конюшню слажу. – отозвался Демьян Рогожин, известный лошадник. Он сидел на завалинке, спиной привалившись к бревенчатой стене и, подняв голову, мечтательно следил за плавным ходом белоснежных облаков. – И сеновал. Непременно большой сеновал. О прошлый год по бескормице казённой коня потерял. А было б поместье, да сеновальчик, так по сю пору ходил бы подо мной Каурка. А так… Кормить нечем было, вот и пришлось под нож пустить, чтоб лучшим другом детей накормить. А какой конь был, э-э-эх… Вы такого коня отродясь не видали.
– Ха, не видали мы, сказал тоже. – вмешался в разговор Мирон Насекин, снискавший в сотне славу забаутника[37 - Забаутник – балагур, рассказчик.]. Худощавый и вёрткий, с подвижным лицом и беспокойными руками, он вскочил на ноги, чтоб оказаться выше всех. – Я как-то раз в бою такого коня взял. Вот это был да. Что ты!
– Ну-ка. – всерьез оживился Рогожин, который терял покой, едва речь заходила о лошадях.
– Давай-ка, поведай, что за чудо-конь. – поддержал Авдей Жихарь, с улыбкой тыча локтём в бок Развалихина.
– У-у-у-у! – Мирон закатил глаза. – Как гарцевать учнёт – сказка. А летал как? Что на крыльях. Земли не касался. Как-то раз один мурза ногайский узрел, так что банный лист прилип, не отвадишься. Уступи, деи, что хошь бери. Вот что попросишь, то и отдам. Ну я тоже ни в какую. Мол, самому нужон. В ратном деле добрый конь полжизни стоит. Так он, мурза энтот, до того загорячел, весь гарем, деи, забирай. Мол, на что мне энти глупые бабы. Во как. А бабы-то у него не простые, ясно дело. Лучших пород. Мурза, никак, понимать нужно. И он мне дюжину энтих баб ну чуть не силком пихает.
– Да уж скажи – сотню… Чего жмёшься-то? – с усмешкой вставил Гришка Ладыжников, без замечаний которого не обходился ни один рассказ Насекина. – Али остальных на следующий раз приберечь решил?
– Ты… Знаешь… – возмутился Мирон и покраснел, но никто не мог сказать точно, по какой причине. От стыда, что его уличили в бессовестной выдумке, или от гнева на то, что мешают вещать святую правду.
– И-то верно, Гришка. – Шелгунов неожиданно вступился за Насекина. Но не успел Мирон благодарно кивнуть и продолжить рассказ, как Никита добавил со сдержанной усмешкой. – Не хочешь слушать, как люди врут, так сам ври, давай!
– Ну, н-е-е-ет. – Ладыжников замахал руками. – Здесь уж мне куда? Миронка у нас врёт, что шёлком шьёт. Гладь знатная выходит. Мне так не под силу.
Тут уж насмешки стали сыпаться со всех сторон.
– Уж коли Насекин врать станет, ни пеший, ни конный не догонит.
– Он разве что невзначай правду молвит, по случайности.
– Да пошли вы в таком разе… Все скопом! – вспылил Мирон, но едва в ответ грянул дружный смех, и сам улыбнулся. – Будто для себя стараюсь. Сами же пристали. Расскажи да расскажи. А я чего? Врать не пахать – было б кому слушать. Как говоритси, всякая прибавка хороша с прикраской. Коли не солгашь, так и не продашь. Так-то, олухи. Боле ничего от меня чего услышите, чёрта лысого.
– Ой ли? Побожись.
– Ох, братцы, икону неси. Да спехом. Не то упустим случай.
– Ага, не услышим. – продолжал поддевать Ладыжников. – Поклялась свинья дерьма не жрать, да вдруг бежит – а его целых два лежит.
– Ладно, на себя глянь. Будто не знаем, каков ты безгрешнец. – беззлобно огрызнулся Насекин и тут же встрепенулся, что-то вспомнив. – Ой, братцы, смех какой был. Как-то раз пентюх этот по шалому забежал на двор к вдовушке одной. Та в крик. А этот, чтоб ты думал?
– Ну вот, говорил же, пущай божится. – Гришка Ладыжников с наигранной досадой всплеснул руками и тут же подавился сдержанным смехом.
За ним прыснул Никита Шелгунов, и скоро лобное место опять потонуло в громком хохоте полсотни человек. Правда, он тут же смолк. На просторном гульбище появился московский подьячий с длинным пергаментом в руках. Рядом с ним стоял невысокий коренастый дворянин в старой чуге с заплатками на локтях и пушистом лисьем малахае. Чиновник дождался, пока стихнет ропот, и заговорил по-хозяйски уверенно.
– Ну что, собрали?сь, бездельнички? Готовы верстаться? – Дружный возглас одобрения громом прокатился над детинцем. Подьячий жестом подозвал Фёдора. – Вот это отныне сотный голова ваш, Фёдор Степанович Клыков. Под ним служить будете.
Клыков смущённо откашлялся, торопливо сдёрнул с головы шапку, не зная, куда её деть, стал нервно мять в руках.
– Из каких же будешь? – настороженно спросил Жихарь. – Не серчай, но что-то не похож ты с нашим братом.
– Из послужильцев я. – честно признался Фёдор, и по толпе дворян пошёл недовольный шёпот.
– Это что ж выходит? – высокий голос Демьяна Рогожина перекрыл общий ропот. – И здесь княжьи холуи нас обскакали?
– В походах им всюду само лучше место достаётся. – поддержал его Развалихин. – Как бой – так нам в пекло, а как хабар брать – так им напервой.
– На что нам в головы чужак, да ещё из княжеских?
– Что у нас, своих, что ль, нет, кто в головы годен?
– Верно. Вон, Никита Шелгунов уж сколь сотничал, пущай и дальше он.
Фёдор слушал всё это спокойно. Он прекрасно знал, что точно так же, как послужильцы презирают дворян, те не переносят на дух послужильцев. Всё это началось так давно, что теперь уже никто не ведал истинных причин. Но от предков по наследству получая эту неприязнь, потомки легко находили для неё свои резоны. Потому Клыков и не ждал любезной встречи. Он был готов к упрёкам и теперь, хладнокровно позволив дворянам спустить пар, ответил уверенно и твёрдо:
– Да, верно, прежде я у князя в службе был. Однако ж ратно дело, оно, с какого боку ни гляди, всё одним цветом отливает. Красным, по крови. А послужилец послужильцу рознь. И я хоть из княжеских людей, а с нынче их люблю не больше вашего. – Фёдор выждал, без страха глядя на молчавших дворян. – Я вам в головы не сам встал, а царём поставлен. А коли так, любить не прошу, а всяко жаловать придётся.
– Вот это верно сказано. – поддержал его чиновник. Он строго погрозил пальцем и даже топнул ногой для пущей острастки. – А то ишь, гляди, взъерошились! Чего возомнили? Вы царёво войско. А кто шибко своеволен, так путь чист. Пущай ступает дале на денежном окладе жить. Уразумели?
Дворяне притихли. Речь Фёдора их не слишком убедила, но вот угроза подьячего остудила даже самых дерзких. После стольких лет ожиданий никто не хотел остаться без поместья из-за глупого упрямства. А чужак? Ну так что ж, это не впервой. Сколько их было таких, чванливых, важных, гонористых. Сгинет в первой же стычке и всех дел.
– Ладно, братцы, хорош булга?читься[38 - Булгачить – скандалить, производить переполох, беспокоить, будоражить]! – По ступенькам на гульбище легко взбежал Никита Шелгунов. – Цыплят, их ведь по осени считают, верно? Так что поглядим, каков Фёдор Степанович в деле, там и видно будет. А покуда неча бузу разводить.
Фёдор в благодарность едва заметно кивнул Шелгунову, тот в ответ лишь равнодушно усмехнулся – не ради тебя, мол, старался.
– Десятники есть средь вас? – выкрикнул подьячий, спеша увести разговор в другое русло. На гульбище к Шелгунову молча поднялись Жихарь, Развалихин, Насекин, Демьян Рогожин и Гришка Ладыжников. Окинув их беглым взглядом, чиновник разочарованно вздохнул. – Маловато будет… Нынче семьдесят два дворянина обверстаем. Так что ещё один надобен. Фёдор Степанович, ставь, коли ты сотник.
– Разберёмся, поглядим. – уклончиво ответил Фёдор. – Не спехом дело спорится, а толком. Где я нынче доброго десятника возьму, коль не знаю никого?
– Положено так. – мягко настоял подьячий.
– Ну, коли положено… – Клыков побежал взглядом по толпе и вдруг удивлённо округлил глаза. – О, Кудеяр. А ты здесь каким ветром?
Осторожно раздвинув переднюю шеренгу, из людской гущи вышел Тишенков. Смущённо пряча глаза, он шагнул на первую ступеньку лестницы, но дальше не пошёл.
– Да вот, Фёдор Степанович, тоже одворяниться хочу. – Едва слышно признался он, не поднимая головы.
– Вот тебе раз. Это как же?
Кудеяр промолчал. Ибо как объяснить, что затея с конями, ради которой он ушёл от князя, рассыпалась в прах, даже не успев начаться? Ведь местный ростовщик запросил лихву в полную сумму каждый месяц. То есть, взяв сейчас десять рублей серебром, на исходе ноября Тишенков должен был отдать уже двадцать. А если бы пришлось просить отсрочку, к концу декабря долг вырос бы до сорока. При таких раскладах торговля жеребцами теряла всякий смысл, но Свист про это даже слушать не хотел и твёрдо стоял на своём: либо Кудеяр платит за коней вперёд, либо барыш делить будут в семь долей шайке против трёх Тишенкову. Так что предстояло либо влезать в кабалу, с которой не расплатиться, либо изыскать способ надавить на Свиста, чтобы он пошел на уступки.
– Так что же, Фёдор Степанович. – Кудеяр наконец-то смог посмотреть на старого товарища по службе, с которым так нехорошо расстался два месяца назад. – Замолвишь слово за меня? Али как?
Фёдор колебался. Он, как и все послужильцы Белёва, недолюбливал Кудеяра. Уж больно тот был себе на уме, всегда держался в стороне от общих дел, а за общим столом на пиру не сиживал и подавно. Так что, будь его воля, Клыков гнал бы Тишенкова поганой метлой до самых ворот. Но сегодня утром в разговоре с ним князь Горенский в который уже раз сетовал на то, что все ратники Белёва ушли от государевой службы в Бобрик. Пётр Иванович твёрдо знал: того, кто допустил такое, Москва не похвалит, потому готов был заплатить любую цену, лишь бы заполучить в придачу к бывшему десятнику Клыкову хотя бы ещё одного, пусть тоже бывшего, послужильца. Так что Фёдор отогнал свои сомнения и обратился к подьячему:
– Ну, коли так, вот и седьмой десятник сыскался.
Чиновник согласно кивнул и что-то быстро записал в свои бумаги. Потом передал их писарю, а сам вышел на край гульбища. Оказавшись над толпой дворян, замерших в нетерпеливом ожидании, подьячий не спеша оправил кафтан, любовно пригладил соболиный мех шапки и откашлялся.
– Ну вот что, братцы. Сегодня верстаться будем, и сразу вам первая служба. Из Москвы приказы едут, да чиновный люд всякий. Пушкари, опять же, со стрельцами. Их всех размещать надобно и для того детинец освобождать от всякого будем. Ибо детинец есть цитадель городская, то бишь воинское место. И коль скоро ратным делом отныне князь Горенский ведает, стало быть, и в детинце распоряжаться он станет, а не волостель. Так что завтра же с утра всех бывших послужильцев, что к Бобрикову на службу ушли, из домов вон. Коль им служба при князьях больше любится, пущай и едут в Бобрик тогда. В государевых местах им отныне места нет.
Глава пятая
В полдень 28 октября в белёвский детинец въехал обоз из десятка телег. Передней правил Иван Пудышев, остальными – мужики из Бобрика. Миновав Болховскую башню, вереница повозок проползла по единственной улице, под грохот деревянных колес пересекла мощёное камнем лобное место и длинной цепью растянулась вдоль послужилых домов. Сразу же застучали двери, калитки и ворота. Со дворов посыпался народ: женщины, старики и дети. На обочине появились горы из мешков и узлов с вещами; в ряд строились берестяные короба и туеса; в придорожной грязи среди пожухлых сорняков и мутных луж непривычно и странно смотрелись сундуки в металлических набойках по углам, с резным узором на боках или потёртой росписью на крышке.
Все пожитки Иванова семейства уместились в два холщовых тюка и большой дощатый ларь, на котором обычно спал Афанасий Иванович. Старик и сейчас отказался покидать привычное место и, по-турецки сидя сверху, зябко кутался в старый армяк и беспокойно озирался. По временам он сокрушённо тряс почти лысой головой с жидким клочком бородёнки и повторял одно и то же:
– На кой дался этот переезд?
Подслеповатые глаза слезились, и старик часто тёр их кончиками узловатых пальцев. От этого движения армяк, наброшенный на плечи, сползал, и тогда стоявшая рядом Марья поправляла его, снова укрывая сухое старческое тельце. А в ответ свекр, глядя на нее с упреком, повторял одно и то же:
– Ну вот на кой дался этот переезд?
Марья ничего не отвечала – она и так едва держалась, чтобы не заплакать. Справа от матери в испуганном молчании замерла старшая дочь Анна. Слева, ручонками вцепившись в подол, за всем происходящим с неподдельным детским восторгом наблюдала Настенька.
Остановив коня, Иван сошёл с телеги.
– Ну как, готовы? – спросил он, не поздоровавшись, избегая смотреть на жену.
– Ты, Ванюшка, главно не забудь для матери весточку оставить. – наставительно прошамкал беззубым ртом Афанасий. – Чтоб, как вернется, сыскать нас смогла. Понял?
– Ну как же забыть, бать? Не тревожься.
Наконец Иван набрался смелости и посмотрел на жену. За минувшую неделю Марья побледнела и осунулась, так что лицо её теперь напоминало восковую маску. Глаза запали и потускнели, их когда-то бездонная синь стала пасмурно-серой, как осеннее небо перед дождём. Под веками очертились тёмные круги. Поймав не себе виноватый взгляд мужа, женщина ободряюще улыбнулась, но по щеке тут же побежала слеза, и Марья поспешила отвернуться. В груди Ивана сжалось и больно кольнуло. Ох, если бы прямо сейчас разверзлась земля, и он провалился в прямо к черту в пекло, это было бы лучше, чем видеть все, что творилось вокруг.
– Грузитесь. – тихо произнёс он и бросил в телегу оба мешка.
Иван взял на руки отца – костлявое тело было почти невесомым – и бережно усадил его на соломенный тюфяк, который жена расстелила на дощатом дне повозки. Покончив с этим, Иван подошёл к сундуку, примеряясь, как бы одному втащить его в телегу. Он уже подсунул руки под дно, с натужным хрипом приподнял огромный ящик и несколько шагов проволок его по земле, когда из ворот соседнего двора появился Фёдор.
– Здорово, Вань. – смущенно сказал он и взялся за верёвочную ручку на боковине. – Давай, пособлю.
Пудышев бросил сундук, распрямился и поставил длинную худую ногу на крышку.
– Благодарствую, ты уже помог. – зло бросил он и сплюнул под ноги Фёдору. – Сказывали, ты нынче сотник? В гору идёшь. А не спрашивал у москвичей, что надобно сделать, чтоб воеводой стать? Может, весь посад выселить?
– Так говоришь, будто на то моя воля была. – возразил Клыков, но говорил он неуверенно и тихо.
Умом понимая, что в случившемся нет его вины, в душе Фёдор всё же ощущал себя предателем и трусом. И чтобы оправдаться в собственных глазах, вдруг заговорил со злым укором.
– Покуда я в застенке был, ты тоже не спешил на выручку. Так что…
– Так что квиты, стало быть, да? – с кривой ядовитой усмешкой перебил Иван. – Посчитался ты со мной. Доволен нынче?
Клыков не выдержал колючего взгляда друга. Отвернулся, но на свою беду тут же глазами встретился с Марьей. А та смотрела без упрёка, наоборот, с мягкой кроткой жалостью, отчего у бывшего соседа защемило сердце. Внезапно, он вспомнил, что перед выходом, зная, что встретит всё семейство, специально положил в карман домашней одежды малиновый леваш – любое лакомство Насти. Спохватившись, Фёдор достал маленький свёрток и подошёл к телеге, но не успели обе девчонки по-детски просиять при виде угощенья, как Иван перехватил руку Клыкова и до побелевших пальцев сжал запястье.
– Ну вот ещё не хватало. – процедил Пудышев сквозь зубы и резким движением сбросил с плеча руку Марьи, которая пыталась успокоить мужа. – Уж не голодные. Без подачек от тебя не сдохнут.
Фёдор тоже вскипел. Потянул предплечье так, что рука Ивана вывернулась, и он против воли разжал пальцы. Клыков отшвырнул раздавленный леваш. Сладость с плеском упала в глубокую лужу, по грязной воде пошли круги, и от малиновой начинки расплылось красное пятно.
– Ну, коли так… – сдавленно прорычал Фёдор. – Приказы ждут, освобождай жилище. Да не тяни, гляди. Кто до обедни сам не сможет, того в плётки гнать велено.
Клыков резко развернулся и зашагал к терему, на углу которого, рядом с пристройкой поварни, уже толпилось три десятка дворян. Без доспехов, но при оружии. Пудышев смотрел вслед другу, и кулаки его разжимались сами собой, а жгучая злость в глазах уступала место бессильной печали.
– Ладно, тянуть и правда неча. – тихо сказал он, скорее сам себе.
Повернувшись к дому, Иван прочитал короткую молитву, перекрестился трижды и поклонился в пояс. Возница стоявшей рядом телеги подоспел на помощь, и вдвоем они затолкали сундук на повозку. Улица зашевелилась, гружёный обоз тронулся с места и под жалобный скрип плохо смазанных осей потянулся на выезд из детинца.
Чтобы успеть в Бобрик к закату, дорогу в двадцать две версты прошли разом, с одним коротким привалом. Город показался уже в первых сумерках, когда на одном краю земли ещё пылал багряный закат, а на другом небо уже резал узкий серп луны. Слабый свет с оттенком перламутра заливал полоску земли между маленькой речушкой, что тускло серебрилась на дне пологого оврага, и глубокой сухой обрывистой балкой.
Ещё на въезде в Бобрик, у посадского моста, переселенцев встретил караул. Одного охранника отправили с известием вперед, так что когда караван телег въехал в детинец, там уже собралось два десятка домашних княжеских холопов во главе с огнищным тиуном. Захар Лукич с ужасом смотрел на прибывших и думал, где разместить, чем накормить ораву в сотню ртов.
Выгружаться стали уже в темноте. Илья Целищев, кряхтя и надрывно дыша, снимал с телеги большой сундук, куда уместилось всё добро большого семейства. Роман Барсук первым делом помог сойти на землю беременной жене, затем стал ссаживать пятерых детей – один другого меньше. Платон Житников, ворча, в кучу сбрасывал мешки с вещами, а рядом Ларион Недорубов заботливо укладывал ящик, в котором хранились кольчуга, шлем, сабля и два кинжала.
Марья, с непривычки разбитая долгой тряской, отдуваясь и тихо постанывая, уложила в кучу оба узла и усадила на них полусонных дочерей. Иван помог спуститься отцу, который проспал всю дорогу, а проснувшись, первым делом спросил, знает ли Ульяна Никитична, что они будут ждать её здесь. Пудышев не ответил, только вздохнул.
Бобрик ему не нравился с первого дня. Посад казался бестолковым и кургузым— словно великан забавы ради впихнул на тесный пятачок как можно больше маленьких избушек, а детинец, на прикидку раза в три меньше белёвского, был застроен так плотно, что среди его нагромождений Иван не мог свободно дышать. Пока Бобрик оставался просто приграничной крепостцой, где он просто нёс службу вдали от дома, Иван не слишком беспокоился об этом. Теперь же, когда судьба занесла сюда семью, всё виделось иначе. Но даже неустройство здешней жизни отступило под напором других мыслей. Из-за реки ветерок приносил терпкий дух полыни пополам с вонью горелой травы. Для порубежников это был знакомый запах Дикого поля, запах беды, которая теперь всегда будет рядом. Белёв, конечно, тоже не Вологда с Белоозером, где татар видели редко, но всё же и не самый рубеж, где жизнь со смертью ходят бок о бок.
– Где размещаться-то будем? – спросил Иван у Тонкого, и тот кивнул куда-то в глубь детинца.
– Бобка! – Сидор взглядом отыскал младшего дружинника и скомандовал. – Веди новосёлов. И помоги Ивану Афанасичу устроиться.
Юный Замятин, донельзя довольный тем, что получил задание лично от Тонкого, с готовностью подхватил один из тюков и резво зашагал к старой конюшне, что последние лет пять служила складом для всякого хлама, который не годился к делу, но выкинуть его всё равно было жалко. Теперь он огромной горой громоздился у открытых ворот в торце барака. Внутри было сыро и зябко, из конца в конец сквозного коридора потоком гулял ветерок с запахом навоза и застарелой конской мочи. Семьи белёвцев расселили по денни?кам, разделённым переборками высотой чуть больше двух аршинов, так что соседи при желании могли бы заглянуть друг к другу.
Пудышевым достался особый денник в торце. Прежде там держали беременных и только что ожеребившихся лошадок, оттого помещение было заметно свободней, теплее и соседи имелись только с одной стороны. Обустройство заняло весь вечер, и только к полуночи Марья смогла, наконец, присесть на кучу прелой соломы, что заменила супругам постель. Отец Ивана, накрытый армяком и старой конской попоной, тихо сопел в долблёном корыте бывшей кормушки. В дальнем, самом тёплом углу всё на тех же узлах спали девчонки. В центре новых хором разместился сундук, который отныне служил семейству столом. На нём стоял небольшой чугунок с пшённой кашей и кусок варёной тыквы вместо хлеба – скромный ужин под конец уборки принёс снова посланный Тонким Бобка Замятин, но к еде никто не притронулся.
Хотя с самого утра Ивану в рот не попало и маковой росинки, а всё же кусок не лез горло, так что пару раз ковырнув кашу ложкой, он отложил ее и, выйдя из-за стола, присел на соломенный ворох, с усталым вздохом вытянул гудевшие ноги. Марья бесшумно опустилась рядом.
– Ну чего ты? – ласково спросила она. Её маленькая ладошка легла на жилистую ручищу мужа. – Ничё, ничё. Не в чистом поле ведь. Да и свои, опять же, рядом.
Иван кивнул и, чтобы не выдать истинных чувств, попытался улыбнуться. Вышло криво, жалко, и Марья, вдруг простонав, подалась вперед, прижалась к Ивану, положила подбородок на узкое костлявое плечо, влажной от слёз щекой прижалась к колючей щетине. И прошептала, едва сдерживая всхлип.
– Не вздумай, слышишь. Мне одна опора только. Ежели ещё и ты подломишься, хоть сразу в гроб.
Чувствуя, как Марья затряслась в рыданиях, Иван закусил губу, чтоб не заплакать самому. Обхватил жену свободной рукой и прижал к себе. Так они и просидели, пока над детинцем Бобрика не разлетелась утренняя песня петуха.
Глава шестая
В начале ноября в Поочье пришла непогода. Небо затянули обложные тучи, и солнце исчезло в их тёмно-свинцовой утробе. Зарядили дожди, их заунывная трель звучала дни напролёт, и даже во время редких коротких затиший воздух всё равно наполняла едва ощутимая морось. Реки вздулись и вышли из берегов. Земля раскисла, пустые, негружёные повозки, и те вязли в грязи по самые оси, и даже верховые передвигались только шагом – в галоп не поскачешь.
В такую пору для служилых людей порубежья наступала передышка, ибо набегов ждать не приходилось. Потому новым белёвским дворянам сразу после верстания дали время на обжи?тье в новых поместьях.
Четвёртого ноября под проливным дождём новоиспечённый сотник белёвских дворян верхом на гнедом жеребце в старом армяке и хвостатом лисьем малахае въехал в Водопьяновку. Семёна он с собой не взял, оставил в городе, готовиться к ратной службе и… наслаждаться внезапно вернувшимся счастьем.
За день до отъезда к ним вдруг явился Елизар Горшеня. Он вошёл молча, понурый, скукоженный и жалкий, как побитая собака. Фёдор в это время сидел у печи и на точиле правил старый кинжал, по случаю купленный для Семёна. Увидев Елизара, он вскочил на ноги так резко, что опрокинул чурбак. Горшеня испуганно вздрогнул, попятился к двери, но, пересилив себя, остановился, стянул шапку и замер.
– Прощения пришёл просить, Фёдор Степанович. – глухо промычал он, не поднимая головы. – Бес попутал. Филин всё это, служка княжеский. С панталыку сбил. Принудил, злодей, к навету. Сам бы я ни в жизнь. Прости, Фёдор Степанович, а?
Елизар наконец-то решился посмотреть на Фёдора, но, едва встретившись с ним взглядом, как подкошенный рухнул на колени.
– Спаси, Фёдор Степанович, не губи! Горенский тайны книги сыскал, нынче ищет, кого крайним сделать. Что волка обложили, на погибель гонят… Спаси, Фёдор Степанович!
– Сгинь, нечисть, с глаз долой. – прорычал Клыков, с трудом подавляя вскипавшую ярость.
Он уже готов был ударить Горшеню, схватить его за ворот и пинком выставить за дверь, но тут на пороге появилась Лада. В расшитом шуга?йце[39 - Шугай или шуга?ец – старинная русская женская одежда, род короткопо?лой кофты с рукавами.] и праздничном венце с подведёнными сурьмой глазами и лёгким свекольным румянцем на щеках. Она бесшумно вплыла в тесные сени, остановилась рядом с отцом и молча тоже опустилась на колени.
– Ты же сотник ныне, к самому Петру Ивановичу вхож. Свата твоего не тронут, пощадят… – причитал Горшеня. – Заступись, Христом богом молю, Фёдор Степанович.
Лада молчала. На бледном ангельски красивом личике лежала печать душевных страданий – ей невыносимо было видеть унижение отца. Но едва девичьи глаза нашли Семёна, как тут же засветились радостью и счастьем. Юноша, сидя на доспешном сундуке, штопал старый тягиляй. Увидев Ладу, он выронил доспех и замер с сапожным шилом в руке и намыленной дратвой в зубах. А когда их влюблённые взгляды встретились, Фёдору примнилось, что в тесной комнатёнке, пропахшей дымом и щёлоком, вдруг стало светлее.
– Тьфу ты, в пень колоду… – прошипел Фёдор, злясь на самого себя, ибо в этот миг прекрасно понял, что не сможет отказать Горшене. – Ладно, бес с тобой. Скажу слово. Но учти. Не дай бог, как отляжет, вздумаешь про женитьбу крутить… Гляди тогда!
Так Семён Клыков и Лада Горшеня снова стали женихом и невестой. Спасённый Елизар на радостях даже согласился, чтобы отныне влюбленные виделись каждый день. Под присмотром, конечно. А Фёдор, чтобы не лишать сына этой радости, позволил не ехать с ним в поместье.
Отыскав двор старшины, Фёдор по-хозяйски, без спроса завёл в сарай коня и, устроив его рядом с тощей облезлой коровой, бросил в ясли охапку сена. Жеребец жадно потянулся к сухой траве губами, но не успел ухватить и пучок, как за спиной у Клыкова раздался встревоженный голос:
– Здравствуй, мил человек.
Фёдор обернулся. В покосившемся дверном проёме стояли Мефодий и Матвей Лапшины. Заметив в окно чужака, который без стеснения орудовал в сарае, хозяева поспешили на двор. Старик, отдуваясь после бега, недоверчиво смотрел на незваного гостя. Матвей пытался в полумраке взглядом отыскать вилы или что-то ещё, что могло сгодиться за оружие.
– Здорово! – радостно ответил Фёдор. – Ты, стало быть, старшина тутошний?
– Стало быть, я. – тихо, словно нехотя признался Мефодий.
– Ну, коли так, знакомы будем – Фёдор Степанович Клыков. Отныня дворянин здешний.
Фёдор протянул старшине бумажную трубочку с накладной печатью государева поместного приказа. Мефодий дрожащими пальцами развернул грамоту, взглядом пробежал по трём неровным строчкам.
– Это как же, мил человек, понимать? – спросил он, возвращая грамоту.
– А так и понимай. Отныне это государева земля, а я на ней за службу помещён. Отныне княжеских рядцов над вами не стоит. Один господин у вас – я. Понимаешь?
Мефодий озадаченно почесал затылок.
– И это… Что ж теперь? Как?
– Ну, перво-наперво, дай-ка мне согреться. – усмехнулся Фёдор. – А уж после толковать станем.
Старшина хлопнул себя по лбу и виновато улыбнулся.
– Да уж конечно… Милости прошу!
Лапшины провели Клыкова в дом. В единственной комнате совсем не маленьких размеров было темно и тесно, как в гробу. Одну половину горницы занимал большой верстак в локонах стружки и россыпи щепок. Полавочник над ним загромоздили бочарные плашки. Рядом на полу лежало несколько деревянных обручей, внутри которых насыпью валялись скобеля, уторники и прочий мелкий инструмент.
В другой половине, сраставшейся с бабьим углом, в ряд стояло полдюжины снопов сухой льняной соломы. Чуть поодаль Дуняха в мокрой от пота рубахе среди облака серо-зелёной пыли усердно шлёпала рукоятью большой мялки. Рядом с печкой Серафима на веретене сплетала размятые волокна в длинную нить. У её ног в своих заботах копошились трое ребятишек мал мала меньше.
– Бросай работу, бабы. – бойко скомандовал Мефодий. – Гостя приветить надобно.
Клыков снял лисий малахай, стянул с себя промокший под дождём армяк и отдал одежду Дуняхе. Серафима уже суетилась возле печи, доставая из дымящего горнила чугунок без крышки. Матвей ершистой щёткой очищал от опилок верстак, служивший семейству обеденным столом.
– Ну вот что. – начал Фёдор, садясь на лавку. – Как тебя?
– Мефодий Митрофаныч.
– Перво-наперво о главном давай. Дьяк в Белёве сказывал, вы на три поля просились. Так?
Мефодий Митрофанович бросил на сына косой беглый взгляд. Матвей с опаской дёрнул бровью. Челобитная, что они отправили новому князю, для общины едва не обернулась большой бедой. Так что теперь, когда вновь всплыл разговор про переход на три поля, старшина поневоле напрягся, не ожидая добра.
– Хотели. Да князь отказал… – упавшим голосом сообщил он.
Фёдор взъерошил мокрые кудри и неуверенно улыбнулся. Предстоящий разговор о пашнях, посевах и сборах для него был всё равно что слепому поход по густому лесу.
– Ежели мне верно всё растолковали, урожай при том чуть не вдвое больше станет, так? – он говорил медленно и от волнения часто запинался. – А по государеву наказу дворяне оброк в поместье не по четям пашни получают, как вотчинники, а десятину с урожая. Выходит, мне тоже глянется, чтоб вы больше собирали. Потому, давай-ка, Мефодий Митрофаныч, вместе покумекаем. Может, и выйдет что. Объясни мне, в чём загвоздка-то?
Старшина всплеснул руками. Он, когда-то давно рождённый на покосе, провёл в полях всю жизнь и потому искренне удивлялся, когда кто-то не понимал столь очевидных истин.
– Да просто же всё. Нынче у нас пашни сто восемьдесят две чети. Половина под паром кажный год лежит, а засевам мы токмо девяносто. При наших урожаях меньше сеять нельзя. И так, токмо впритык хватает, дабы оброк выплатить да самим после с голоду не сдохнуть. А ежели на три поля переходить, так целых два года всего шестьдесят четей в запашке будет. Это в самый щедрый год не прокормит. Вот и вся загвоздка.
Клыков понимающе кивнул и слабо улыбнулся.
– Ну вот что тогда послушай. Но по верстанию мне поместье в двести двадцать четей дадено. И на те сорок без малого четей, что не достает нынче, позволено государев лес сводить. В грамоте поместной так и сказано. А когда у нас двести двадцать четей будет, тогда треть от них – почти восемьдесят. Это раз. – Он поставил руку локтем на стол, сжал кулак и распрямил указательный палец, а потом добавил к нему ещё и средний. – А вот два. Нынче мне из казны вспоможение дадено. Три рубля, дабы к весне здесь усадьбу поставить.
– Усадьбу? – Старшина удивлённо вскинул брови. – Отродясь здесь усадьбы не было…
– Само собой. Ибо прежде вы просто княжеским сельцом были, а нынче – дворянское поместье. – С улыбкой пояснил Клыков. – А поместью без усадьбы нельзя. Непременно надобно. Я даже место приглядел, пока дом твой искал. Прямо против Берегини вашей, на бугре через ручей. Там и будем ставить. А коли так, можно ведь три казённых рубля сберечь. Ежели всё одно лес под поле сводить будем, так заодно на терем брёвен заготовим. А я на эти рубля, да с казённым приварком, два года уж как-ни то переживу. Стало быть, и от оброка вас освобожу. Ну, как вам такой договор? Вы нынче новые поля чистите, да к весне усадьбу мне рубите. А я вас на два года от оброка ослобоню.
Мефодий долго теребил клинышек козлиной бородёнки, потом тёр указательным пальцем кончик носа и водил широкой костлявой ладонью по поверхности стола.
– А почему к весне-то усадьбу?
На мгновение Фёдор растерялся. Он ожидал каких угодно возражений, но вопрос старшины застал его врасплох.
– Поместный приказ так положил. – объяснил он. – Три рубля получу, токмо ежели к весне усадьба в поместье будет. Инше и полушки не дадут. А тебя что беспокоит?
– Да вишь ли… – Мефодий наморщил лоб и цокнул языком. – Тот лес, что под пашню сводить станем, он на стройку не гож. Там кустов больше. Из дерев кривьё одно да малорослик. Не набрать там на терем. Для стройки лес за болотом брать придётся.
– Так берите. В чём беда?
– А беда, Фёдор Степаныч, в том, что сие не так просто выйдет. Чтобы весной сруб ставить, брёвна уже нынче готовить приспело. Свалить ведь мало. Окоре?нить надо, по-особому сложить, чтобы к тёплым дням просохли, да, нет-нет, поворачивать. Словом, всю зиму пригляд за бревном надобен. А с болота их покуда не вывезти. Ежели б свалить да сюды сразу приволочь, всё б запросто. Да через топь гружёна лошадь не пройдёт, пока лёд добром встанет. А с нашим болотом сие токмо под крещенские морозы будет. Ибо вода там особа?, шибко гнилая. Потому даже в самый лютый холод дышит. Вот и выходит, чтобы весной тебе сруб поставить, кто-то должен нынче же за болото идти и там зимовать, лес готовячи. Без крова, без ествы даже. Как снег ляжет, по болоту не пройдёшь, а с собой сколь снеди взять можно? На зиму навряд ли хватит. Да зверьё, опять же. Ну как волки аль шатун нагрянет? Так что, ежели кто пойдёт, считай, бабка надвое сказала, вернётся ли. Может, да, а может, нет.
– А я что-то не пойму, Мефодий Митрофаныч… – спросил Клыков уже совсем другим тоном. Благодушие, что звучало в голосе с начала разговора, теперь сменилось холодным подозрением. – Вы на три поля перейти хотите али как? Кто мне сказывал, что без того не выжить, а? Или хотите, чтоб без тревог да волнений всё устроилось? Кто-то всё для вас чтоб сделал, а вы токмо на готовое пришли? Без труда, сам знаешь, и рыбку из пруда не вынешь. Так что ежели нужны вам три поля, придётся постараться.
Старшина печально улыбнулся.
– Постараться? Да мы, Фёдор Степанович, во всю жизнь токмо и делам, что старамся… Хлеб наш от пота солён, иначе не бывало никогда. И три поля нам нужны, чего уж там. Так что мы и стараться готовы, и нужду терпеть, и даже жизнь на кон поставить. Но токмо ежели все разом. Поровну на всех невзгоды разделить, так и нести их легче. Да токмо в заболотный лес всех разом не пошлёшь. Двоих и то не пошлёшь. Потому как, если на пашню лес валить, кажный тут нужон будет. Потому кто-то один идти должен. – Мефодий помолчал, глядя на гору опилок в углу и россыпь тонкой стружки, что кудрявилась вокруг ножек стола. – Ты пойми, Фёдор Степаныч. Вот выйду я нынче к общине и скажу, мол, айда, братцы всем миром за болото, лес валить. И все пойдут, не взропщут. И стужу терпеть будут, и гнилое варево жрать. А как скажу, мол, один за всех пойдёт и навряд вернётся – вот тут у каждого в душе и засвербит. Нешто он среди всех крайний? Про детишек тут же каждый вспомнит, про стариков немощных. Ежели он сгинет, кто их на заботу возьмёт? Поразмыслят так мужики, и никто добром не пойдёт. Все откажутся. А силком я никого посылать не стану. Не могу. А и мог бы, не послал – ежели пропадёт человек, таков грех на душе не сдюжу. Вот видишь, Фёдор Степаныч, как заплетается. Вроде просто всё, как со стороны глядишь. И три поля все хотят, и претерпеть за то готовы. А послать некого. Не пойдёт никто.
Во весь этот разговор Матвей молчал и смотрел на Серафиму, которая уже вернулась в бабий кут с краюхой хлеба. Усевшись на сундук, она разломила ржаную горбушку на три одинаковых куска и каждый слегка присыпала солью. Рядом с ней уже нетерпеливо топталась ребятня и, раздав им угощение, Серафима наконец глазами встретилась с мужем. Она всё поняла без слов, нахмурилась и отвернулась к ребятишкам, что сияя от счастья, торопливо жевали подсоленный хлеб. И как раз когда старый Мефодий сказал, что послать ему некого, Серафима вздрогнула, подняв на Матвея полные слёз глаза, тихо кивнула. Младший Лапшин слабо улыбнулся, кивнул в ответ и решительно объявил:
– Ладно, бать. Коли так, я пойду.
Глава седьмая
Когда белёвских дворян отпустили в новые поместья, Кудеяр покинул город первым. Пока государево войско гуляло в кабаке Корнея Семикопа, где новый целовальник всех угощал, бывший послужилец Тишенков уже с заводным конём мчался в сторону Бобрика. После полудня он свернул с большой дороги к Оке, пересел на свежую лошадь и в первых предрассветных сумерках въехал на Менялый хутор.
В этот раз Кудеяра никто не встречал. Оказавшись у ограды, он встал на стременах и с тревогой посмотрел в сторону сеновала – кони всё ещё были там. Все десять скакунов бродили по загону, и Тишенков облегчённо вздохнул.
Приободрившись, Кудеяр проехал к ближайшей избе. Крупный облезлый пёс выскочил из темноты и зарычал с угрозой, но, потянув носом воздух, дружелюбно завилял хвостом, лёг на пузо и подполз к Тишенкову. Тот оттолкнул собаку ногой и, не обращая внимания на её обиженный скулёж, прошёл в дом. В первой половине пятистенка густо висел чад курно?й печи, а запах свежего хлеба мешался с кислой вонью пота. Слева от двери, на больших нарах у очага вповалку лежали несколько мужчин, справа из-за холщовой завесы глухо доносился женский разговор и детский плач. Молча, ни с кем не здороваясь, Кудеяр прошёл в другую половину. Она была больше первой, но стоящий в центре огромный дубовый пень превратил её в маленькую тесную каморку. По краю необычного стола кольцом растянулись блюда с остатками еды, кружки и кувшины, а по центру в неровном дрожащем свете лучины лежали двухцветные кости для зерни. Сладко пахло вином и табачным дымом.
– О-о-о! Кара инде[40 - Кара инде – ты смотри.], кого к нам добрым ветром нанесло. – Свист с добродушной улыбкой раскинул руки, словно ждал, что гость кинется к нему в объятия. Главарь заповедников сидел напротив двери по другую сторону пня, а перед ним лежал взведённый арбалет, и стальной наконечник болта зловеще мерцал в кровавом отблеске лучины. Свист разрядил оружие и бросил короткий взгляд за спину Кудеяра. – Тыныч. Спокойно, свои.
Кудеяр обернулся. За его левым плечом у стены стоял Викай. Не глядя на Тишенкова, он на мордовском проворчал что-то злое и вернулся к столу, на ходу пряча маленький нож с широким кривым лезвием. Сидевший рядом со Свистом Вадим Печора тоже бросил на перемазанное жиром блюдо кинжал.
– Проходи, Кудеяр Георгиевич, гостем будешь. – пригласил Свист. – Сыграть не желаешь?
– Благодарствую. – Кудеяр присел на низкую чушку, что служила стулом, и жестом остановил Никифора, который собирался налить ему вина. – На серьёзный разговор приехал.
– Уф син. Нешто и правда, деньги привёз?
Тишенков нервно расстегнул верхний крючок кафтана, ослабил ворот. Немного подумав, взял стоявшую рядом кружку Печоры и залпом осушил её. Откашлявшись, наконец заговорил:
– Я нынче дворянином стал.
– О-о… Так ты поздравиться приехал? – иронично спросил Свист, но глаза его сузились, и в них на мгновенье мелькнула тревога.
– И не просто дворянин. – продолжил Кудеяр тем же тоном, будто не слышал насмешки над собой. – Десятник.
– И что же?
– А то, что, ежели захочу, я этот поганый хуторишко в порошок вот так сотру. – Кудеяр щёлкнул пальцами. – За мной отныне даже не князь белёвский стоит, а всё государево войско.
– Ну, что ты отныне важный человек, я понял. – Свист наконец перестал улыбаться и заговорил серьёзно. – Тока к чему ты клонишь?
– А ты прошлый разговор вспомни. Как барыш делили. Как ни крути, а придётся тебе, Свист, коней мне в долг доверить.
Свист опять криво усмехнулся, но былой весёлости в этой гримасе уже не было.
– Да ведь я и тогда не против был. Забыл нешто?
– По-о-омню… – зло протянул Тишенков. – Токмо доли ты тогда раздал не по совести. А уж нынче я раздавать буду. И пополам, как прежде предлагал, не жди. Отныне шесть десятин мне, четыре вам.
– Ха! Это с чего же так, Кудеярушка?
– А с того. Упрямиться станешь – я ваше дело так придушу, света божьего не увидишь. Брод, где ты через Оку ходишь, я знаю. А как десятник отныне буду сторожи водить в порубежье. Так что, ежели надобно станет, путь на перелаз тебе закрою.
– А хватит десятка-то? – усмехнулся Свист. – Степь, она ведь большая. Думаешь, споймаешь ветер в поле?
– Десятка не хватит, это уж само собой. – откровенно признался Тишенков. – Да токмо, ежели по-моему не выйдет, я про брод всё царёвым мытным людям выдам. А тогда уж не десяток вас стеречь станет. И не пройдёшь ты боле с конями за Оку. Не пройдёшь.
– Айтик. Ну, положим. Но какой тебе прок с того будет?
– А коли не мне, так и не тебе тоже. Вот каков прок. – злобно выпалил Кудеяр. – Так что выбирай, Свистушка. Либо, как я скажу, будет, либо всего лишу, без остатка.
Свист почесал затылок, поочерёдно посмотрел на всех подельников и с усмешкой мотнул головой:
– А може, коли так, нам тебя прям щас зарезать? И никаких бед после…
Тут же Викай, не поменявшись в лице, достал нож. Взяв рукоять обратным хватом, он упёр стальное острие в поверхность стола и посмотрел на Кудеяра холодным взглядом сторожевого пса, которого от смертельного броска отделяет лишь короткая команда хозяина.
– Зарезать, конечно, можно. – ответил Кудеяр, опасаясь, как бы дрожащий голос не выдал его страха. – Токмо коней куды девать будешь? Гляжу, все на месте. Что, не идёт без Кудеяра дело?
Свист нервно рассмеялся и коротким жестом остановил Викая. С самого начала разговора он прекрасно понимал, что в затеянной игре у Кудеяра есть только один козырь, но зато такой, который разом бил все остальные карты. Дружба с ногайцами, тайные степные тропки и даже перелаз через Оку – всё это теряет смысл, если заповедный товар, привезённый с таким трудом и риском, некому сбыть. А Кудеяр знал купцов из Перемышля, и, главное, в его руках княжеские клейма, без которых кони оставались заповедным товаром и стоили вдвое дешевле. А значит, Свист не мог обойтись без Тишенкова. Во всяком случае пока. А дальше, кто знает, может, уже завтра так сойдутся звёзды, что Кудеяр станет пятым колесом в телеге, и тогда Свист без угрызений совести отдаст его Викаю. А тот с радостью загонит Тишенкову нож под рёбра. Но пока придётся с ним считаться. В конце концов, даже при доле в четыре десятины барыш ватаги всё равно на круг выходил больше, чем в те времена, когда они имели дело с князем. Так что Свист ничего не терял. А затеяв ссору с Кудеяром, мог потерять всё.
– Ярау. Бес с тобой. Согласен.
Свист с улыбкой отодвинул лежащие перед ним кости зерни в общую кучу и смешал их все. Кудеяр рукавом кафтана отёр со лба холодный пот. Теперь уже притворяться было ни к чему. Он сделал рискованную ставку и сорвал на ней огромный куш. Вот что значит в этом мире власть, пусть даже столь небольшая, как власть поместного десятника. Благодаря ей он снова оказался на вершине мира.
Глава восьмая
Как кормленщик Андрей Петрович мог бы жить в Белёве – имел полное право. Горенский, став управителем ратных дел, обустроился в бывшем трапезном покое, а казённые приказы разместил в домах бывших послужильцев. Бобриков же сохранил за собой всю жилую часть терема и даже людскую пристройку. Однако, из слуг при нём остались только Филин и Захар Лукич, а вся белёвская челядь перешла в холопы государя. Поддерживать порядок в огромных хоромах оказалось некому, и очень быстро жить в пустых холодных комнатах стало невозможно. А в детинце на князя, что так и не стал здесь настоящим господином, и даже волостелил вполовину, все смотрели либо с неприязнью, либо открыто насмехаясь. Так что, как бы ни хотел Андрей Петрович остаться, а в первые дни ноября ему пришлось вернуться в Бобрик, который три месяца назад он покидал навсегда.
У развилки, где от большой дороги к слободе отходила стёжка к Ленивому броду, князь придержал коня и долго стоял у невидимой границы двух таких разных миров. В одном он был богатым и важным, так что временами даже сам себе казался всемогущ. В другом – обитал в бедном захолустье на рубеже Дикого поля и считал каждый медный грош. Позже, уже в тереме, где пахло мышами и сыростью, первым делом Андрей Петрович распорядился налить ему пива и весь вечер провел с кружкой в руках, слёзно рассуждая вслух о неправдах жизни и безжалостной судьбе. И весь следующий день князь прогонял любого, кто приходил к нему поговорить о деле, и впустил в покои только Филина, который принес новый кувшин хмельного зелья.
Из терема князь не выходил, ибо на Бобрик смотреть не мог: на тесный криво застроенный пятачок детинца; на скособоченную церковь с худым просевшим куполом из чёрной от времени дранки; на убогий грязный городишко, что вместе с посадом и слободой был вдвое меньше белёвского завырья. Прежде, с малых лет до отрочества, он просто не любил Бобрик, но вернувшись в него, возненавидел всей душой. И с каждым глотком вина, пива или браги ненависть в юной душе становилась только сильнее.
Жизнь Бобрика, меж тем, шла своим чередом. Скромное хозяйство вполне обходилось без вмешательства князя, хватало усилий Захара Лукича. Так что Андрей Петрович мог спокойно заливать несчастье вином и упиваться жалостью к себе. Он равнодушно встретил даже новость о том, что в окрестностях заметили крымские разъезды. В середине ноября окрепшие морозы сковали грязь, и степь стала проходимой. То и дело десяток лёгких всадников приближался к Ленивому броду. Не таясь, они проезжали вдоль реки, а иные смельчаки входили в воду до середины русла. Правда, едва заметив караул послужильцев, незваные гости тут же срывались в галоп и уходили в степи.
Сидор Тонкой взял подготовку к обороне в свои руки. Приказал вдвое чаще менять дозоры на колокольной башне, а всем ратным – безотлучно держаться у брода. Кроме того, общим советом решили добавить новых укреплений. На чужом берегу спешно врыли ещё десяток надолбов, на своей стороне поставили четвёртый ряд рогаток, а выход из воды засеяли чесноками[41 - Чеснок – кованый или гнутый четырехконечный шип; рассыпанные по земле чесноки калечили ноги лошадей.].
Однако всё оказалось зря. На исходе первой ноябрьской недели в Бобрик нежданно приехал Козлов – доверенный человек князя Воротынского. Едва узнав о госте, Андрей Петрович тут же воспрял духом. Ведь это значило, что истинный хозяин верхнего Поочья помнил о нём, а может, и нуждался в помощи. Неспроста же Михаил Иванович послал сюда, на край света, за сто с лишним вёрст от Воротынска, ближнего слугу для особо важных поручений. Можно сказать, свою правую руку в тайных делах.
Андрей Петрович поспешил навстречу важному гостю. Козлов ждал его на лобном месте. В долгополой шубе из расшитой парчи с бобровой оторочкой он бесцельно ходил вдоль телеги, накрытой провощённым холстом. Яловые сапоги с голенищем в гармошку под каждый шаг жалобно скрипели проложенной в подошве берестой.
Бобриков быстро сбежал с крыльца и, запнувшись, едва не упал с последней ступеньки.
– Здравствуй, Андрей Петрович. – Козлов встретил его без поклона и прочих почестей, непременных для холопа, который оказался перед князем.
Это не укрылось от Тонкого и караула из трёх бобринцев, которые нахмурились, а Сидор даже недовольно качнул головой. Но всё внимание князя приковало к себе письмо с печатью Воротынского, которое Козлов держал в руках. Схватив протянутый сверток, Бобриков сломал сургучный кругляш, торопливо открыл послание и жадно побежал глазами по тексту. Всего в трёх коротких строчках Михаил Иванович сообщал, что Козлов приехал не просто так, а с важным делом. Каким именно – бумаге не доверишь. Слуга всё передаст на словах, а Бобриков должен верить Козлову, как самому Воротынскому.
– Что за дело? – нетерпеливо спросил Андрей Петрович.
– Это после. – сдержанно ответил Козлов, взглядом давая понять, что вокруг слишком много посторонних. – Пока вот. Прими, Андрей Петрович, ещё подарочек от князя.
Тележный возница откинул край полога. В повозке на промасленной подстилке лежала гако?вница[42 - Гако?вница – крепостное и полевое дульнозарядное ружьё XV—XVI веков с крюком («гаком») под стволом, которым зацеплялись за крепостную стену с целью уменьшения отдачи при выстреле из неё.] длиной в два аршина. Три стальных полукольца крепили к ложу из широкого бруска короткий толстый ствол, слегка расширенный к концу. Рядом с орудием стояло два маленьких бочонка с порохом и дощатый ящик без крышки, доверху наполненный мелкой дробью и пулями размером с крупный грецкий орех.
Андрей Петрович скользнул по гаковнице равнодушным взглядом и, тут же потеряв к ней интерес, скомандовал караульным послужильцам:
– Эй, ты! Скажи, чтоб живо гостю баню готовили. А ты людей возьми на заботу. Пущай накормят, ну и прочее там… И ты не стой столбом. О конях подумай. А ты, Сидор Михалыч, вели стол накрывать. Трапезничать нынче станем.
Отдав распоряжения, Андрей Петрович повернулся к Козлову и посмотрел на него с затаённой надеждой. Слуга Воротынского усмехнулся. Суетливая поспешность юного князя не добавляла ему уважения в глазах холопа, господин которого всегда вёл себя степенно и чинно. Козлов жестом предложил прогуляться и, не дожидаясь ответа, пошёл по лобному месту. Андрей Петрович догнал его через несколько шагов. Оба молчали. Под ногами ломался тонкий лёд грязных лужиц и его тихий хруст отдавался в густом морозном воздухе.
– Что ж. Нынче из Крыма добрые вести пришли. – наконец заговорил Козлов, перед этим дважды оглянувшись по сторонам. – Михаил Иванович, едва про дворян в белёвской земле узнал, сразу же к Давлет-Гирею гонца отправил. Долго, правда, судили-рядили, как да чего, но всё ж договорились. В Бахчисарае тоже понимают, чем для них обернётся, ежели Москва в порубежье нашем укрепится. Не хотят, чтобы Дико поле заселялось. И нам того не надобно. Потому договорились с ханом. Так что скоро великий князь из степи подарочек получит.
– Какой?
– Набег большой в порубежье придёт. Пришлёт хан пару тысяч нукеров. Да к ним всякой шелупони степной добавится. Одним словом, большая сила соберётся. А великому князю не до нас. Ему на Балтике забот не счесть. Литовцы Полоцк отбить норовят. Ляхи, свея. Со всех сторон напирают. Так что на Оке совсем мало сил останется.
Козлов остановился в самом центре лобного места. Андрей Петрович не сводил с него пристального взгляда.
– Так чего ж в таких вестях доброго? – озадаченно спросил Бобриков.
– Михаил Иванович нынче большим воеводой в порубежье будет. На левом берегу полки так встанут, чтобы крымца дальше Жиздры не пустить.
Андрей Петрович задумался.
– Но ведь так выйдет, мы без защиты остаёмся?
– Вот-вот, вовсе без защиты. Бобрик твой и Белёв. Разумеешь?
– Нет покуда.
– Надобно тебе, Андрей Петрович, как степняк придёт, пропустить его без боя. Через Бобрик у него один путь – Ленивый брод. А ежели пройдёт, так до самого Белёва чисто. Грабь, жги. Тебя сыроядцы не тронут, про то разговор с ханом был. И дальше Жиздры, к Перемышлю не пойдут. Туда их Михаил Иванович с государевым полком не пустит. А вот Белёв разорят в пепел. А с ним и дворян всех. Под чистую. А в таком разе и нам Москва неопасной станет. Не то, что нынче.
– А нынче что ж? – Андрей Петрович удивлённо вскинул брови и по выражению его лица Козлов понял, что юный князь и правда озадачен. – Неужто дворяне сии так страшны? Их же всего-то сотня, да и та неполная.
Козлов покачал головой.
– Ну, знаешь, Андрей Петрович. На первой, не полна сотня – это ведь токмо помещики. А уж нынче в Белёв по приказам казённым ещё служилых нагнали. Стрельцы, пушкари да другие всякие. Почитай, ещё боле сотни наберётся. А это две уже. У тебя вот послужильцев сколько? С белёвскими сорок. У иных князей верховских и того не наберётся. По два-три десятка держат, потому как больше – разорительно. Поди, попробуй, прокорми этих рубак, да всё нужное им дай. Коней, доспехи… Да что я тебе, сам, небось, ведаешь, каково это – ратных людей держать.
– Да уж ведаю. – печально признался Бобриков.
– Вот то-то. А коли так выходит, во всём верховском порубежье у царя самый сильный кулак собрался. Две сотни вояк. Да каких. Испытанных. А у князей по горсточке. У тех, кто побогаче, – пять-шесть десятков. А уж боле сотни кто собрать может, таких во! – Козлов поднёс к лицу Бобрикова ладонь и растопырил пальцы. – Одной руки хватит сосчитать. Вот и выходит, что нынче самый сильный средь верховских вотчинников – великий князь Московский. А не годится этак. Нет, не годится. Потому Михаил Иванович и выбил тебе Белёв в кормление. Чтобы государевых людей в порубежье не было. Через то и Дико поле царь заселять не стал бы. Не смог попросту. Да вишь, каку хитрость царь выдумал… Всё одно дворян нагнал. Потому и надобно извести нынче их. Инше быть беде в порубежье верховском. Теперь понял?
Бобриков зажмурился и потряс головой.
– Кругом всё плывёт… – признался он. – Вроде понимаю, да поверить не могу, что такое слышу. А главное, что сам к столь большим делам причастен.
Козлов рассмеялся, и Андрей Петрович обиженно насупился.
– Ништо, Андрей Петрович. – холоп начальственно похлопал князя по плечу, но Бобриков возмущаться не стал. – Привыкай. Отныне ты среди больших князей. А большим людям – большие дела. Так что привыкай.
– Да уж… – только и нашёлся Бобриков, на что Козлов опять добродушно рассмеялся, но тут же стал серьёзен.
– Ну так Михаил Иванович ответ твой ждёт. Что передать ему? Заодно ли с ним князь Бобриков? Али с Москвой вместе против верховской родни пойдёт?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/petr-viktorovich-dubenko/porubezhniki-daleko-ot-moskvy-70008445/?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Детинец – центральная и наиболее укреплённая часть города, внутренняя цитадель; поса?д – часть города за пределами детинца, с крепостной стеной или без неё; слобода – отдельное поселение около города, население которого временно освобождалось от местных повинностей.
2
Огнищный тиун – старший управляющий княжеским хозяйством.
3
Волконея – (стар. от искаженного иностранного «фальконет») мелкокалиберная, короткая пищаль.
4
Гридница – большое помещение для рядовых дружинников (гридей) в княжеском дворце
5
Тараса – часть крепостной стены в виде прямоугольного сруба, засыпанная землёй и камнем.
6
Гульбище – терраса или галерея, является характерным элементом русской деревянной архитектуры.
7
Повалу?ша – башня в комплексе жилых хором.
8
Закромщик – амбарный, хлебный смотритель, ключник.
9
Летник – старинная верхняя женская одежда, длинная, сильно расширяющаяся книзу. Застёгивалась до горла.
10
Вырец – некое подобие клумбы.
11
Бабий кут – угол (кут) избы, примыкавший к челу русской печи, где производили женские работы: готовили пищу, пряли, ткали, шили и т. д. Отделялся от горницы занавеской, иногда дощатой загородкой в виде неглубокого шкафа для кухонной посуды.
12
Перекрыша – верхняя стенка печи, где устраивают лежанку
13
Полавочник – полка над лавками, непрерывно огибающая стены в избе.
14
Колотовник – драчун.
15
Рассоха – двузубые вилы из раздвоенной ветки дерева.
16
Правёж – суд, разбирательство.
17
Старорусские меры объема сыпучих тел: полокова ? 419,84 л (7 пудов ржи = 114,66 кг); осьмина ? 104,95 л; гарнец ? 3,276 л.
18
Заводные – запасные лошади, предназначенные для замены усталых и больных, для немедленного пополнения убыли и для припряжки в труднопроходимых местах.
19
Со?гра – угнетенный лес на заболоченной кочковатой местности в поймах рек или на плоских водоразделах.
20
Заповедные дела – контрабанда.
21
Зернь – азартная игра
22
Полушка – мелкая медная монета в четверть копейки, самая мелкая неделимая денежная единица в Древней Руси
23
Деньги в рост – кредит, лихва – проценты.
24
Буслай – бешенный, яростный человек.
25
Большой государев наряд – особый артиллерийский полк, который состоял из крупнокалиберных пушек и полевых орудий, и содержался за счёт государственной казны.
26
Леваши – постное русское лакомство: толчёные ягоды, высушенные в натопленной печи в виде лепешек.
27
Клуня – хозяйственная постройка для молотьбы и хранения хлеба.
28
Куль – старорусская мера объёма сыпучих тел. 1 куль: ржи – 9 пудов + 10 фунтов ? 151,52 кг; овса – 6 пудов + 5 фунтов ? 100,33 кг.
29
Закуп – человек, попавший в долговую кабалу и обязанный своей работой вернуть полученную «купу».
30
Фибула – металлическая застёжка в виде булавки с «замком», одновременно служила украшением.
31
Волостель – в средневековой Руси должностное лицо, управлявшее определённой территорией от имени царя.
32
Сакма? (вероятно от тюрк. sok ?бить’) – след, оставленный конницей.
33
Тягиляй – защитный доспех конника: длинный кафтан с воротником-козырем, между подкладкой и верхом прокладывали слой пакли с вложенными в него металлическими пластинами. Тегиляи стоили дешевле кольчуг, но не признавались полноценным доспехом, являясь защитным снаряжением второго сорта.
34
Шапка бумажная – защитный головной убор, тип шлема. Это были стёганные шапки на пуху, из сукна, шёлковых или бумажных (хлопок) материй, с толстой хлопчатобумажной или пеньковой подкладкой.
35
Обветшаться – стать ветшанином, то есть уйти в отставку.
36
Чумичка – деревянный или берестяной половник.
37
Забаутник – балагур, рассказчик.
38
Булгачить – скандалить, производить переполох, беспокоить, будоражить
39
Шугай или шуга?ец – старинная русская женская одежда, род короткопо?лой кофты с рукавами.
40
Кара инде – ты смотри.
41
Чеснок – кованый или гнутый четырехконечный шип; рассыпанные по земле чесноки калечили ноги лошадей.
42
Гако?вница – крепостное и полевое дульнозарядное ружьё XV—XVI веков с крюком («гаком») под стволом, которым зацеплялись за крепостную стену с целью уменьшения отдачи при выстреле из неё.
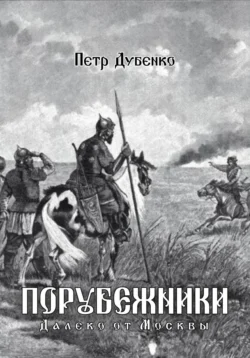
Петр Дубенко
Тип: электронная книга
Жанр: Современная русская литература
Язык: на русском языке
Издательство: Автор
Дата публикации: 11.08.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: 16 век – для Руси тревожное грозное время. На глазах рушатся старые устои и через кровь, мучения, борьбу рождаются новые. А на рубежах молодое государство терзают внешние враги. В этой обстановке далеко от Москвы, в верховьях Оки живут простые люди: любят, растят детей, мечтают. Но совсем скоро перед ними встанет непростой выбор. И сделать его придётся каждому.