Мунфлит
Мунфлит
Джон Мид Фолкнер
Яркие страницы
«Мунфлит» Джона Фолкнера – это лихая повесть о дорсетских контрабандистах восемнадцатого века.
Пятнадцатилетний сирота Джон Тренчард изгнан из дома своей тетей Джейн. Он переезжает жить в местную гостиницу к таинственному Эльзевиру Блоку, чей сын был трагически убит таможенниками. Неофициально усыновленному Блоком Джону предстоит узнать причины ночного переполоха на кладбище, о потерянном сокровище Черной Бороды и разгадать секрет Эльзевира Блока.
Джон Мид Фолкнер
Мунфлит
ВСЕМ МОУНАМ из Флита и Мунфлита – живым или мертвым
Прошедшее от нас ушло,
Казалось, завтра станет тем же, что сегодня,
И юными мы вечно будем.
Уильям Шекспир
© А. Иванов, А. Устинова, перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
* * *
– Сигнальте ожидающим на берег, —
Сказал своей команде капитан. —
Я вижу скалы Дувра, мы у цели,
Таможенники нас не углядели,
Кидайте ж за борт бочки со спиртным, —
Сказал своей команде капитан. —
Кидайте ж за борт бочки со спиртным.
– Сигнал на море синий ужасает, —
главарь контрабандистов говорит. —
Таможня спит, а бочки подплывают.
Хватайте петли – и на сушу их, —
Главарь контрабандистов говорит. —
Хватайте петли – и на сушу их.
Но бдительный таможенник не спал,
Он, зарядив мушкет, отдал приказ:
– С контрабандистами сразиться миг настал!
Сейчас накроем всю их банду враз!
Покорных арестуем, кто ж не сдастся,
Тому от нас грозит удел примерный
Болтаться в петле под луной ущербной, —
Таможенник отряду говорит, —
Болтаться в петле под луной ущербной.
Таможенник отряду говорит, —
Болтаться в петле под луной ущербной.
Глава I
В деревне Мунфлит
Так гордость спит минувших дней.
Томас Мор
Деревня Мунфлит раскинулась в полумиле от моря, на правом, а точнее, западном берегу ручья Флит. Вдоль домов он несет свои воды по руслу столь узкому, что знавал я отменных прыгунов, которые даже без помощи шеста перемахивали на противоположный берег. Ниже деревни, однако, ручей растекался вширь соляным болотом и наконец исчезал, поглощенный соляным озером, привлекательным лишь для морских птиц, цапель да устриц. На островах Вест-Индии подобные заводи называют лагунами. Они отделены от моря полосой суши, сквозь которую им никак к нему не пробиться. У нас роль такой полосы играл галечный пляж, и речь о нем еще много раз зайдет впереди. В ранние годы своего детства я полагал, что названием Мунфлит (Лунная Флотилия) наша деревня обязана необычайной яркости лунного света, щедро льющегося тихими летними и морозными зимними ночами на лагуну, но позже мне объяснили: слово «лунная» образовалось из проглоченной буквы «о» в фамилии Моун. Носила ее семья, владевшая прежде всеми окрестными землями. И флотилия у них была собственная на нашем берегу. Флотилия Моунов.
Меня зовут Джон Тренчард, а история, о которой я хочу здесь рассказать, началась, когда мне было пятнадцать лет. Родители мои к тому времени давно уже умерли, жил я у тети, мисс Арнолд, хоть и любившей меня по-своему, но слишком строгой и педантичной, чтобы и мне удалось когда-либо ее полюбить. Истоком событий, столь для меня знаменательных, послужил вечер на исходе октября 1757 года. Я после чая устроился почитать в маленькой тетиной гостиной. С книгами у мисс Арнолд было негусто. Библиотека ее исчерпывалась Библией, молитвенником и несколькими томами проповедей. Зато у преподобного Гленни, учившего нас, детей из деревни, находилось много чего для меня интересного. Он-то и дал почитать мне арабские сказки из «Тысячи и одной ночи», полные таких захватывающих приключений, что я смог от них оторваться лишь с наступлением сумерек, когда меня вынудили к тому сразу три обстоятельства. Во-первых, я замерз. Тетя до ноября топить запрещала, в дымоходе очага, прикрытого цветным экраном, гулял ветер, а стулья с волосяной набивкой, казалось, собрали в себя всю промозглость холодной осени. Во-вторых, до меня стал доноситься из задней части дома противный запах растопленного сала, которое тетя принялась заливать на кухне в формы с фитилями, готовя запас свечей на зиму. И в-третьих, нервы мои не выдержали напряжения, когда я дошел до сцены, где Аладдин отказывается отдать своему мнимому дяде, а на самом деле алчному колдуну волшебную лампу, пока тот не даст ему выбраться из подземелья. Ответные действия лжедяди вызвали у меня ужас. Низвергнув на выход тяжелый камень, злой колдун заточает юношу внизу. Когда он очутился в кромешной тьме, у меня перехватило дыхание, и я ощутил себя словно в ночном кошмаре, когда на вас наползают стены и без того маленькой комнаты, норовя раздавить. Спасется ли Аладдин? Мне нужно было набраться мужества, прежде чем отважусь узнать, что станет с ним дальше, ибо тревога моя за него была такова, будто таила в себе сопричастность с моей судьбой и предупреждала о чем-то, что мне предстоит пережить самому.
Отложив книгу, я вышел на улицу. Никак по-иному, чем бедной, назвать ее было нельзя, хотя в прошлые времена она выглядела куда более презентабельно. Теперь население Мунфлита составляло менее двухсот душ, однако дома, которые оставались жилыми, уныло растянулись с большими промежутками друг от друга по обе стороны дороги на полмили. В деревне ничего не обновлялось. Если дому необходим был ремонт, его просто сносили и между соседними зданиями образовывалось все больше зияющих пустырей, которые выглядели как дырки во рту на месте удаленных зубов. Сады при снесенных домах зарастали, ограды рушились, а по-прежнему существующие жилища самим своим видом свидетельствовали, что существовать им осталось недолго.
Солнце село, и сумерки сгустились до такой степени, что даже нижнюю, то есть ближайшую к морю, часть улицы разглядеть стало невозможно. Воздух подернул легкий туман или дым, пахло горящей травой и тем первым осенним ощущением морозца, которое наводит на мысли о жарких огнях в каминах и о предстоящих уютах длинных зимних вечеров.
Тишину, окутавшую округу, нарушал только стук молотка вдали. Мне стало любопытно, что там происходит, так как никто в деревне никакими ремеслами, кроме рыболовства, не занимался. Я пошел посмотреть и обнаружил внутри сарая, двери которого выходили прямо на улицу, помощника викария Рэтси, высекающего при помощи деревянной колотушки и резца надпись на надгробной плите. Прежде чем стать рыбаком, он был каменотесом, навыков обращения с инструментами не утратил, и если кому-нибудь приходила нужда установить надгробие на церковном дворе, с просьбой об этом шли к Рэтси, и он ее исполнял. Я, опершись о нижнюю створку голландской двери, принялся наблюдать, как он трудится при свете тускло горящей лампы. Через какое-то время он поднял голову, увидел меня и сказал:
– Эй, Джон, коли тебе делать нечего, зайди внутрь да подержи лампу. Мне работы-то только на полчаса осталось.
Рэтси был всегда добр ко мне и никогда не отказывался одолжить стамеску, без которой не сделаешь хорошую деревянную лодочку. Поэтому я вошел и стал светить ему, глядя, как он высекает кусочки портлендского камня, которые пролетали порой в довольно опасной близости от моих глаз. Надпись уже была целиком готова, и он наносил последние штрихи на крохотный пейзаж над ней с изображением шхуны, берущей на абордаж катер. Тогда мне показалось, будто рисунок исполнен достаточно тонко, но теперь понимаю, что он весьма груб. Впрочем, вы сами можете посмотреть. Надгробие это до сей поры стоит на церковном дворе в Мунфлите. И эпитафия на нем еще вполне различима, хотя лишайник ее сильно выжелтил и она выглядит далеко не так ясно, как в тот вечер, о котором я вам рассказываю.
«Светлой памяти Дэвида Блока, который пятнадцати лет был убит выстрелом со шхуны “Электор”» 21 июня 1757 года.
Жизни лишенный жестокой рукой,
С глиной смешаюсь родного я края,
Бога моля своей юной душой,
Чтоб в Судный день меня спас, уповаю.
Злой мой убийца не будет спасен,
Тщетно он станет взывать о прощении.
Жребий его в Судный день предрешен,
В Господа руки вверяю отмщенье».
Стихи сочинил его преподобие мистер Гленни, и, так как переписал для меня их текст, они быстро запомнились мне наизусть, тем более что деревня гудела историей гибели Дэвида, до сих пор не сходившей с уст местных жителей. Единственный ребенок Элзевира Блока, который держал на краю деревни таверну «Почему бы и нет», юноша этот оказался на борту кеча контрабандистов, когда их июньской ночью настигла в море таможенная шхуна. Ходила молва, что таможенников навел на след судья Мэскью из поместья Мунфлит Мэнор. Так или нет, но на шхуне «Электор» в момент захвата он находился. Суда сблизились. Завязалось что-то вроде борьбы, и, оказавшись почти вплотную к Дэвиду, Мэскью достал пистолет и выстрелил юноше прямо в лицо. Ко второй половине того же дня летнего равноденствия «Электор» привел кеч вместе с контрабандистами в Мунфлит, откуда они, скованные попарно, отправились под конвоем отряда констеблей в Дорчестерскую тюрьму. Арестованные брели по деревне, а люди стояли в дверях домов или шли за ними. Мужчины старались ободрить их добрым словом, а женщины сочувствовали их женам. Они ведь все были знакомы нам, эти ближайшие наши соседи из Рингстейва и Монгбьюри. Ну и конечно, всем было жаль Дэвида, тело которого оставалось на корабле. Дорого же заплатил он за свою ночную вылазку.
– Жестоко, жестоко и подло стрелять в такого молоденького, – произнес Рэтси, отступая на шаг, чтобы проверить, хорошо ли выходит у него флаг, который он выбивал на таможенной шхуне. – И остальным бедолагам тоже, по-видимому, не поздоровится. Адвокат Эмпсон сказал, что троих на первой же выездной сессии суда отправят на виселицу. Помню я, – продолжал он, – как двадцать лет назад после такой же вот легкой стычки «Роял Софи» с «Марнхаллом» четырем контрабандным накинули петли на шею, и старик мой отец простудился до смерти в Дорчестере, пока смотрел, как вешали этих бедняг. Там ведь собралась вся округа, ступить на сухой земле было негде, вот он и простоял всю казнь в реке Фрол по колено в воде. Ну вроде достаточно, – снова внимательно присмотрелся к надгробию он. – В понедельник обведу люки черным, а флаг красным для яркости. Ты славно, сынок, подсобил мне с лампой, а потому пойдем-ка теперь со мной вместе в «Почему бы и нет». Я перекинусь там парой слов с Элзевиром, очень ему сейчас для поддержки потребна добрая беседа с другом, а для тебя найдем стаканчик голландского в целях сугрева после осенней стужи.
Я был всего лишь подростком, и приглашение в «Почему бы и нет» мне показалось немыслимой честью, которая поднимала меня до звания подлинного мужчины. Ах, милые годы отрочества! Сколь же мы жаждем скорее покинуть их и с каким сожалением оглядываемся назад, даже еще не пройдя половины жизненной гонки! Впрочем, к радости, охватившей меня тогда, примешивалась ложка дегтя: во-первых, тревожила только мысль о том, как отреагирует моя тетя, узнав, что я побывал в «Почему бы и нет», а во-вторых, охватывал трепет перед Элзевиром Блоком, который и раньше-то отличался суровым нравом, а после гибели Дэвида стал в тысячу раз суровее и мрачнее обычного.
«Почему бы и нет» было ненастоящим названием таверны. На самом деле она называлась «Герб Моунов». Моуны, как я раньше уже говорил, владели некогда всей деревней, но процветание их ушло в прошлое, а вместе с этим кончилось и процветание Мунфлита. Руины поместного дома серели на склоне холма над деревней, Моуновские богадельни в центральной части улицы стояли опустевшими квадратами. Герб Моунов, подписанный их фамилией, можно было увидеть везде, от церкви до таверны, и на всем, где он был, лежала печать упадка и разрушения. Тем не менее я позволю себе здесь подробно его описать, ибо знак этой семьи для меня очень важен и, как вам впоследствии станет ясно, печать его сопровождала всю мою жизнь, и мне не расстаться уж с ней до самой могилы.
Поле герба было белое или серебряное, а на нем чернел большой игрек, который я и называл игреком, пока не услышал от мистера Гленни, что это совсем не «игрек», а так называемый в геральдике вилообразный крест, хотя выглядело это как толстенный игрек, две расходящиеся линии которого доходили до верхних углов щита, а нижняя упиралась в его основание. Взгляд на нее натыкался в деревне везде, куда ни посмотришь. Герб высечен был на камне особняка, камне церкви и на деревянных предметах в ней, на множестве домов и, конечно же, нарисован на вывеске над входом в таверну. И каждый житель округи знал, что это знак Моунов и что именно бывший землевладелец однажды в шутку назвал таверну «Почему бы и нет», и к ней с той поры это прозвище прочно прилипло.
Зимними вечерами я иногда останавливался подле нее, слушая пение тамошних завсегдатаев. Репертуар у них был излюбленный моряками с запада. Пели «Камень-уточку», или «Сигнальте ожидающим на берег», или прочее в том же роде. Смысл этих песен оставался для непосвященных весьма туманен, потому что пели их в основном не с начала и редко допевали до конца, зато дружно подхватывали следом за запевалой припевы. Сильно в таверне не напивались. Элзевир Блок и сам никогда не перебирал через край, и гостей удерживал от подобного, но в те вечера, когда у него начинали петь, помещение наполнялось столь сильным жаром, что оконные стекла затягивала испарина, и мне снаружи переставало быть что-либо видно. Когда же случались там тихие вечера с малочисленной публикой, я мог следить сквозь щель между красными занавесками, как Элзевир Блок и Рэтси играют возле горящего очага в трик-трак, устроившись за малярным столом. На том же столе Блок позже готовил к погребению тело сына. Несколько человек подобралось тогда под покровом ночи к окну, и им было видно, как он пытался отмыть от запекшейся крови русые волосы юноши, стонал и разговаривал с безжизненным телом, и сын по-прежнему мог его понимать. С тех пор пили в таверне еще меньше, ибо Блок делался все более молчаливым и угрюмым. Он и раньше-то не особо старался обхаживать посетителей, а теперь вовсе кидал на каждого приходящего свирепые взгляды, сильно тем поспособствовав сложившемуся у мужчин суждению, что «Почему бы и нет» нехорошее место и куда предпочтительнее «Три вороны» в Рингстейве.
Сердце мое заколотилось чуть ли не в горле, когда Рэтси, подняв засов, провел меня в гостиную таверны с нависающим низко над головой потолком и полом, покрытым слоем песка. Комната освещалась только огнем очага, где ярко-синим солевым пламенем полыхали водоросли. По краям помещения выстроились вдоль стен столы и стулья из темного дерева. А возле самого дымохода сидел за малярным столом, глядя на огонь и куря длинную трубку, Элзевир Блок. Лет пятидесяти, с заметной проседью в густых волосах, кустистыми бровями и очень красиво очерченным лбом, какого я больше ни у кого никогда не видел. Широкое его лицо вообще отличалось правильными чертами, и при всей застывшей на нем суровости производило приятное впечатление. Он был крепко сбит, по-прежнему невероятно силен; истории о его выносливости и отваге передавались из уст в уста. «Почему бы и нет» принадлежала уже нескольким поколениям Блоков, которые относились к коренным жителям этих мест, хотя мать Элзевира происходила откуда-то из Нидерландов, благодаря чему он получил иностранное имя и мог говорить по-голландски. Подробности его жизни были мало кому известны, и люди часто удивлялись, каким образом ему удается удерживать свое заведение на плаву при столь малом обороте, однако, похоже, он никогда не испытывал недостатка в деньгах, и те же самые люди, которые любили рассказывать о силе Элзевира, говорили еще о вдовах, коим вдруг кто-то помог, больных, получивших подарки невесть от кого, намекая, что часть из них – от Элзевира, пусть он и кажется таким мрачным и молчаливым.
Едва мы вошли, он повернул в нашу сторону голову, поднялся на ноги, лицо его стало мрачнее прежнего, и я со своим вечным перед ним страхом отнес это на счет своего появления.
– Мальчишке-то что здесь понадобилось? – резко осведомился он у Рэтси.
– То же самое, что и мне, а точнее, стакан «Молока Арарата», дабы выгнать благословенным его теплом из наших костей осеннюю стужу, – ответил Рэтси, пододвигая к малярному столу еще один стул.
– Года у него еще детские, и лучше бы пить ему молоко коровы.
С этими словами Элзевир взял с каминной полки два бронзовых подсвечника и, водрузив их на стол, зажег свечи щепкой, выхваченной из очага.
– Он уже не ребенок, – возразил ему Рэтси. – Ему столько же лет, сколько было Дэвиду. И пришли мы сюда после того, как он помог мне делать его надгробие. У меня уже почти все готово. Осталось только раскрасить шхуну. Так что, Бог даст, к вечеру понедельника установим его честь по чести на церковном дворе. Пусть бедняга покоится с миром и знает, что над ним лучшая ручная работа мастера Рэтси и стихи преподобного, из коих каждому станет ясно, сколь прискорбна его кончина.
Мне показалось, что Элзевир несколько помягчал, когда заговорили о его сыне.
– Да, Дэвид будет покоиться с миром, – выслушав Рэтси, произнес он. – А вот тем, кто кончине его поспособствовали, вряд ли мир да покой уготованы, когда настанет их время. А настанет оно гораздо скорей, чем им кажется, – добавил он, обращаясь скорее не к нам, а к самому себе, имея в виду, несомненно, мистера Мэскью, и мне вспомнились разговоры о том, что магистрату лучше бы не попадаться на пути Элзевира, ибо трудно предположить, как поведет себя человек в столь сильном отчаянии. Тем не менее они встретились однажды с тех пор на деревенской дороге, и с Мэскью ничего плохого не произошло. Блок лишь смерил его недобрым взглядом.
– Полно тебе, – сочувственным тоном проговорил помощник викария. – Жутче содеянного судьей не придумаешь, однако нельзя токмо этими мыслями жить или мстительным планам предаваться. Положись на провидение. Именно к этому призывает Господь Наш. «Мне отмщение, и Я воздам». Он в Своей милости не оставит подобное безнаказанным. – И мастер Рэтси, сняв шляпу, повесил ее на гвоздь.
Блок, не ответив, принес на стол три стакана, затем извлек из шкафчика небольшую пузатую бутылку с высоким горлышком, из которой налил по полному стакану для Рэтси и для себя, а третий – только до половины.
– Ну, парень, изволь, если хочешь, – подпихнул он его в мою сторону. – Пользы от этого никакой, но и вреда не будет.
Рэтси схватился за свой стакан, едва только он был наполнен, и, понюхав его содержимое, причмокнул губами.
– Редкостное «Молоко Арарата»! – воскликнул он. – Сладкое, крепкое. Сразу на сердце легко становится! Ну а теперь, Джон, достань-ка нам и разложи на столе доску для трик-трака.
Они тут же погрузились в игру, а я робко отхлебнул из своего стакана. Дыхание у меня, непривычного к выпивке, перехватило. Крепкий напиток ожег мне горло. Играли оба мужчины молча. Тишина нарушалась лишь стуком игральных костей да шорохом фишек во время очередного хода. Время от времени то один, то другой игрок отвлекался, чтобы разжечь погасшую трубку, а в конце каждой партии они записывали на столе мелком результат. Играть в трик-трак я умел, и наблюдать мне за ними было совсем не скучно, тем более что для меня наконец открылась возможность увидеть доску, о которой я был много наслышан.
Этот набор для игры издавна переходил как часть обстановки таверны от поколения к поколению ее владельцев, и, вполне возможно, за ним проводили досуг даже кавалеры гражданских войн. Все было сделано из дуба – черного и полированного. Доска, коробочка для костей, фишки. А по краям доски шла инкрустированная более светлым деревом надпись на латыни. В тот первый вечер я прочитал ее, однако понять не смог, пока позже мистер Гленни ее мне не перевел, и в силу кое-каких обстоятельств текст этот мне помнится до сих пор. Приведу его на латыни для тех, кто знает ее: «Ita in vita ut in lusu alae pessima jactura arte corrigenda est». А мистер Гленни перевел мне слова эти так: «Сноровка способна улучшить даже самую худшую комбинацию как при игре в кости, так и в жизни».
Минуло около часа, когда Элзевир, подняв взгляд от доски, посмотрел на меня и произнес вполне добродушно:
– Время, парень, тебе домой отправляться. Ходит молва, что первыми зимними вечерами Черная Борода бродить здесь начинает, и кое-кому довелось с ним столкнуться нос к носу аккурат между моим домом и твоим.
Поняв, что он хочет спровадить меня, я пожелал обоим мужчинам доброй ночи, не мешкая удалился и весь путь до дома преодолел бегом, однако совсем не из страха перед Черной Бородой, так как Рэтси мне объяснил, что столкнуться с ним можно, лишь если зайдешь ночью на церковный двор.
Черной Бородой называли одного из Моунов, умершего лет сто назад и похороненного, подобно другим почившим представителям своего рода, в фамильном склепе под церковью. Только в отличие от других своих родственников он так и не мог упокоиться. Одни объясняли это снедающей его жаждой найти потерянное сокровище, другие усматривали причину в ужасных злодействах, которые он совершил при жизни, из-за чего другие мертвые Моуны, даже и мертвые, не хотят находиться с ним рядом. Если последнее верно, должно быть, он и на самом деле представлял собой исключительное чудовище, ибо другие Моуны, умершие до или после него, сами были ужасны и следовало весьма преуспеть в злодеяниях, чтобы даже они посчитали его компанию для себя зазорной. По слухам, Черная Борода появлялся ночью на кладбище, где, освещая пространство вокруг себя старинным фонарем, рыл землю в поисках сокровища. Те, кто с ним повстречался, добавляли к этому, что ростом он выше любого из мужчин, борода его крайне черна, широка и длинна, лицо смугло, а любой, на кого он посмотрит, в течение года скончается. Имели эти россказни под собой основание или нет, но в Мунфлите мало кто набирался отваги пройти с наступлением темноты через церковный двор. Большинство предпочитало кружные пути, пусть хоть в десяток миль, только бы не рисковать. И усилились, когда однажды летним утром на траве церковного двора обнаружилось тело несчастного выжившего из ума Крэки Джонса, кончину которого, конечно же, все объяснили встречей с Черной Бородой.
Мистер Гленни был сведущ в подобных вещах куда больше других и рассказал мне, что на самом деле Черная Борода, умерший лет сто назад, – это некий полковник Джон Моун. В кровопролитной войне против Карла Первого он, опозорив семью, пренебрег своим долгом верности королю и переметнулся на сторону восставшего парламента. Его сделали комендантом Карисбрукского замка, то есть главным тюремщиком заточенного там короля, и он пообещал пленнику не заметить побега, если тот отдаст ему огромный бриллиант. Бриллиант этот подарен был его величеству братом – королем Франции, и с тех пор он всегда держал его при себе. Но, получив взятку, подлый Джон Моун вероломно привел в назначенный час побега к окну, через которое король собирался уйти, отряд солдат. Узника перевели в тщательно охраняемое помещение, а мерзкий предатель с гордостью доложил парламенту, что только благодаря его, Моуна, бдительности побег был предотвращен. Но, как совершенно верно сказал мистер Гленни, незавидна участь того, кто, забыв о Боге, пустился по пути зла. Вскорости полковник стал вызывать недоверие у новых соратников, лишился должности и был вынужден возвратиться в Мунфлит, где влачил одинокое существование, презираемый и парламентскими, и сторонниками короля, пока не умер уже в счастливые дни Реставрации, когда страной начал править сын казненного Карла Первого король Карл Второй. Однако Джон Моун не обрел покоя и после смерти. По слухам, сокровище, полученное от короля в обмен на свободу, было где-то им спрятано, извлечь его из тайника он при жизни остерегался и, унеся тайну с собой в могилу, выходил из нее ночами, пытаясь найти бриллиант.
Верил ли этому сам мистер Гленни, не знаю. Мне он только сказал, что, хотя Священное Писание и содержит истории, где как добрые, так и злые духи появляются среди живых, ему все же сомнительно, что местом поиска полковник Моун мог избрать церковный двор, ибо спрячь он свое сокровище там, спокойно отрыл бы его еще при жизни. Довод мне показался вполне убедительным, и днем я с поистине львиной отвагой часто прохаживался по двору церкви, с которого открывался самый лучший вид на море, однако ни за какие награды у меня не хватило бы смелости ступить туда ночью. Особенно после случая, когда я и сам мог почти засвидетельствовать, что опасаются люди не зря. Тетя моя как-то под вечер сломала ногу. Мне пришлось ночью бежать в Рингстейв за доктором Хокинсом. Не по церковному двору, а по дороге, которая шла милей выше него по склону. Оттуда-то мне и стал ясно виден свет внизу, и двигался он вокруг церкви, где вряд ли мог находиться в два часа ночи хоть один праведный житель деревни.
Глава II
Наводнение
Вода, стремясь на берега, их в клочья разрушала
И, пенясь, рухнувшую твердь крушила и вздымала.
Под штормом натиска земля повсюду исчезала,
Пока не стал весь морем мир.
Джин Ингелоу
Третьего ноября, через несколько дней после первого моего посещения «Почему бы и нет», задул юго-западный ветер. Грачи все то утро, предвещая ненастье, так торопились скорее попасть на землю, что словно падали. К четырем пополудни ветер усилился до внезапных резких порывов, когда же окончились наши занятия, которые мистер Гленни проводил в холле одной из бывших моуновских богаделен, и мы вышли на улицу, над нашими головами уже носились пучки соломы и даже куски черепицы, взвихренные с крыш, а дети распевали:
Дуй, ветер, бурю подгоняй, вздымай волну!
И выброси на берег нам корабль к утру!
Жестокая эта песенка дошла до нас из прошлых и куда худших, чем наши, времен, хотя, должен признаться, и в наше время кораблекрушения на побережье Мунфлита воспринимались порой чуть ли не как дары свыше. Тем не менее все же, надеюсь, никто из нас не был настолько лишен доброты, чтобы действительно пожелать гибель кораблю, пусть она и сулила дележку добычи. Больше того, я знал в Мунфлите людей, которые с риском для собственных жизней бросались спасать моряков, потерпевших крушение, и самоотверженность их не знала границ, когда судно «Дариус» из Ост-Индии разбилось о прибрежные камни. Даже тела безымянных бедняг, которые выносило к нам, могли быть уверены, что их похоронят здесь по-христиански. Некоторым даже доставался надгробный камень, заботливо сделанный мастером Рэтси с обозначением пола погибшего и даты, когда прибило его к нашему берегу. Многие из таких памятников до сих пор можно увидеть на церковном кладбище.
Деревня наша располагалась примерно посередине побережья залива Мунфлит. Берега его слева и справа от нас отстояли один от другого на двадцать миль, и этот весьма солидных размеров водный бассейн мог стать при юго-западном штормовом ветре смертельной ловушкой для корабля, если он на беду свою в такое время шел по проливу и не успевал обогнуть мыс Снаут, его затягивало в залив, день по нему мотало, но к вечеру неизбежно выкидывало на берег. Множеству славных кораблей не удавалось обойти коварное место, и участь была уготована им ужасная. Галечный берег обрывался прямо на глубину. Чудовищной силы волны били корабль о него, накрывали сверху. Даже самое прочное дерево не могло выдержать их сокрушающей мощи. Люди, прыгавшие за борт, тоже тщетно ждали от моря пощады. Оно их захлестывало, сбивало с ног, накрывало ревущими пенистыми стенами воды, и очередной смертоносный вал утягивал несчастных одного за другим в пучину вместе с галькой, оглушительный рокот которой разносился в вечерней тьме даже после того, как ветер, поднявший всю эту бучу, стихал до самого Дорчестера, где люди, ворочаясь в теплых постелях, благодарили Бога за то, что он их упас от сражения с бурей на побережье Мунфлит.
Буря третьего ноября к кораблекрушению не привела, но ветер поднялся, какого я никогда до того не знавал, да и после всего лишь раз столкнулся с подобным. Буря бушевала всю ночь напролет, и ярость ее час от часу росла. Думаю, что в Мунфлите никто тогда не ложился спать, ибо оконные стекла и черепица разметались на куски, двери хлопали, ставни, мотаясь под натиском вихря, стучали, попробуй засни. К тому же, казалось, печные трубы тоже вот-вот обвалятся и раздавят нас. К пяти утра буря разошлась пуще прежнего. А затем кто-то пронесся по улице, криками возвещая о новой опасности. Море затапливает уже берег и, похоже, затопит все вокруг.
Некоторые из женщин призывали бежать прочь от берега и вскарабкаться на Ридждаун, но мастер Рэтси, который вместе с несколькими другими мужчинами ходил по домам и успокаивал их обитателей, прибег к урезонивающему доводу, что верхняя часть деревни намного выше уровня моря и, если, не ровен час, затопит ее, скорее всего, Ридждаун тоже окажется под водой.
А море уже целиком покрыло весь галечный пляж, и в лагуне скопилось столько воды, что она, нарушив пределы, за которые не заходила даже при половодье, затопила впервые за последние пятьдесят лет все прибрежные луга и даже нижнюю часть улицы. Церковный двор, хоть и был на некоторой возвышенности, тоже к рассвету оказался затоплен, и церковь выглядывала из воды, словно небольшой остров с крутыми склонами. В таверне «Почему бы и нет» вода перехлестывала через порог, но Элзевир покидать ее не желал, говоря, что ему безразлично, пусть хоть море его и смоет. А в девять утра пришло чудо. Ветер внезапно унялся. Вода начала отступать. Показалось яркое солнце. И еще до полудня люди стали выходить из домов, чтобы посмотреть на потоп и обсудить шторм. Многие раньше не представляли себе, что напор ветра может быть таким яростным, но самым старым из наших жителей помнилось, как на второй год правления королевы Анны здесь бушевало, может, еще и похлеще. Как бы то ни было, этот пятничный шторм стал весьма много для меня значить, и в дальнейшем вы убедитесь, насколько вскорости после того, как пронесся он по деревне, изменилась моя жизнь.
Воды, как я уже говорил, поднялись до того высоко, что церковь стала похожа на остров, но и ушли они быстро, поэтому мистеру Гленни не пришлось отменять воскресную службу. В церковь людей у нас обычно-то приходило не слишком много, но тем утром явилось их даже меньше привычного, так как луга между деревней и церковным двором превратились после прошедшего наводнения в почти непроходимую топь. Водоросли обвились гирляндами вокруг надгробий на кладбище, а с внешней стороны каменной ограды церковного двора образовался из них целый склон, источающий резкий солено-йодистый запах, словно от яиц кайры, который всегда стоял в воздухе, если юго-западный вихрь устилал наш берег ковром из морского сена.
Церковь наша была размера примерно такого же, как остальные, которые я видел. Внутри ее разделяла посередине перегородка. Возможно, в Мунфлите когда-то действительно жило достаточно много людей, и церковь тогда заполнялась, однако с тех пор, как я ее помню, ни разу не видел, чтобы кто-нибудь молился в той части, которая называется нефом. Он всегда пустовал. Лишь несколько старых гробниц да герб королевы Анны. От плит пола тянуло там сыростью, он порос мхом, а белые стены в местах, где на них в непогоду просачивались сквозь крышу капли дождя, покрыли зеленые пятна плесени. Нужно ли удивляться, что горстка людей, посещавших церковь, предпочитала собраться по другую сторону перегородки у алтаря. Там хоть пол под скамьями был устлан досками, а панели из дуба на стенах не давали гулять сквознякам.
В то воскресное утро там собралось, кроме мистера Гленни, Рэтси и полдюжины нас, мальчишек, решившихся пересечь заболоченные луга, устланные телами кротов и мышей, еще человека четыре. Даже набожной моей тете прийти помешала мигрень. Тех же, кто все-таки явился, ожидал сюрприз в качестве одиноко сидящего на одной из скамей Элзевира Блока. Каждый из вновь прибывавших изумленно таращился на него, ибо прежде никто еще в церкви его не видел. Иные по сей причине считали его католиком, другие – язычником. Так или нет, но неожиданное его появление объяснялось, похоже, не жаждой послушать проповедь, а благодарностью мистеру Гленни за стихотворную эпитафию Дэвиду. Элзевир сидел с раскрытым молитвенником в руках, не обращая внимания ни на кого из присутствующих и не обмениваясь приветствиями с входящими, как было заведено у нас в церкви. Слова викария тоже, кажется, мало его занимали, потому что страниц молитвенника он ни разу не перелистнул.
Церковь после наводнения до того просырела, что мистер Гленни разжег в задней части ее жаровню, которая обычно использовалась лишь зимой. Мы, мальчики, спасаясь от пронизывающего холода, тут же сели поближе к огню. Диспозиция эта таила для нас сразу два преимущества. Во-первых, тепло, а во-вторых, оказавшись так далеко от викария, да к тому же надежно укрытыми от его взгляда спинками дубовых скамей, мы могли без опаски, что нас поймают, испечь яблоко или поджарить каштаны. Тем утром, однако, произошло нечто, заставившее нас позабыть о своих намерениях.
Служба едва началась, когда внимание наше привлек странный звук, который раздался под полом церкви. Первый раз мы его услышали, когда мистер Гленни только начал произносить «Возлюбленные мои братья и сестры», а второй раз достиг наших ушей перед Вторым Поучением. Шум был негромкий и походил на стук лодок одна о другую в море, но более глубокий и гулкий. Наша компания озадаченно переглянулась. Каждый из нас ведь знал, что под полом церкви склеп Моунов, и звуки, которые мы услышали, могли раздаваться только оттуда. Никто из живших при нас в Мунфлите туда не спускался, но Рэтси, со слов своего отца, служившего прежде, как и он сам теперь, при церкви, рассказывал, что простирается это захоронение на половину пространства под алтарем и в нем обрело последнее земное пристанище множество Моунов. Склеп не открывали уже около сорока лет, с той самой поры, как у Джералда Моуна, крепко выпившего на скачках в Уэймоте, лопнул сосуд, и это привело его к смерти. Ходила также история, будто множество лет назад из склепа раздался столь кошмарный потусторонний вопль, что священник и прихожане бросились вон из церкви, после чего в ней несколько недель подряд не было служб.
Все это мы тут же вспомнили и в страхе сгрудились поплотнее у очага, размышляя, не стоит ли убежать стремглав вон отсюда. В склепе Моунов точно что-то двигалось, а вход туда был лишь один – сквозь пол алтаря или, точнее, сквозь люк, закрытый каменной плитой с железным кольцом, которую не поднимали уже четыре десятилетия.
Как следует поразмыслив, мы, однако, решили остаться на месте, хотя остальные, пришедшие в церковь, тоже чувствовали себя неуютно, что мне немедленно стало ясно, когда я поднялся на ноги и глянул на них поверх спинок скамей. Некая бабушка Такер, к примеру, при каждом звуке так вздрагивала, что очки у нее падали с носа на колени. А мастер Рэтси, похоже, старался изо всех сил заглушить странные звуки, то принимаясь шаркать ногами, то с громким хлопком опуская молитвенник на спинку скамьи впереди себя. Но сильнее других удивил меня Элзевир Блок, который, как утверждали многие, с совершеннейшим равнодушием относился и к Богу, и к дьяволу, однако сейчас проявлял явные признаки беспокойства, бросая взгляды на Рэтси при каждом новом возникновении стука из подземелья. По мере того как наша компания с интересом поглядывала на остальных, мистер Гленни продолжал читать проповедь. Одно из его рассуждений заинтересовало меня и, несмотря на юный мой возраст, надолго запомнилось. Уподобив жизнь каждого букве «Y», он продолжал: «Наступает момент, когда мы оказываемся на развилке дорог, наподобие линий буквы «игрек». Загляните в свои молитвенники. Буква эта в них не походит на герб Моунов, где расходящиеся вверх линии одинаковой толщины. В книжках ваших левая линия толще и с более сильным наклоном, чем правая. Древние философы толковали ее как символ широкой дороги, идти по которой легко, однако ведет она к краху и разрушению. А вот по узкой дороге, которую обозначает тонкая правая линия, следовать гораздо труднее, зато на этом пути обретаешь истинные ценности жизни».
Мы тут же стали отыскивать заглавные «игреки» в своих молитвенниках. И бабушка Такер, хоть букву «а» от «б» отличить не могла, тоже принялась листать свой, видно, в надежде, что тогда всем покажется, будто она умеет читать. Тут под полом опять и послышалось. Куда громче прежнего, гулко, надсадно, словно стонал, изнывая от боли, старик. И бабушка Такер, взвившись на ноги и уставясь на мистера Гленни, крикнула так, что голос ее разнесся по всей церкви:
– О, преподобный! Ужель вы можете проповедовать, когда Моуны, видать, встают из могил!
Она кинулась вон из церкви. Остальные, и без того уже порядком встревоженные, немедленно впали в панику, побудившую их последовать ее примеру. Миссис Вайнинг на бегу провопила:
– Божечки! Он нас тут всех передушит, как Крэки Джонса!
Минуту спустя в церкви остались лишь мистер Гленни, я, Рэтси и Элзевир Блок. Я удержался от бегства, во-первых, из опасения прослыть трусом в глазах трех мужчин, во-вторых, посчитав, что Черная Борода, даже если появится, нападет скорее всего на взрослых, а не на мальчишку, и, в-третьих, пребывая в уверенности, что, дойди дело до драки, Элзевир Блок достаточно силен и справится хоть с самим Моуном. Гленни, делая вид, будто и страшных звуков не слышал, и бегства собравшихся не заметил, продолжал читать проповедь, пока не дошел до конца. После этого Элзевир сразу же удалился, меня же удерживало любопытство. Не мог я уйти, пока не услышу, что мистер Гленни скажет Рэтси по поводу звуков из склепа. Тот помог преподобному снять облачение, а потом, заметив меня, стоящего рядом, сказал:
– Господь послал нам недобрых ангелов, мистер Гленни. Ужас пробирает, когда слышишь, как мертвецы шевелятся у тебя под ногами.
– Под властью собственных страхов мы сами многое превращаем в ужас, – поцокал языком мистер Гленни. – В панику звуки эти ввергают невежественных. Черная Борода! Нет, я здесь не для того, чтобы люди видели, как усопшие грешники, души которых не обрели покой, бродят вокруг. Звуки эти порождены природой, подобно шумящим и плещущим волнам на берегу. Наводнение наполнило склеп водой, гробы всплыли и, попадая в водовороты, стучат один о другой. А так как тела, что внутри них, давно превратились в скелеты, звуки от столкновения получаются гулкие. Вот и все ваши недобрые ангелы. Да, мертвецы и впрямь двигаются у нас под ногами, однако отнюдь не по собственной воле. Их мотает вода. Уж ты-то, дружище Рэтси, сообразил бы, что не нужно пугать мальчишек глупыми историями о духах. Правда и так ужасна.
Слова викария убедили меня, и так как его суждениям я всегда доверял, то и тайна мне показалась вполне объясненной, хотя само происшествие меня все равно пугало. Стоило только представить себе гробы со скелетами Моунов, дрейфующие во мраке склепа, как я леденел с головы до ног, и разыгравшееся воображение рисовало мне множество поколений стариков и детей, мужчин и женщин, обратившихся в кости. Каждый из них плыл в последнем своем пристанище из гниющего дерева, и средь них, разумеется, Черная Борода, чей гроб намного превосходил размерами остальные и наскакивал на них, словно корабль, когда волнующееся море кидает его на спасательную шлюпку, которая пытается подойти к его борту. Живо себе представлял я также сам склеп. Кромешную темноту его, спертый воздух, черную гнилую воду, поднявшую до самого потолка эти скорбные суда с их давно скончавшимися пассажирами.
Рэтси остался слегка расстроен словами мистера Гленни, однако, стремясь сохранить лицо, ответил:
– Что ж, преподобный. Человек я, конечно, простой, и мне мало чего известно про наводнения, водовороты и тайные силы природы, однако ж, пусть даже и в вашем просвещенном присутствии, не стану пренебрегать теми знаками, которые нам ниспосылаются. Издавна ведь у нас сказывают: «Как Муны задвигаются, так Мунфлит заскорбит». И отец говорил мне, что последний раз они там пришли в шевеление, когда королева Анна правила второй год и шторм страшной силы поднялся. Дома вздымало над головами людей. А мальчишек, говорите, пугаю, так ведь им и следует страх познать, да не соваться куда не надо, чтоб не дошло до беды.
При этих словах помощник викария выразительно кивнул в мою сторону и, раздраженно пыхтя, вышел из церкви к ожидающему его снаружи Элзевиру Блоку. Мне было тогда невдомек, к чему именно относилось предупреждение Рэтси, да я не особо о нем и задумался, а просто пошел проводить мистера Гленни, неся его облачение, до дома, где жил он в деревне.
Мистер Гленни всегда относился ко мне дружелюбно, уделял мне много внимания и беседовал со мной так, будто были мы с ним на равных. Объяснялось это, по-видимому, тем, что, не находя в округе никого себе равного образованностью, он свободнее себя чувствовал в обществе невежественного мальчика, чем с невежественными взрослыми. Выйдя из калитки церковного двора, мы с ним пересекли затопленный луг, и тут я снова начал его донимать вопросами про Черную Бороду и потерянное сокровище.
– Мне известно, сын мой, – ответил мне он, – что полковник Моун с дурацким прозвищем Черная Борода первый в своем роду нанес немыслимым мотовством серьезный ущерб семейному состоянию и даже обрек на разруху и запустение богадельни, выгнав оттуда бедных, которые там находили приют. На его совести бесчисленное количество преступлений, руки его обагрены кровью преданного слуги, и расправился он с ним только из-за того, что несчастному стала известна какая-то скверная тайна. В конце жизни полковника постиг удел многих, кто шел по дороге зла. Его стали мучить раскаяние и угрызения совести, и он, хоть и был протестантом, послал за ректором Киндерли из Дорчестера, чтобы ему исповедаться, а затем, стремясь возместить ущерб, нанесенный богадельням, пожелал оставить бриллиант, который выманил столь подлым образом у короля Карла Первого, для их возрождения и содержания, ибо другие богатства его к тому времени совершенно иссякли. Воля эта была прописана в завещании, и я его видел собственными глазами, однако сокровище называлось там попросту бриллиантом, а где он находится, завещатель не указал. Он явно сам собирался извлечь его из тайника и продать, чтобы вырученные деньги пошли на благое дело. Смерть, однако, распорядилась по-своему и унесла его прежде, чем он осуществил свои планы. Поэтому люди и говорят, что хоть он и успел в конце жизни раскаяться, но не найдет покоя в могиле, покуда не будет найден и не послужит во благо бедным спрятанный бриллиант.
Рассказ мистера Гленни обрек меня на долгие размышления. Часами ломал я голову, пытаясь сообразить, куда Черная Борода спрятал свой драгоценный камень, и надеясь, что, если мне улыбнется судьба, найду его и стану богатым. Происшествие с шумом под церковью все сильнее меня озадачивало, а объяснение мистера Гленни уже не казалось столь убедительным, как сначала. Звук снизу шел объемный и гулкий. Мог ли такой получаться от столкновения гниющих гробов? Я не раз видел, как мастер Рэтси раскапывает старые могилы. Лопата его натыкалась на совершенно истлевшее дерево, хотя даты на некоторых из этих захоронений свидетельствовали, что они не столь уж и давние. Конечно, в сырой земле гробы подвергались распаду гораздо скорее, чем в каменном склепе, но Рэтси однажды, вскрыв верхний слой могилы старика Гая перед захоронением его почившей вдовы, позволил мне заглянуть внутрь. Могила была не земляной, а кирпичной, тем не менее я увидел, что гроб старика иссекли глубокие трещины, он покоробился, и один хороший удар лопаты разнес бы его на куски. Тогда до какого же состояния должны были дойти гробы Моунов, многие из которых попали в склеп множество поколений назад. Они давно превратились в труху. Но что в таком случае порождало барабанно-гулкие звуки, словно сталкивались целехонькие герметично закрытые деревянные ящики? Тем не менее мистер Гленни, вероятно, был прав. Чему там иначе стучать, как не гробам?
В понедельник, то есть на следующий же день после того как из склепа послышались звуки, я, едва завершились занятия в школе, помчался вниз по улице и через луга к церковному двору, чтобы послушать снаружи церкви, шевелятся ли по-прежнему Моуны. Именно снаружи. Попасть внутрь надежды у меня не было. Рэтси не согласился бы дать мне ключи. Он же сказал накануне, что мальчики не должны соваться в дела, которые их не касаются. Впрочем, и окажись у меня ключи, вряд ли я бы решился зайти внутрь один.
Церкви достиг я, даже не запыхавшись, и первым делом прижался ухом к северной ее стене, которая смотрела в сторону деревни, а затем, несмотря на холод и сырость высокой травы, лег на землю в расчете, что так уж наверняка услышу любой звук из склепа, но ничего не услышал. Моуны либо после вчерашнего успокоились, либо гробы с их усопшими милостями отнесло на южную сторону, выходящую к морю, и они налетают теперь друг на друга там. Я с удовольствием вылез из травы и, согревая закоченевшее тело под солнечными лучами, направился к озаренной ими южной стене. Возле нее меня ждала неожиданность. Обогнув каменный выступ на углу, я увидел двоих мужчин. И были они не кем иным, как Рэтси и Элзевиром Блоком, которых мое появление застало врасплох. Мастер Рэтси, точно так же, как только что я, лежал на траве, прижавшись ухом к стене, а Элзевир Блок сидел, прислонившись спиной к опоре стены, курил трубку и смотрел сквозь подзорную трубу на море.
Вообще-то у меня было не меньше права находиться на церковном дворе, чем у Рэтси и Элзевира, однако при встрече с ними я оказался охвачен столь сильным чувством стыда, словно бы занимался чем-то предосудительным. Кровь прилила у меня к лицу, ноги изготовились стремглав нести меня прочь, но, так как оба мужчины уже меня видели, я заставил себя оставаться там, где стоял, и спокойно, насколько мог, произнес:
– Доброе утро.
Мастер Рэтси с ловкостью вспугнутого кота вскочил на ноги. Не будь он мужчиной, мне лицо его показалось бы зардевшимся от смущения. Во всяком случае, покраснел он сильно, хотя, возможно, просто из-за того, что чересчур резко поднялся с земли. Тем не менее я видел: он несколько выбит из колеи, и спокойно-небрежное «Доброе утро, Джон» в ответ на мое приветствие далось ему с явной натугой.
– Доброе утро, Джон, – повторил он уже спокойнее, напустив на себя такой вид, будто для него обычное дело лежать осенним утречком на церковном дворе, прижав ухо к стене. – Что привело тебя на церковный двор в этот ясный солнечный день?
Я честно ответил ему, что пришел проверить, не двигаются ли по-прежнему Моуны.
– От меня ответа не жди, – сказал он. – Недосуг мне транжирить время на ерунду. Я вот проверку замыслил, все ли в порядке со стеной после наводнения и не нуждается ли в укреплении фундамент. А ты, коли время у тебя есть нынче утром болтаться, добеги, будь добр, до моей мастерской и притащи мне оттуда штукатурный молоток. Совсем про него позабыл, выходя. А надобно б им простучать цемент на прочность.
Стена стояла крепко, как скала. Ясно, что Рэтси просто нашел предлог спровадить меня. Сделав, однако, вид, что вполне всерьез воспринял его просьбу, я спешно удалился оттуда, где мне оказались не рады, и вскорости смог получить подтверждение, что не зря заподозрил Рэтси в лукавстве. Они с Элзевиром даже не стали ждать моего возвращения с молотком. Я встретил их на первом же лугу. Мастер Рэтси, конечно, поторопился найти объяснение. Мол, пока я ходил, выяснилось, что молоток не нужен. Требуется всего-навсего подмазать кое-где стену свежим цементом.
– Если у тебя, Джон, и завтра окажется столько свободного времени, – продолжил он, – приходи. Поможешь мне сделать новые банки на лодке «Петрель». Они очень ей требуются.
Пока Рэтси все это мне говорил, я с любопытством поглядывал на Элзевира. Глаза его весело поблескивали под густыми бровями. Похоже, смущение приятеля изрядно его развлекало.
Следующая воскресная служба в церкви прошла совершенно обычно. Элзевир на ней не появился, странных звуков не раздавалось. И я больше никогда не слышал, как двигаются Моуны.
Глава III
Открытие
Иным искателям приключений
Тесно в пределах своих владений.
Дали другие манят их взгляд,
Чтоб уж в пути обернуться назад,
Слушая бури предвестья в ветрах.
Радость для них – испытать шторма страх.
Томас Грей
Дневные часы, если они у меня оставались свободными после школьных занятий, я, как уже было сказано, часто проводил во дворе церкви, с возвышенности которого открывался самый лучший вид на море. При ясной погоде я мог разглядеть оттуда французских корсаров, крадущихся вдоль утесов под мысом Снаут, чтобы, таясь там, застигнуть врасплох выходящее из пролива судно из Индии или какой-то другой торговый корабль. В Мунфлите мальчиков одного со мной возраста было мало, дружбы мне ни с одним из них водить не хотелось, и я привык к одинокому времяпрепровождению, находясь большей частью на улице, так как мальчики, которые носят без дела грязь в дом на своих ботинках, вызывали у моей тети крайнее неодобрение.
Следующие несколько дней после внезапной встречи с Элзевиром и Рэтси я, опасаясь вновь раздосадовать их своим появлением, держался от церкви подальше, однако потом снова начал ходить туда и больше их там не встречал. Любимым местом моим на церковном дворе теперь стала выступающая над землей плоская часть каменного саркофага на юго-восточной стороне церкви, который мистер Гленни однажды при мне назвал алтарем. Захоронение это, увенчанное надгробием с высеченным по кругу орнаментом из цветов и фруктов, когда-то и впрямь, наверное, было очень красиво, однако так пострадало от времени и непогоды, что, сколько я ни пытался, ни разу не смог прочесть надпись на нем и выяснить, кто там похоронен.
Плоский выступ служил мне удобной скамейкой, густая купа тисов надежно защищала от ветра. Полагаю, раньше они опоясывали захоронение плотным кольцом, но потом часть их с южной стороны то ли погибла, то ли ее вырубили, открыв вид на море, в то время как уцелевшие высились по бокам и позади памятника плотным полукольцом, как спинка глубокого кресла наподобие тех, которые часто ставят возле камина. С наступлением осени саркофаг алел от множества падавших на него ярких, будто из воска, ягод. Я множество раз приносил их тете. Она говорила, что они очень вкусны с терновым джином, стаканчиком которого обычно завершался ее воскресный обед. Помимо меня, место это явно нравилось и другим людям, о чем свидетельствовала изрядно утоптанная тропинка, однако сам я, сколько сюда ни наведывался, ни разу никого не втретил.
Сидел я там, глядя на море, и в самом начале февраля 1758 года. День выдался редкостный для разгара зимы. Он походил скорее на майский. В мягком прогретом воздухе стояла такая тишь, что до меня доносился с гребня холма, за полмили от саркофага, стук, поднятый стариком Джонсом, который закидывал в свою телегу турнепс. Погода настала теплая сразу же после наводнения. И так как дожди были очень редки и коротки, а порывистый ветер принимался дуть часто, глинистая земля Мунфлита вскорости сперва впитала в себя всю воду, а затем пересохла до трещин и даже расщелин, что обычно случалось лишь в середине лета. Расщелинами пошла тропа, ведущая от деревни к церкви, ими изборожден стал церковный двор, и одна из них, очень широкая, подобралась к самому саркофагу.
В пятом часу пополудни я наконец собрался домой к тетиному чаю, но в этот момент под каменным моим сиденьем что-то грохнуло и начало осыпаться. Я вскочил на ноги. Расщелина там, где она подходила к захоронению, весьма раздалась, образовав в сухой растрескавшейся земле дыру диаметром футов восемь, а может даже и больше, и дыра эта уходила за каменный бок могилы. Я, опустившись на четвереньки, в нее заглянул, и мне стало видно, что под памятником она еще шире и глубже. Полагаю, на свете мало найдется мальчиков, которые, обнаружив дыру в земле, пещеру в скале или тем более подземный ход, удержатся от исследования загадочного пространства. Жажда проникнуть внутрь охватила меня. Я пригляделся к провалу, который образовала осыпавшаяся вниз земля. Он был достаточно для меня широк. Я сполз по нему ногами вперед и, когда ботинки мои уперлись в кучку сырой глины, обнаружил, что могу встать под саркофагом, даже не пригибаясь.
Впрочем, это как раз было мной ожидаемо. Я ведь предполагал, что под памятником находился склеп и земля провалилась внутрь, потому что его потолок раскололся. Только на самом деле все оказалось совсем не так, в чем я смог убедиться, едва глаза мои чуть попривыкли к сумеркам. Яма, на дно которой я съехал, оказалась началом коридора, который полого спускался по направлению к церкви. Открытие показалось мне столь замечательным, что от волнения и удивления сердце заколотилось. Раз есть подземный ход, значит, в нем может скрываться что-то необычайное. Вплоть до тайника с сокровищем Черной Бороды, продолжавшего волновать меня с той самой поры, как я узнал о нем от мистера Гленни. Мысли о бриллианте и богатстве, которое он мог принести мне, не шли из моей головы. Шириной коридор был в два шага, а высотой – с мужчину большого роста. Прорыли его, не отделав ни кирпичами, ни чем-либо другим, тем более удивительно было мне, что признаки запустения в нем совершенно отсутствовали. Ни плесени, ни паутины – вечных спутников таких мест. По виду им, наоборот, часто пользовались, о чем свидетельствовали отпечатки множества ботинок на мягком глинистом полу, а также длинный широкий след, будто проволокли что-то тяжелое.
Я двинулся по коридору, вытянув перед собой руки, чтобы не наткнуться во тьме на какое-нибудь неожиданное препятствие, и шаркая ногами, чтобы не ухнуть в невидимый глазу провал. Но даже с подобными предосторожностями отваги моей хватило лишь на полдюжины шагов. Далее вынести до предела сгустившейся темноты я не смог, повернул назад и испытал огромное облегчение, снова увидев проблески света, сочившегося сквозь дыру в земле. Ужас перед кромешной тьмой погнал меня вверх по ней, и я, даже не соображая, что делаю, начал протискиваться, извиваясь, сквозь нее, пока не нашел себя вместе со своим телом на освещенной солнечными лучами и согретой мягким теплым воздухом траве церковного двора. Миг спустя я уже несся домой к тете, так как, во-первых, сильно опаздывал к чаю, во-вторых, мне требовалось добыть свечу, без которой подземный ход не исследуешь, и в-третьих, хотелось поскорее вернуться назад, потому что, пускай и сильно напуганный, все же твердо решил пройти через подземелье.
Появление мое дома тете особенного удовольствия не принесло. В кухне возник я с большим опозданием, да к тому же весь взмыленный. Слов моя тетя, когда была мной недовольна, произносила мало, однако молчание ее в таких случаях отличалось такой выразительностью, что я предпочел бы выслушивать от нее продолжительные нотации. На вопросы мои она отвечала лишь «да» или «нет», выдерживая при этом весьма выразительные паузы. Так в почти полном безмолвии и прошел наш чай. Вернее, мой. Со своим тетя уже управилась до моего прихода. Ел я мало, и не только из-за того, что чай почти остыл, а еда оказалась невкусной, но и по той причине, что меня целиком захватывали размышления о странном моем открытии. Тете, как вы понимаете, я про него не сказал ни слова и теперь с нетерпением ожидал момента, когда она уляжется спать, после чего был намерен, вооружившись свечой и огнивом, вернуться на церковный двор.
Солнце уже совсем опустилось, когда тетя Джейн, прочтя благодарственную молитву, повернулась ко мне.
– Джон, – проговорила она сухим и холодным тоном. – Замечаю последнее время, что ты порой пропадаешь по вечерам на улице до половины восьмого, а то и до восьми вечера. Такое для юношей твоего возраста совершенно недопустимо. Ты не должен ходить по улице после наступления темноты. Не желаю, чтобы моего племянника называли праздношатающимся лоботрясом. Яблочко-то от яблони недалеко падает. Папаша твой вот с такого и начинал, а после бедной моей сестре веселую жизнь устраивал, пока провидение не явило милость забрать его в мир иной.
Тетя Джейн часто так отзывалась о покойном моем родителе, которого сам я не помнил, но тем не менее полагал, что при всей его склонности к бродяжничеству и контрабанде человеком он был неплохим и по-своему даже порядочным.
– Отныне ты, – продолжила моя тетя, – ни сегодня вечером, ни всеми другими прочими вечерами с наступлением темноты никуда из дома не выйдешь. Ночью место порядочных юношей в кровати. Но если, по твоему разумению, ложиться еще слишком рано, можешь посидеть со мной часок в гостиной, и я почитаю тебе вслух проповедь ректора Шерлока. Это избавит тебя от праздных суетных мыслей и подготовит к спокойному сну.
Она первой вошла в столовую, там взяла с полки книгу и, положив ее на стол туда, где образовался круг света от горящей свечи, принялась читать. Мне было не впервой испытывать подобные муки. Монотонное тетино чтение плюс нудная проповедь наверняка бы вскоре меня усыпили, как в таких случаях всегда и происходило прежде, несмотря на то, что сидел я на жестком и неудобном стуле, если бы не открытие, которое полностью поглощало меня и не досада из-за задержки. Вот почему, пока тетя читала о разных духовностях и спасительных молитвах, я думал только о бриллианте и всевозможных благах, которые обрету, став богатым, ибо к тому моменту уже практически не сомневался, что обязательно отыщу в конце тайного хода сокровище Черной Бороды.
Дочитав нудную проповедь, тетя закрыла книгу и бросила мне «спокойной ночи». Я собирался ответить ей, как обычно, холодным вежливым поцелуем, но она отвернулась с таким видом, будто не замечает моих намерений. Затем мы поднялись наверх, где ушли каждый в свою комнату, и больше мне никогда уже не пришлось целовать тетю Джейн.
В небе сияла луна, вернее, три четверти ее диска. Подобными ясными вечерами мне полагалось добираться до постели без свечи, да она мне той ночью и не потребовалась. В ожидании, пока тетя заснет, я вообще предпочел остаться одетым, чтобы затем как можно скорее нестись на церковный двор, даже если рискую там встретиться с привидением. Не дожидаться же до утра, когда кто-нибудь может, проходя случайно мимо саркофага, обнаружить провал, заинтересоваться и прежде меня набрести на сокровище.
Так вот я и лежал на кровати, далекий от мыслей о сне и наблюдая за тенью от столбика балдахина на побеленной стене, которая мало-помалу смещалась в сторону, повинуясь свету плывущей по небу луны. Когда тень дошла до картинки с изображением Доброго Пастыря над каминной полкой, из комнаты тети послышался храп. Поняв, что она заснула и путь мне открыт, я все-таки выждал еще несколько минут, пока она как следует погрузится в сон, затем в чулках проскользнул тихой сапой мимо ее двери и начал спускаться вниз по ступеням. Ох, как же громко, оказывается, скрипели они и лестничная площадка в ночи! И как оглушительно стукались мои ноги и тело о предметы, которые я, хоть и вполне отчетливо видел, но от слишком большого стремления не налететь, наоборот, на них налетал. Все, однако, окончилось для меня победой. Сверху по-прежнему слышался мерный храп. Тетю поднятый мною шум не разбудил, а если бы так получилось, что разбудил, жизнь моя потекла бы по совершенно иному руслу.
Итак, я беспрепятственно достиг кухни, где положил в карман одну из самых ярко горящих свечей и огниво, а затем, крадясь вон из нее и из дома, отметил, насколько громко тикают старые часы. Я задрал голову вверх и глянул на их циферблат, освещенный луной. Стрелки показывали половину одиннадцатого.
На улице я старался держаться в тени деревьев, хотя нигде не было ни души и тишина стояла, словно в могиле. При лунном свете вообще особенно тихо. По-моему, это сама природа застывает от изумления собственной красотой. Мунфлит крепко спал, ни в одном окне не увидел я света, пока не достиг таверны «Почему бы и нет», где за красными занавесками первого этажа тускло мерцало. Получалось, что Элзевир еще не ложился. Я счел это очень странным, учитывая, в сколь ранний час последние много дней закрывалось его заведение. Мне захотелось увидеть, что происходит внутри. Я пересек улицу и осторожно приблизился к окнам, но ничего не смог разглядеть, до того они запотели. Еще удивительнее. Ведь они становились такими, только когда в таверне скапливалось много народа. Я прислушался, действительно уловил звук нескольких мужских голосов, и, судя по тихому бубнежу говоривших, люди эти не веселились, а обсуждали что-то серьезное.
Вскорости нетерпение погнало меня дальше. Я кинулся опрометью через луг к церкви, хотя, оставив у себя за спиной последний в деревне дом, начал несколько сожалеть о своей решимости. Возле церковного двора степень мужества моего еще сильнее поубавилась. В голову полезли мысли о Черной Бороде. Что, как не стерпит он человека, который здесь шарит в поисках его сокровища? Проходя через турникет, я с ужасом ожидал появления его долговязой фигуры из тени на северной стороне церкви. Вот он, взлохмаченный и оскаленный, прыгает на меня… Но двор был пуст, и ничто не препятствовало моему пути. Лишь хваченная морозом трава похрустывала у меня под ногами, когда я, переступая через могилы и огибая особенно густые тени, двигался к купе тисов на дальнем краю кладбища.
Оказавшись в подкове тисов, я увидел белевшую на их сумрачном фоне гробницу, провал у изножья которой выглядел до того непроглядно-черным, словно на землю набросили кусок черного бархата. Мне заподозрилась тут же засада, устроенная внизу покойным полковником. Я застыл в нерешительности. Стоит ли продолжать или лучше вернуться? С берега слышался мерный шорох воды о гальку. Именно воды, а не волн. Залив в эту ночь был гладок словно стекло. Уходить ни с чем я все же не захотел, однако мне требовалось время, чтобы набраться мужества. И я заключил сам с собой договор. Как только вода двадцать раз прошуршит о гальку, спускаюсь. Досчитал я, однако, лишь до семи, когда посреди лунной дорожки, протянувшейся по воде, пришвартовалось бортом к берегу судно. От суши оно отстояло примерно на расстоянии полумили, но я вполне ясно видел и черневшие в лунном свете очертания его корпуса, и мачты с опущенными парусами. У меня возник основательный повод для дальнейшей задержки. Хотелось как следует приглядеться к судну, а может, даже и догадаться, зачем оно к нам пожаловало.
Слишком маленькое для приватиров и слишком крупное для рыбаков, оно не могло быть из-за слишком низкой осадки и судном таможенников. Странным казалось и то, что корабль бросил якорь в Мунфлите. Редкостное событие даже для такой тихой лунной ночи. Пока я стоял и гадал, на носу судна полыхнуло синим. Всего на мгновение. Будто кто-то зажег орудийный запал и тут же выбросил его в воду. Похоже, контрабандисты сигналили сообщникам, которые дожидались либо на берегу, либо на море. Я вновь ощутил прилив храбрости. Синий всполох показался мне знаком, что пора действовать. А если Черная Борода и впрямь поджидает меня в подземелье, то от него все равно не спастись, сказал я себе. Он догонит меня и под землей, и наверху, как быстро ни убегай. Уняв этим доводом колотеж в своем сердце, я в последний раз огляделся и точно так же, как днем, ногами вперед, улез в черный сумрак провала.
Так вот Джон Тренчард и обнаружил себя той февральской ночью стоящим на куче рыхлой земли в глубине дыры. Сердце его то распирала отвага, то сжимал страх, однако всего сильнее ощущал он огромную жажду найти бриллиант Черной Бороды.
Я извлек из кармана огниво и свечу, вскорости пламя ее разгорелось достаточно ярко, дав мне возможность увидеть с большим облегчением, что по крайней мере возле меня никто не стоит. Дальше, однако, путь мой лежал в коридор, где могло меня ожидать любое. Тем не менее я без колебаний продолжил свою авантюрную вылазку.
Шел я медленно большей частью из-за того, что боялся куда-нибудь провалиться, и на ходу подстегивал себя мыслями о большом бриллианте, который наверняка ожидает меня в конце коридора. Ох, сколько же я смогу всего сделать с таким богатством! Куплю мистеру Гленни лошадь, Рэтси – новую лодку, а тете Джейн, хоть она и была так сурова со мной, шелковое платье. Я стану самым важным человеком в Мунфлите, даже важнее и богаче, чем мистер Мэскью, построю каменный дом на морских лугах, чтобы из его окон открывался лучший вид на залив, женюсь на Грейс Мэскью, счастливо с ней заживу и буду рыбачить.
Свечу я старался держать как можно дальше перед собой, постоянно что-то насвистывал, таким образом заглушая страх одиночества, и шаг за шагом спускался все ниже по коридору. Ни Черная Борода, ни кто-либо другой пока не пытался препятствовать моему пути. В подземелье, кроме себя, никого я не замечал, однако на земляном полу отчетливо были видны следы от ботинок, а потолок закоптился от дыма факелов. Это меня беспокоило. Что, если те, кто ходил здесь, уже обнаружили бриллиант и присвоили?
Я столь долго описывал вам свой поход, словно он длился милю, да именно таково той ночью и было мое ощущение, и только позже мне стало ясно: длина коридора составляла не более двадцати ярдов, после чего он упирался в каменную стену. Разочарованный, я уже было пустился в обратный путь, когда заметил в стене неровный пролом, а за ним еще какое-то подземелье. Прежде чем двинуться дальше, мне хотелось понять, куда попаду. Нижняя часть пролома образовывала высокий порог. Я с затаенным дыханием встал на него и просунул внутрь руку, в которой держал свечу, но, даже еще не успев как следует разглядеть, что именно выхватило из тьмы ее пламя, уже знал, куда вывел меня коридор. За проломом в стене простирался склеп Моунов.
Представлял он собой весьма просторное помещение, гораздо больше класса, где мы занимались с мистером Гленни, но с потолком куда более низким – от пола всего девять футов. Собственно, пола как такового не было, ноги мои ступали по мягкому влажному песку, и сердце бешено колотилось в моей груди от осознания, где я нахожусь, и воспоминания о таинственном шуме, который поднялся здесь во время достопамятной воскресной службы.
Первым делом я посмотрел на темные углы и, не заметив там вроде бы ничего для себя угрожающего, начал смелее оглядываться по сторонам, внимательно подмечая все, попадавшее в поле моего зрения. Стены и потолок склепа были из камня. В конце склепа находилась вверх лестница, вела она к плоскому каменному люку – тому самому, чью внешнюю сторону с кольцом я видел в церкви. По стенам шли каменные полки, напоминавшие увеличенные книжные стеллажи, только вот вместо книг стояли на них гробы Моунов. А вот центральная часть помещения была занята совершенно другим. Там громоздилось множество бочек и бочонков всевозможных форм и размеров, начиная с огромной бочки, способной вместить в себя до тридцати галлонов, до маленькой, в которой мог поместиться только один. На каждой из них были начертаны белой краской разные цифры и буквы, видимо, обозначавшие, что именно и какого качества там налито. Это было и впрямь открытие. Вот ведь шел по подземному коридору в надежде найти латунный или серебряный сундучок, подняв крышку которого стану обладателем сверкающего бриллианта Черной Бороды, а забрался в склеп Моунов, всего-навсего приспособленный под склад господами контрабандистами. Это мне стало ясно сразу. Потому что никто не додумался бы держать в столь неподобающем месте спиртное, если оно добыто легальным путем и за него честь по чести уплачена пошлина.
Обойдя весьма многочисленное количество бочек, я вдруг налетел ногой на одну из них. Была она, по-видимому, почти пуста и от удара исторгла глухо-гулкий звук, в точности походивший на буханье (только гораздо тише), которое раздавалось под церковью. Я с гордостью убедился, насколько был прав, сомневаясь, что дерево старых гробов могло поднять такой шум. Его источником, разумеется, были бочки.
Наводнение здесь оставило отчетливые следы. О пережитом стихийном бедствии свидетельствовали и грязь на полу, и испарина на позеленевших стенах, доходившая почти до самого потолка, по которой легко было определить, сколь высокого уровня достигала вода. Сюда даже невесть каким образом занесло несколько тонких водорослей и маленького крабика, который, все еще живой, метусился в углу. Гробы, однако, потоп практически не потревожил. Общим количеством двадцать один, они оставались лежать в своих нишах на полках. Большая часть их была сделана из свинца, а значит, даже высокая вода не подняла бы их. Деревянные, да и то не все, потоп слегка подвинул, однако с полок не смыл. Лишь единственный сорвало с места, и теперь, после ухода воды, он лежал вверх дном на полу.
Склад вызвал сперва у меня недоумение. Чей он, каким образом в него могли тайно доставить столько спиртного и как получилось, что, проводя рядом с ним почти каждый день столько времени, я не углядел даже тени присутствия контрабандистов? Ясно мне было только одно: это они превратили во вход сюда тот самый саркофаг, на плоском камне которого я так любил сидеть, разглядывая морские дали. Чуть погодя до меня начало доходить еще кое-что. Вспомнилось, как старательно пугал меня Рэтси историями о Черной Бороде; как Элзевир, никогда не ходивший в церковь, внезапно возник там тем самым воскресным утром, когда раздались тревожные звуки; какой у него, известного своей львиной храбростью, сделался испуганный вид, едва они стали отчетливо слышны, и, наконец, как я застиг его с Рэтси на церковном дворе, когда мастер Рэтси лежал, приложив к стене ухо. Три случая, сопоставив которые, я словно прозрел. Ведь выходило, что Элзевир и Рэтси знают куда больше о тайном хранилище, чем многие остальные, а значит, рассказы их про Черную Бороду, роющего по ночам среди могил, просто выдумка, чтобы люди старались темной порой держаться подальше от церковного двора. И не Черная Борода со старинным своим фонарем, а контрабандисты ходили там с фонарями той ночью, когда я бегал за доктором Хокинсом. По-видимому, они затаскивали в подземелье очередную партию нелегального груза.
Найдя столь важное для себя объяснение, я расхрабрился и снова задумался о сокровище. Где и как мне его найти? Подземелье сильно меня разочаровало. Ни сундуков, ни бриллианта. Одни лишь гробы да бочки с голландским джином. Я, за отсутствием других планов, решил повнимательнее приглядеться к гробам, надеясь найти подсказку в какой-нибудь надписи. Но на свинцовых надписей не было, а на тех деревянных, где еще сохранились таблички, текст почти полностью уничтожила ржавчина.
Удрученный и обескураженный, я уже сожалел, что забрался сюда. Надежда на бриллиант испарилась, а общество стольких покойников, собранных на достаточно узком пространстве, навевало тоску и скорбь. Ком подкатывал к горлу при виде древних щитов, захороненных вместе с их почившими владельцами, обрывками знамен, с которыми они некогда воевали. И засохших венков – последнего знака преданности любящих сердец, проявленной столетия назад. Иные из них под воздействием времени и влаги прилипли к крышкам гробов, иные валялись рядом, втоптанные в песок.
Проведя еще какое-то время в бессмысленных поисках, я вынужденно примирил себя с неудачей и уже собрался идти домой, когда часы на башне пробили полночь. Вот уж поистине никогда еще не встречал я времени призраков в столь призрачном месте. Звон мунфлитских колоколов славился на половину графства, и лучше всего из них звучал тот, который отбивал время. Говорят, в прошлые времена (возможно, тогда звонили чаще, чем сейчас) именно голос этого колокола помогал возвратиться целыми и невредимыми кораблям, которые заблудились в тумане. И вот той ночью я выяснил, что звон его, мягкий, глубокий, способен проникнуть даже в глубину склепа. «Бим-бом! Бим-бом!» Двенадцать тяжелых ударов, сотрясших стены. И каждый из них отзывался столь продолжительным эхом, что слух мой улавливал, как оно тянется вплоть до следующего удара.
Слух мой от взбудораженности необычным часом и местом вообще до того обострился, что колокол не успел еще смолкнуть, когда я сквозь гул его различил в зловещем пространстве склепа еще какие-то звуки. Сперва я не понимал, откуда они раздаются и что собой представляют. То мне казались они очень тихими совсем рядом со мной, то громкими, но идущими издалека. Мало-помалу, однако, они обретали четкость переговаривающихся голосов, хотя слов из-за отдаления мне еще было не разобрать, а потом голоса перестали ко мне приближаться. Люди явно остановились. Не больше чем на минуту. Но какой же эта минута была для меня! Даже сейчас, спустя много лет, не забыть мне своего состояния. Глаза едва не выпрыгивали из орбит. Лицо покрылось холодным потом. Весь подобравшись, я вглядывался и вслушивался в даль подземелья, ожидая неминуемой встречи с теми, чьи голоса до меня доносились из тьмы. Именно так себя, вероятно, чувствует кролик, когда в нору к нему запускают хорька и хищный блеск его глаз в темноте заставляет несчастного выскочить наружу, где его уже караулят охотник с ружьем и собака. Я сознавал, что попался, да к тому же мне было известно: столкнувшись с непрошеным свидетелем, контрабандисты чаще всего предпочитают навечно закрыть ему глаза и запечатать уста. Невольно пришла на память история про бедного Крэки Джонса, нашедшего гибель на церковном дворе. Черную Бороду ли он там повстречал, как утверждали люди?
Все это пронеслось у меня в голове за какую-нибудь секунду. Голоса тем временем приближались. Вдали глухо стукнуло, и я понял, что на церковном дворе кто-то спрыгнул в провал. Я еще раз огляделся вокруг в попытке найти путь к бегству. Увы, эти каменные стены и потолок были способны только меня раздавить, а штабеля бочек стояли столь плотно, что за ними не скрылось бы существо больше крысы. До меня уже доносился голос спрыгнувшего на дно провала. Он вел беседу с оставшимися на церковном дворе. Взгляд мой притянуло, словно магнитом, к огромному деревянному гробу. Он стоял одиноко на самой верхней полке футах в шести от пола. Вот он, мой шанс на спасение. Прикинув, что между стеной и гробом пространства достаточно, чтобы вместить мое далеко не крупное тело, я в мгновение ока задул свечу, полез вверх по полкам, второпях с такой силой врезался головой в потолок, что едва не лишился чувств, и, наконец, почти оглушенный, втиснул себя между стеной и гробом, где замер, лежа на боку. От покойника меня отделяла только тонкая сырая доска, а внизу уже мелькали из коридора красные отблески факелов, за которыми я, тяжело дыша и еще не придя в себя окончательно после того, как ударился головой, следил из своего убежища.
Глава IV
В склепе
Давайте пообщаемся со смертью.
Альфред Лорд Теннисон
С того места, где я лежал, в поле моего зрения оставался лишь потолок, однако, не видя вошедших, я отчетливо слышал их разговор и вскорости понял, что один из голосов принадлежит мастеру Рэтси. Я не особенно удивился этому, скорее испытал изрядное облегчение, ибо теперь мог быть вполне уверен: если даже случится худшее и меня обнаружат, здесь находится друг, который мне не откажет в пощаде.
– Ну земля провалилась словно бы по заказу именно нынче ночью, когда мы с вами сюда припожаловали и проруху сразу же обнаружили, – тем временем говорил помощник викария. – Я ведь днем-то на кладбище приходил. Там все еще было в полном ажуре. А ведь, провались оно днем, скверно бы вышло. Любой мог заметить.
В склепе уже находилось человек пять, и я слышал, как из подземного коридора приближаются еще люди, которые, судя по их тяжелой поступи, несут с собой что-то нелегкое. Вскорости склеп наполнился новыми звуками. Похоже, пришедшие доставили новые бочонки со спиртным. Когда их опускали на пол, до меня доносился плеск. Затем их принялись с шорохом передвигать.
– Так и думал, что там у нас вскоре провалится, – снова заговорил Рэтси. – Земля-то вон до чего пересохла. А мы еще, забрамшись внутрь, каждый раз боковой камень вытаскиваем. Ясно, края и ослабли. Но дело-то плевое. Легко исправить. Предоставьте все мне. Пара надгробных камней, несколько лопат земли, и порядок.
– Только будь осторожен, когда займешься, – предупредил совершенно мне незнакомый голос. – Иначе заметят, как ты там возишься, да после нас выследят.
– Успокойся. Я так часто копаю здесь, что с лопатой навряд ли могу кого-то насторожить.
Разговор их на этом заглох, и потом какое-то время никто вообще почти ничего не произносил, лишь слышалось, как внизу люди ходят с места на место, ворочают бочки и переливают спиртное из более мелких в крупные. Воздух в склепе все сильнее насыщался парами бренди, и они, поднимаясь вверх к тому месту, где я лежал, забивали плесневый запах разлагающегося дерева и позеленевших от сырости стен. И до моей головы, возможно, они добрались. Как бы то ни было, меня перестал душить с прежней степенью страх, и я уже мог гораздо спокойнее прислушиваться к происходящему. Хождение взад-вперед подо мной прекратилось. Кто-то сказал:
– Три дня назад был я в Дорчестере. Люди там говорят, что беднягам, которые прошлым летом схлестнулись с «Электором», достанется по полной. На следующей неделе будут судебные слушания. Приедет судья Бэренстайн. К нему в Лондон уже успел смотаться этот старый лис Мэскью, чтобы наускать его заранее. Меры, мол, против контрабандистов в наших местах недостаточные и надобно их укрепить, вздернув для устрашения несколько человек на виселицах.
– Эти двое – жестокая парочка, – подхватил еще один голос. – Теперь как пить дать жди новых виселиц с огнем в Ридждоуне. Но с Мэскью я все равно сквитаюсь. А тот, другой, может сам после повеситься. Или меня повесить.
– Пусть только его дернет дьявол попасться темной порой у меня на пути, – произнес третий голос. – Увидит он тогда ствол моего пистолета, и рожу ему испорчу я основательно.
– Не вздумай, – одернули его басом, по звуку которого я безошибочно определил, что Элзевир тоже здесь. – Никто не имеет права касаться Мэскью, кроме меня. Придет день и час, и я сам с ним расправлюсь. Хорошенько это запомни, дружок.
В течение нескольких следующих минут я ослабил внимание к их беседе, поглощенный собственными проблемами. Тело мое от столь продолжительного лежания в одной позе стало неметь, голова кружилась до тошноты от едкого дыма факелов, которого уже столько скопилось на потолке, что он оседал на меня, хоть и невидимой в темноте, но явственно ощутимой на руках маслянистой копотью. Изловчившись, я наконец сумел почти бесшумно перевернуться на другой бок. Мне стало гораздо легче. Не успел я, однако, как следует насладиться относительно обретенным удобством, как, неожиданно услыхав свое имя, до того сильно вздрогнул, что гроб исторг громкий скрип.
– Этот мальчишка Джон Тренчер-то, – донесся до меня голос, по которому я опознал жившего на краю деревни Пармитера. – Этот мальчишка Джон Тренчер-то, – повторил он. – Ох, не внушает он мне доверия. Вечно болтается гдей-то на кладбище, и много раз я видал, как сидит он на этой могиле и на море таращится. И нынче ночью та же картина. Встали мы, значит, перед закатом, хлопая парусами, в трех милях от берега. Темноты дожидаемся, чтобы начать разгрузку. Я, пока суд да дело, в трубу подзорную глянул на сушу, все ли спокойно. Ну и конечно, снова узрел на могильной плите мистера Тренчарда. Лица я его разглядеть не смог, но по фигуре это был точно он самый. Ой, неспроста он, боюсь, там сидит. Как пить дать вынюхивает, а после Мэскью доносит.
– Ты прав, – сказал Грининг из Рингстейва, и я понял кто это по его манере растягивать слова. – Много раз, в лесу сидючи и наблюдая, дома ли Мэскью, чтобы нам на него не нарваться, когда получаем груз, видел я этого самого мальчишку. Крутился он с хмурым видом возле усадьбы и на дом так таращился, будто бы у него жизнь от Мэскью зависит.
Слова Грининга соответствовали действительности. Летними вечерами я часто выбирал для прогулок тропинку позади помещичьего дома, идущую вверх по Уэзербич-Хилл. Маршрут был приятен сам по себе, а для меня таил добавочное очарование возможностью увидеть Грейс Мэскью. Тропинка меня выводила к переходу через живую изгородь, по ту сторону которой я усаживался на склоне холма, откуда мне виден был спуск в долину и вид на старый полуразрушенный дом, по террасе которого иногда расхаживала под лучами вечернего солнца Грейс в белом платье. Порой я по пути назад проходил достаточно близко от окна ее комнаты и приветственно махал ей рукой. Когда же ее свалила в постель лихорадка и доктор Хокинс по два раза в день приходил наблюдать за ней, я, совершенно не расположенный к занятиям в школе, оставался с утра и до самого вечера на перелазе, глядя на островерхую крышу дома, под которой лежала больная. И мистер Гленни не стал наказывать меня за прогулы и тете моей ничего не сказал. Видимо, как я догадался чуть позже, понял причину, а может, к тому же хорошо помнил себя в моем возрасте. Детская эта любовь была для меня столь важна и серьезна, что когда Грейс оказалась так близко к смерти, я даже набрался дерзости остановить ехавшего на лошади доктора Хокинса и осведомиться о состоянии больной. Все мои чувства, видимо, были написаны у меня на лице, потому что доктор, тут же склонившись ко мне с седла, с улыбкой проговорил, что подруга моя в безопасности и вскорости мы с ней увидимся.
Словом, да, я действительно наблюдал за домом, только вот ни за кем не шпионил, а даже если бы что-нибудь и узнал о планах контрабандистов, никакая награда меня не заставила бы донести об этом старому Мэскью.
– Ложный след, – встал мне на защиту Рэтси. – Мальчишка нормальный. И за душой плохого не держит. Церковный двор для него притягателен по вполне хорошей причине. Отсюда на море славно смотреть, а он очень любит его. Прошлым месяцем-то, как склеп затопило, что мы в него не могли войти, стали мы с Элзевиром слушать на предмет бочек, не колотятся ли и не спала ль еще вода. Только я ухом к земле прилепился, и кто ж, как вы думаете, припожаловал? Он самый, Джон Тренчард-эсквайр. И не подленькой тихой сапой подкрался, словно Король Агаг. Не вынюхивать да шпионить, а сугубо явился по своим делам и причинам. Потому как, когда на воскресной той службе в церковь снизу звуки пошли, он изрядно был озадачен, а потом отец Гленни, коему бы сперва недурно подумать, возьми да и объясни ему, что это, мол, Моуны там в своих гробах плавают да друг о друга стучатся. Вот он и явился в понедельник поинтересантничать, по-прежнему ль там стучит. Ну и застиг, как я дурак дураком на земле валяюсь. Пришлось, спохватимшись, ему объяснить, что произвожу проверку фундамента на предмет нужды в укреплении. Малый поверил и успокоился. Ребенок еще ведь. А я вдобавок для убедительности попросил его принести мне штукатурный молоток. И еще историй ему интересных наплел про Черную Бороду. И, чай, поостережется теперь так часто сюда ходить. Боязно будет встречи ему с полковником. Клянусь чем хотите, с наступлением темноты за церковную ограду не сунется. И никто другой тоже, хоть тысячу фунтов пообещай.
Я слышал, как он усмехнулся себе под нос. Остальные тоже встретили его рассказ громким смехом, когда он рассказывал, как от меня отделался. «Только ведь громче всех смеется тот, кто смеется последним», – подумал я и тоже бы усмехнулся, если бы не опасение, что гроб от этого заскрипит.
– А парень-то этот храбрый, – вдруг произнес Элзевир. – Не прочь бы иметь его своим сыном. Лет он тех же, что Дэвид. Когда-нибудь из него выйдет славный моряк.
Ох, как же обрадовали и удивили меня эти простые слова! Шли они, без сомнения, от души, а мне он, невзирая на всю суровость его, начал последнее время все больше нравиться, да и горю его о сыне я очень сочувствовал. Хотелось выскочить из своего убежища, радостно объявив: «Да вот же я! Здесь!», – но осторожность в последний момент меня удержала, и я оставался по-прежнему неподвижен и нем.
Бочонки больше не двигали. Похоже, компания теперь то ли сидела на них, то ли стояла, облокотившись о штабели. Судя по запаху табака, который примешивался теперь к по-прежнему изводившему меня чаду факелов, я мог заключить, что они отдыхают и курят.
Певун Грининг было даже затянул:
– Сигнальте ожидающим на берег, —
Сказал своей команде капитан…
Но Рэтси сурово пресек его:
– А ну, прекрати! Не по нутру нам сейчас такие слова. Все равно как священник бы объявил заздравный псалом, а ты бы заупокойный запел.
Намек его был мне понятен. В последнем куплете песни таможенник угрожает контрабандистам виселицей. Гринингу, тем не менее, хотелось продолжить, но тут уже воспротивились все остальные, и, встретив столь дружный протест, он наконец умолк.
– Тем, кто как следует потрудился, не грех вкусить от плодов своих, – сказал мастер Рэтси. – Вот и давайте откупорим этот славный бочоночек с голландским джином, пустим его по кругу и оградим себя согревающей влагой от ночной промозглости.
Любил он угоститься стаканчиком доброго спиртного. И почти всегда объяснял такое свое желание необходимостью защитить себя от промозглости, то, в зависимости от времени года, осенней, то зимней, то весенней, то летней.
Кажется, они откуда-то достали стаканы, хотя мне они нигде в склепе на глаза не попадались, и вскоре Рэтси проговорил:
– Ну, возлюбленные мои братья, раз у всех уже налито, надобен тост. Так выпьем же за папашу Черную Бороду, который присматривает за нашим сокровищем куда лучше, чем присматривал за своим. Потому как, если б не страх перед ним, который отваживает отсюда праздные ноги и любопытные глаза, к нам бы уже давно нагрянули налоговики, и на запасы наши уже два десятка раз покусились бы.
Кажется, остальных его тост порядком перепугал. Словно, упомянув Черную Бороду в таком месте, Рэтси мог разбудить своими насмешками дьявола. Склеп объяла напряженная тишина. Но потом кто-то из них, по-видимому наиболее смелый, решился задорно выкрикнуть:
– Черная Борода!
И все, один за другим, подхватили.
– Черная Борода! Черная Борода! – загудел склеп от их возгласов.
– Тихо! – вклинился в их нестройный хор строгий окрик Элзевира. – С ума посходили? Вы не таможня, чтоб так орать и буянить. И не в открытом море находитесь, где одни только волны и слышат. Да от вашего гомона сейчас весь Мунфлит на кроватях подскочит.
– Пустое, дружище, – ответил ему с ехидным смешком Рэтси. – Подскочить-то, может, они и подскочат, однако сюда не сунутся, а с головой улезут под одеяла, и после пойдет молва, что Черная Борода нынче ночью собрал команду почивших Моунов в целях совместного поиска утерянного сокровища.
Но, кроме Рэтси, никто ничего не сказал, и гомон смолк, из чего было ясно, что заправляет тут всем не кто иной, как Элзевир Блок.
– Правильно Элзевир говорит, – проговорил кто-то очень серьезным тоном. – Давайте-ка завершать. Ночь на исходе. А нам в такое безветрие судно придется на веслах от посторонних глаз убирать.
И они ушли. Отсветы факелов их становились слабее и слабее, затем уже только едва помелькивали красным на потолке склепа, шаги мало-помалу затихали в дали коридора, и, наконец, в склепе остались лишь мертвецы да я вместе с ними.
Потом до меня еще долго, мне показалось, чуть ли не половину ночи, доносились сверху далекие звуки их разговора. Полагаю, там обсуждали заделку провала. Опасался, как бы они не пришли сюда снова, а потому своего насеста не покидал, радуясь хоть возможности сесть и расправить затекшие конечности. Впрочем, как вскоре выяснилось, далекие голоса меня до определенной степени ободряли. Словно благая весть из мира живых, не дающая ощутить себя окончательно наедине с непроглядным мраком этой юдоли смерти. Потому что, стоило голосам окончательно смолкнуть, как тишина склепа придавила меня гнетущим ужасом, оставив из всех моих чувств лишь стремление поскорее вернуться в залитую лунным светом спальню, которую я покинул много часов назад. Это был миг, когда жажда сокровища для меня стала ничем по сравнению с жаждой спасти сокровище собственной жизни.
По-прежнему сидя между стеной и длинным гробом, я зажег свечу и полез через него наружу. Выбраться оказалось куда труднее, чем залезть. Гроб, с виду вроде еще вполне прочный, был насквозь изъеден, трухлявая его оболочка жалобно заскрипела под моими коленями и локтями, готовая проломиться. Все-таки я очень медленно и осторожно перебрался через него на внешний край каменной полки, там кое-как примостился и приготовился прыгнуть вниз, но неожиданно потерял равновесие. Свеча отлетела к стене. Уцепившись одной рукою за гроб, я другой подхватил ее, но тут гроб проломился, рука моя провалилась в него, и я ухнул вниз вместе с облаком пыли, щепками и еще чем-то, крепко зажатым у себя в кулаке, по ощущению показавшимся мне либо водорослями, либо погребальной драпировкой, которая здесь валялась повсюду.
Песок на полу уберег меня. Сверзившись кубарем, я лишь немного ушибся, вскорости совершенно пришел в себя, поджег огнивом лучину и принялся раздувать на ней пламя, чтобы найти опять упавшую у меня при падении свечу. Все это время пальцы мои продолжали удерживать какой-то почти невесомый мусор, который я ухватил случайно в гробу. Когда свеча была найдена и загорелась, я посветил на него и увидел не водоросли и не драпировку, а нечто черное, пружинящее, что именно, мне удалось понять не сразу, а когда удалось, то свеча снова едва не выпала из моих дрожащих пальцев. Меня будто ожгло раскаленным железом, и я, кажется, даже вскрикнул, отбрасывая от себя леденящую кровь добычу, а точнее… бороду.
Я испытал удушающий страх. Он проник в мою душу, словно кто-то вцепился разом во все ее струны. В голову лезли престранные мысли, кровь стучала в висках. Подобное состояние испытал я еще однажды в единоборстве с морем, которое едва не поглотило меня. Схватиться за бороду мертвеца, да еще и зная, на чьем лице она произрастала. А я ведь тут же почувствовал, и отчетливо, даже прежде, чем осознал: это была та самая черная борода, которая дала прозвище полковнику Джону Моуну, и большой гроб, за которым мне пришлось прятаться, тоже его.
Иными словами, я там лежал все время щека к щеке с самим Черной Бородой, и отделяла меня от него лишь тонкая оболочка гнилого дерева. Мало того, я проломил рукой его гроб и украл его бороду. А что, как полковник выйдет сейчас из гроба ответить мне на оскорбление? Меня замутило от ужаса. Будь я девушкой или даже взрослой женщиной, наверняка лишился бы чувств, но, так как мальчики этого не умеют, наилучшим выходом из всех возможных мне показалось скорее уйти насколько возможно дальше от Черной Бороды. Едва, однако, ступив в коридор, я вспомнил, как вечером сыграл уже труса и, подгоняемый страхом, унесся отсюда домой. Мне сделалось стыдно от проявленного малодушия, а вдобавок еще пришло в голову, что, собравшись искать сокровище Черной Бороды, я даже не удосужился выяснить, где именно в склепе находится его гроб, и по-прежнему бы оставался в неведении, не приведи меня случай прямо к нему, а мою руку к его бороде. И все вдруг сложилось одно к одному, словно это не цепь случайностей, а подлинный перст провидения направляет меня к тому, что я страстно жаждал найти. Ко мне мало-помалу начала возвращаться храбрость. Я медленно повернул обратно и шаг за шагом, несколько раз останавливаясь, то почти поддаваясь панике, то преодолевая ее, в итоге смог после пары-другой неудачных попыток вернуться в склеп.
Я пошел между штабелями бочек, ожидая и одновременно страшась того мига, когда пламя моей свечи выхватит из темноты эту бороду. Она лежала на песке. Я поднес к ней свечу и опасливо, словно она могла подскочить и впиться в меня зубами, начал ее разглядывать. Это была большая окладистая борода более фута длиной, черная посередине и с проседью по краям. Распасться ей не давала тонкая полоска кожи, очень похожая на основу накладки, которой в качестве дополнения к собственным волосам пользовалась, надевая воскресный чепчик, моя тетя Джейн. Все это я разглядел, не поднимая лежащую передо мной бороду и не трогая, а лишь освещая ее с разных сторон свечой и размышляя о человеке, часть облика которого она составляла.
Повлекло меня возвратиться в склеп смутное ощущение, что, если открылось мне точное место, где захоронен Черная Борода, следом должен открыться тайник с сокровищем. И только разглядывая уже бороду, я понял: путь у меня к нему один. А именно, нужно обыскать гроб. Чем яснее я это осознавал, тем более сильное отвращение меня охватывало. Мне хотелось по мере возможности оттянуть зловещий момент, и я все смотрел и смотрел на бороду, уговаривал себя, что, прежде чем действовать, следует получше ее изучить. Так я просидел неподвижно еще минут десять, пока не заметил, что свеча моя весьма убыла в размерах и хватит ее от силы на полчаса, а кроме того, сообразил, что, по-видимому, рассвет уже близок. И, кое-как справившись с отвращением, я наконец решился пошарить в гробу.
На верхотуру мне больше забираться не пришлось. В падении я нанес гробу весьма ощутимый урон. Крышка у изголовья проломилась, боковой доски больше практически не существовало, и мне достаточно было встать на нижнюю полку, чтобы не только увидеть скорбное его содержимое, но и легко до него дотянуться. Полагаю, у большинства юношей моих лет, да и у многих взрослых мужчин сама мысль о подобных поисках вызвала бы непреодолимую оторопь. Да и сам в толк не возьму, как на такое отважился. Видно, забравшись в склеп Моунов и фут за футом следуя там по тропе леденящего ужаса, успел натерпеться достаточно страхов, и в преддверии завершающего этого шага душа у меня уже далеко не так уходила в пятки, как накануне днем, когда я впервые спустился в подземелье. Кроме того, мне не раз уже приходилось сталкиваться со смертью, и я не имел склонности от нее отворачиваться. Как-никак довелось мне увидеть выброшенные на берег тела после крушения «Дариуса» и других кораблей, да и Рэтси порой просил моей помощи, когда надо было положить в гроб кого-нибудь из бедняг, почивших в своих постелях.
Гроб, как уже говорилось, был очень длинный, и, когда стенка его развалилась, мне стало целиком видно очертание скелета. Именно очертание, ведь кости его прикрывал погребальный саван. Покойника без преувеличения можно было назвать гигантом. Рост его, по моим прикидкам, равнялся семи с половиной футам. В области живота фланелевый саван просел, образовав впадину, выше под ним весьма явственно выступали края грудной клетки, а ниже – бедра и пальцы ног. Голову обхватывали полоски льняной ткани, некогда белые, но теперь в пятнах тлена и сырости. Предпочту умолчать о тех ощущениях, которые охватили меня. Льняная полоска, подвязывавшая подбородок, видимо, порвалась в тот момент, когда я, падая, схватился за бороду, челюсть упала на грудь покойного, однако других разрушений я его телу не причинил, и полковник Моун оставался лежать в своем последнем земном пристанище точно так же, как его туда положили сто лет назад.
Я поднял то, что еще оставалось от крышки, и вытянул руку в намерении начать поиск с дальней от меня стороны. Пламя свечи наконец достаточно ясно выхватило из мрака внутренность гроба. Рука моя замерла. Страх вытеснило предчувствие близкой победы. То, ради чего я проник сюда, находилось прямо перед моими глазами.
На закутанной в саван груди мертвеца лежал медальон. С двух сторон от него уходила за полосы льняной ткани цепочка. Фланелевый саван в том месте, где его сверху прикрывала борода, остался близок к первоначальному своему цвету, и светлое это пятно повторяло ее очертание. Медальон размером и формой походил на монетку достоинством в одну крону, но раза в три толще. И он, и цепочка были, видимо, сделаны из серебра и окислились до черноты. И конечно, едва увидев его, я решил, что внутри спрятан бриллиант.
Меня пронзила огромная жалость к готовой рассыпаться в прах тени этого человека. Вот ведь, принялся размышлять я, каким высоким, красивым джентльменом был полковник Моун. И, без сомнения, к тому же отличным солдатом. Как ни странно, жалости моей не мешало, что он пустил по ветру родовое поместье и опозорил себя предательством короля Карла Первого. Продал честь за камешек, который, как я надеялся, лежит внутри медальона. И еще я надеялся, что мне драгоценность эта принесет куда больше удачи, чем досталось на долю полковника Моуна, и уж по крайней мере не заставит меня свернуть на столь торные дорожки.
Рассуждая подобным образом, я в то же время не отвлекался от главной цели, весьма скоро нашел замок на цепочке, открыл его, вытащил ее из-под савана и потянул на себя медальон. Мне представлялось, внутри при малейшем движении загремит драгоценный камень, но ни малейших звуков не раздалось. «Наверное, бриллиант прилип к металлу либо обернут чем-нибудь мягким», – предположил я. В крышке имелся выступ для ногтя. Защелка и петельки застыли от грязи и окиси. Дыхание у меня участилось, а руки так затряслись, что я какое-то время не мог попасть ногтем в выемку, когда же попал наконец и крышка с трудом поднялась на тугих своих петельках, мне осталось лишь тяжко вздохнуть.
Бриллианта внутри медальона не было. И никакого другого камня – тоже. В нем лежала сложенная в несколько раз бумажка. Я почувствовал себя игроком, который, уже проиграв все свое состояние, поставил на кон последнюю крону и, хоть и с тяжелым сердцем, но еще надеется вопреки обстоятельствам отыграться. Примерно то же происходило со мной. Ставкой моей был теперь сложенный лист бумаги. Если отыщется в нем подсказка, где спрятана драгоценность, то я выйду из-за игрового стола победителем.
Это была хрупкая надежда, и вскоре она рассыпалась. Расправив бумагу и осторожно разгладив складки под светом свечи, я обнаружил лишь несколько строф из псалмов Давида. Листок сильно пожелтел, на месте сгибов образовалась темная сетка. Но текст, написанный хоть и мелким, но аккуратным и четким почерком, был разборчив, и мне удалось без усилий прочесть короткие строки.
Срок нашей жизни семьдесят лет
Или восемьдесят у самых крепких.
Но сколько нам ни отпущено,
Поглотят их труды и заботы,
Коих полны, подойдем к последнему вздоху.
Псалом 90:21
Что до меня, шагов уж не чую своих,
Земля из-под ног уходит.
Псалом 73:6
Не дай поглотить меня наводнению,
Но избавь от гибели в темной глубине.
Псалом 69:11
И так, идя по долине уныния,
Буду использовать ее как колодец,
Доколе пруды водой не заполнятся.
Псалом 84:14
И когда сотворил Ты север и юг,
Фавр и Ермон возрадовались имени Твоему.
Псалом 89:6
Так вот и был положен конец великим моим надеждам. Мне оставалось покинуть склеп не более обеспеченным, чем я явился туда. Псалмы Давида мне не указывали пути к тайнику. При иных обстоятельствах меня, возможно, посетили бы догадки о тайнописи или шифре, но после рассказа мистера Гленни о том, как после многих лет грешной жизни полковник пытался завершить ее праведно и пожелал исповедоваться священнику, и медальон со старательно написанными благочестивыми словами на шее покойного мне показался еще одним признаком покаяния и, возможно, надеждой уберечь свое тело от злых духов.
Разочарованный и раздосадованный неудачей, я все же перед уходом счел своим долгом поднять с пола бороду. И хотя, стоило мне коснуться ее, по моему телу пробежала дрожь, заставил себя донести ее до покойного, и она вернулась на его грудь. Следом я попытался приставить к гробу отломанные фрагменты, но они тут же снова отваливались, и я оставил свои старания в надежде, что те, кто придет сюда после меня, сочтут разрушения следствием тлена и долгих лет. С медальоном мне расставаться не захотелось. Он был красивый и необычный, и я, застегнув на шее цепочку, заправил его под рубашку, подумав к тому же, что если слова, в нем спрятанные, оберегали Черную Бороду от злых духов, то и меня оберегут от Черной Бороды.
Свеча дотаяла уже до столь маленького огарка, что держать в руке я его не мог и вынужден был прилепить к кусочку дерева, на котором и нес, когда наконец пустился по коридору к выходу. Увы, вскорости меня ожидал неприятный сюрприз. Думая, что покину владения Черной Бороды так же просто, как в них проник, я просчитался. Дыры наружу больше не существовало.
Теперь мне сделалось ясно, почему голоса контрабандистов так долго не утихали в конце подземелья. Рэтси, верный своему обещанию, приступил к заделке провала и справился со своей задачей еще прежде, чем вся компания убралась восвояси. Неожиданное препятствие я воспринял сперва достаточно легкомысленно. Мне показалось, справиться со скороспелой этой заделкой особенного труда не представит. Приглядевшись, однако, внимательнее, я утратил уверенность в своих силах. Они накрыли боковую часть саркофага тяжеленной каменной плитой, сверху насыпали землю, а поверх водрузили еще одну плиту. Плиты были из сланца, и я знал, откуда они взялись. С дюжину их, служивших когда-то кровлей, лежало у северной стены церкви. Ни одну из них иначе как вчетвером не перенести. Все же еще надеясь, что, подкопав землю, сумею подвинуть ту, которой они прикрыли провал сбоку надгробия, я задумался, как лучше к этому приступить, но, пока размышлял, фитиль окончательно догоревшей свечи завалился набок, и меня объяла тьма.
Положение мое стало отчаянным. Лишившись источника света, я лишился возможности и копать. Как это сделаешь, если ни зги не видно? А темнота подземелья куда непрогляднее и гуще, чем на улице даже в безлунные ночи. Там хоть что-нибудь видишь, а здесь – ничего, хоть до боли глаза напрягай. Не падая духом, я устроился поудобнее и стал дожидаться рассвета. Он явно уже приближался, а с ним сквозь щели гробницы должно было проникнуть хоть сколько-то света, который поможет мне справиться со своей задачей. Трудная ситуация даже не вызывала во мне особого страха. После ночи, когда я сперва только чудом не попался контрабандистам, которые могли обвинить меня в шпионаже, и леденящего ужаса перед злыми потусторонними силами, который объял меня, когда я обшаривал гроб Черной Бороды, посидеть часок в темноте мне казалось совершеннейшей ерундой.
На полу коридора, хоть и сыром, но мягком, мне было вполне удобно. Я устал от пережитого, да к тому же не привык проводить ночь без сна, поэтому, едва вытянувшись, моментально заснул. Коротко или долго длился мой сон, определить мне при пробуждении было не по чему. Меня по-прежнему окружала тьма. Я встал, потянулся. Ни отдохнувшим, ни бодрым себя я не чувствовал. Руки и ноги болели, будто их кто-то измолотил кулаками. Немного придя в себя, я заметил, что тьма стала какой-то другой, не столь непроглядной. Я глянул вверх. Оттуда, где надо мной находилась могила, тоненькой полосой пробивался сквозь стык между двумя камнями свет. Солнце, значит, уже взошло. Но камни оказались положены один к другому гораздо плотнее, чем мне было нужно, чтобы их раздвинуть, а разглядеть, каково положение в прочих местах, я по-прежнему не мог и, утомившись стоять, снова улегся на пол. Полоска света оставалась в поле моего зрения, и чем дольше я на нее глядел, тем сильнее меня охватывало замешательство. Свет шел с юго-западной стороны саркофага. Значит, она-то и находилась под солнцем. Это я мог понять по яркости световой полоски, даже не выбираясь наверх. И вывод напрашивался лишь один: солнце уже на закате и скоро зайдет.
Поняв, что проспал весь день и солнце садится в преддверии новой ночи, я почувствовал себя так, будто мне преподнесли еще один неприятный сюрприз. Впрочем, ни день, ни ночь для меня в этом ужасном месте ситуации не меняли. Света не было. И хоть глаза мои попривыкли уже немножечко к окружавшему меня мраку, мне по-прежнему не удавалось разглядеть, в какой части саркофага подкапываться, чтобы вылезти. Я извлек из кармана огниво, чтобы поджечь лучину. Вдруг, пока она не погаснет, удастся хоть на мгновение сориентироваться и, увидев нужное место, затем уж вести работу вслепую. Здесь меня подстерегла новая незадача. Жестяная коробочка с трутом каким-то образом раскрылась, и все ее содержимое высыпалось мне в карман. Я собрал его, но, видимо, от сырого пола трут успел набрать влагу и не воспламенялся, сколько ни выбивал я кресалом из кремня бесполезных искр.
Тут-то я в полной мере и осознал опасность своего положения. Последняя надежда добиться хоть мимолетного света рухнула, да я к тому же изрядно теперь сомневался, смог ли бы даже при свете сдвинуть с места эту огромную плиту. В довершение ко всему я целых двадцать четыре часа ничего не ел, и голод все больше давал мне о себе знать. Хуже того, меня изводила столь сильная жажда, что пересохло в горле, а утолить ее было нечем. И я понимал, что чем больше времени еще здесь проведу, тем меньше у меня шансов остаться живым.
Я принялся шарить по стенам саркофага, нащупал край нижней плиты и начал скрести под ним землю. Накануне она казалась мне рыхлой и легкой, но теперь под моими пальцами была плотна и тверда, и усилия мои проходили почти впустую. За час работы я практически не продвинулся к цели, лишь выбился из сил да обкарябал пальцы.
Дав себе отдых, я уселся на пол и тут увидел, что еще недавно золотившаяся ниточка света потускнела. Подкрадывалась новая ночь, а у меня иссяк запас сил и отваги провести ее так же, как предыдущую. Придавленный жаждой, голодом и усталостью, я лег лицом вниз, чтобы не видеть, как окончательно сгущается тьма, и в приступе малодушия застонал. Так я провалялся достаточно долгое время, после чего, взвившись на ноги, начал изо всех сил вопить, надеясь быть кем-то услышан снаружи и временами моля о спасении персонально Рэтси и Элзевира. Никто на мои призывы о помощи не откликнулся. Лишь эхо моего голоса отвечало мне издали, со стороны склепа Моунов. В полном отчаянии я возвратился к толще земли под плитой и продолжил ее расковыривать до тех пор, пока ногти мои не обломались, из пальцев стала сочиться кровь, а голову, как канатом, сдавило сознание, что усилия мои тщетны и тяжеленную каменную плиту мне не сдвинуть.
Несколько следующих часов своих в подземелье описывать не берусь. В том состоянии безнадежности, которое поглотило меня, я лишь запомнил, что временами на помощь мне приходила спасительная дремота.
Наконец я по снова возникшему проблеску света над головой смог понять, что солнце вновь встало. Жажда уже сводила меня с ума. Я с вожделением вспомнил о штабелях бочек в склепе Моунов. И наплевать мне было, что там спиртное, только бы жидкость. Кажется, я в тот момент и расплавленным бы свинцом соблазнился. Страх перед непроглядной тьмой, Черная Борода, – все отступило под властью неумолимой жажды. Ощупью продвигаясь по коридору, я добрался до склепа с одной только мыслью припасть скорее губами к какой-нибудь влаге. Руки мои заскользили по бочкам. На одной из них, ближе к верху одного штабеля, нашлась затычка. Я стремительно ее выдернул и подставил рот под струю.
Насколько крепкий напиток достался мне, уж не знаю. Могу лишь сказать, что обжег он меня куда меньше, чем пламя в собственном горле. Сделав несколько крупных глотков, я повернулся в сторону коридора, но выход туда перестал нащупываться. Я зашарил по стенам склепа. Меня закружило. В голове помутилось. И я без чувств рухнул на пол.
Глава V
Спасение
Теней усопших слышу голоса,
Звучащие в ночном дыханье вихря.
Лорд Байрон
Очнулся я не в кромешной тьме склепа Моунов и не на его песчаном полу, а на кровати, застланной пахнущим свежестью чистым бельем, в маленькой выкрашенной белилами комнате, сквозь окно которой струился солнечный по-весеннему свет. О, божественное сияние солнца! В тот момент оно мне показалось лучшим из всех Господних даров. Не очень соображая сперва, я счел и постель, и комнату своими собственными, дома у тети, а склеп и контрабандистов видениями ночного кошмара, но при попытке встать меня снова откинуло на подушку от слабости и болезненной вялости во всем теле. Таких пробуждений я прежде ни разу еще не испытывал. Кроме того, валясь на подушки, я ощутил, как что-то проехалось по моей шее, стукнуло по груди, и секунду спустя рука моя нащупала и поднесла к глазам почерневший медальон полковника Моуна. Следовать мог из этого лишь единственный вывод: мои приключения далеко не сон и как минимум часть их случилась со мной в действительности.
Дверь комнаты отворилась. Подхваченный воспаленным сознанием, я будто вновь перенесся в склеп, ибо увидел вошедшего Элзевира Блока.
– О, Элзевир! – Простер я в мольбе к нему руки. – Спасите! Спасите меня! Я пришел не шпионить!
Он ответил мне добрым взглядом и, положив ладони на мои плечи, легонько откинул меня опять на подушку.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69622618) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Джон Мид Фолкнер
Яркие страницы
«Мунфлит» Джона Фолкнера – это лихая повесть о дорсетских контрабандистах восемнадцатого века.
Пятнадцатилетний сирота Джон Тренчард изгнан из дома своей тетей Джейн. Он переезжает жить в местную гостиницу к таинственному Эльзевиру Блоку, чей сын был трагически убит таможенниками. Неофициально усыновленному Блоком Джону предстоит узнать причины ночного переполоха на кладбище, о потерянном сокровище Черной Бороды и разгадать секрет Эльзевира Блока.
Джон Мид Фолкнер
Мунфлит
ВСЕМ МОУНАМ из Флита и Мунфлита – живым или мертвым
Прошедшее от нас ушло,
Казалось, завтра станет тем же, что сегодня,
И юными мы вечно будем.
Уильям Шекспир
© А. Иванов, А. Устинова, перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
* * *
– Сигнальте ожидающим на берег, —
Сказал своей команде капитан. —
Я вижу скалы Дувра, мы у цели,
Таможенники нас не углядели,
Кидайте ж за борт бочки со спиртным, —
Сказал своей команде капитан. —
Кидайте ж за борт бочки со спиртным.
– Сигнал на море синий ужасает, —
главарь контрабандистов говорит. —
Таможня спит, а бочки подплывают.
Хватайте петли – и на сушу их, —
Главарь контрабандистов говорит. —
Хватайте петли – и на сушу их.
Но бдительный таможенник не спал,
Он, зарядив мушкет, отдал приказ:
– С контрабандистами сразиться миг настал!
Сейчас накроем всю их банду враз!
Покорных арестуем, кто ж не сдастся,
Тому от нас грозит удел примерный
Болтаться в петле под луной ущербной, —
Таможенник отряду говорит, —
Болтаться в петле под луной ущербной.
Таможенник отряду говорит, —
Болтаться в петле под луной ущербной.
Глава I
В деревне Мунфлит
Так гордость спит минувших дней.
Томас Мор
Деревня Мунфлит раскинулась в полумиле от моря, на правом, а точнее, западном берегу ручья Флит. Вдоль домов он несет свои воды по руслу столь узкому, что знавал я отменных прыгунов, которые даже без помощи шеста перемахивали на противоположный берег. Ниже деревни, однако, ручей растекался вширь соляным болотом и наконец исчезал, поглощенный соляным озером, привлекательным лишь для морских птиц, цапель да устриц. На островах Вест-Индии подобные заводи называют лагунами. Они отделены от моря полосой суши, сквозь которую им никак к нему не пробиться. У нас роль такой полосы играл галечный пляж, и речь о нем еще много раз зайдет впереди. В ранние годы своего детства я полагал, что названием Мунфлит (Лунная Флотилия) наша деревня обязана необычайной яркости лунного света, щедро льющегося тихими летними и морозными зимними ночами на лагуну, но позже мне объяснили: слово «лунная» образовалось из проглоченной буквы «о» в фамилии Моун. Носила ее семья, владевшая прежде всеми окрестными землями. И флотилия у них была собственная на нашем берегу. Флотилия Моунов.
Меня зовут Джон Тренчард, а история, о которой я хочу здесь рассказать, началась, когда мне было пятнадцать лет. Родители мои к тому времени давно уже умерли, жил я у тети, мисс Арнолд, хоть и любившей меня по-своему, но слишком строгой и педантичной, чтобы и мне удалось когда-либо ее полюбить. Истоком событий, столь для меня знаменательных, послужил вечер на исходе октября 1757 года. Я после чая устроился почитать в маленькой тетиной гостиной. С книгами у мисс Арнолд было негусто. Библиотека ее исчерпывалась Библией, молитвенником и несколькими томами проповедей. Зато у преподобного Гленни, учившего нас, детей из деревни, находилось много чего для меня интересного. Он-то и дал почитать мне арабские сказки из «Тысячи и одной ночи», полные таких захватывающих приключений, что я смог от них оторваться лишь с наступлением сумерек, когда меня вынудили к тому сразу три обстоятельства. Во-первых, я замерз. Тетя до ноября топить запрещала, в дымоходе очага, прикрытого цветным экраном, гулял ветер, а стулья с волосяной набивкой, казалось, собрали в себя всю промозглость холодной осени. Во-вторых, до меня стал доноситься из задней части дома противный запах растопленного сала, которое тетя принялась заливать на кухне в формы с фитилями, готовя запас свечей на зиму. И в-третьих, нервы мои не выдержали напряжения, когда я дошел до сцены, где Аладдин отказывается отдать своему мнимому дяде, а на самом деле алчному колдуну волшебную лампу, пока тот не даст ему выбраться из подземелья. Ответные действия лжедяди вызвали у меня ужас. Низвергнув на выход тяжелый камень, злой колдун заточает юношу внизу. Когда он очутился в кромешной тьме, у меня перехватило дыхание, и я ощутил себя словно в ночном кошмаре, когда на вас наползают стены и без того маленькой комнаты, норовя раздавить. Спасется ли Аладдин? Мне нужно было набраться мужества, прежде чем отважусь узнать, что станет с ним дальше, ибо тревога моя за него была такова, будто таила в себе сопричастность с моей судьбой и предупреждала о чем-то, что мне предстоит пережить самому.
Отложив книгу, я вышел на улицу. Никак по-иному, чем бедной, назвать ее было нельзя, хотя в прошлые времена она выглядела куда более презентабельно. Теперь население Мунфлита составляло менее двухсот душ, однако дома, которые оставались жилыми, уныло растянулись с большими промежутками друг от друга по обе стороны дороги на полмили. В деревне ничего не обновлялось. Если дому необходим был ремонт, его просто сносили и между соседними зданиями образовывалось все больше зияющих пустырей, которые выглядели как дырки во рту на месте удаленных зубов. Сады при снесенных домах зарастали, ограды рушились, а по-прежнему существующие жилища самим своим видом свидетельствовали, что существовать им осталось недолго.
Солнце село, и сумерки сгустились до такой степени, что даже нижнюю, то есть ближайшую к морю, часть улицы разглядеть стало невозможно. Воздух подернул легкий туман или дым, пахло горящей травой и тем первым осенним ощущением морозца, которое наводит на мысли о жарких огнях в каминах и о предстоящих уютах длинных зимних вечеров.
Тишину, окутавшую округу, нарушал только стук молотка вдали. Мне стало любопытно, что там происходит, так как никто в деревне никакими ремеслами, кроме рыболовства, не занимался. Я пошел посмотреть и обнаружил внутри сарая, двери которого выходили прямо на улицу, помощника викария Рэтси, высекающего при помощи деревянной колотушки и резца надпись на надгробной плите. Прежде чем стать рыбаком, он был каменотесом, навыков обращения с инструментами не утратил, и если кому-нибудь приходила нужда установить надгробие на церковном дворе, с просьбой об этом шли к Рэтси, и он ее исполнял. Я, опершись о нижнюю створку голландской двери, принялся наблюдать, как он трудится при свете тускло горящей лампы. Через какое-то время он поднял голову, увидел меня и сказал:
– Эй, Джон, коли тебе делать нечего, зайди внутрь да подержи лампу. Мне работы-то только на полчаса осталось.
Рэтси был всегда добр ко мне и никогда не отказывался одолжить стамеску, без которой не сделаешь хорошую деревянную лодочку. Поэтому я вошел и стал светить ему, глядя, как он высекает кусочки портлендского камня, которые пролетали порой в довольно опасной близости от моих глаз. Надпись уже была целиком готова, и он наносил последние штрихи на крохотный пейзаж над ней с изображением шхуны, берущей на абордаж катер. Тогда мне показалось, будто рисунок исполнен достаточно тонко, но теперь понимаю, что он весьма груб. Впрочем, вы сами можете посмотреть. Надгробие это до сей поры стоит на церковном дворе в Мунфлите. И эпитафия на нем еще вполне различима, хотя лишайник ее сильно выжелтил и она выглядит далеко не так ясно, как в тот вечер, о котором я вам рассказываю.
«Светлой памяти Дэвида Блока, который пятнадцати лет был убит выстрелом со шхуны “Электор”» 21 июня 1757 года.
Жизни лишенный жестокой рукой,
С глиной смешаюсь родного я края,
Бога моля своей юной душой,
Чтоб в Судный день меня спас, уповаю.
Злой мой убийца не будет спасен,
Тщетно он станет взывать о прощении.
Жребий его в Судный день предрешен,
В Господа руки вверяю отмщенье».
Стихи сочинил его преподобие мистер Гленни, и, так как переписал для меня их текст, они быстро запомнились мне наизусть, тем более что деревня гудела историей гибели Дэвида, до сих пор не сходившей с уст местных жителей. Единственный ребенок Элзевира Блока, который держал на краю деревни таверну «Почему бы и нет», юноша этот оказался на борту кеча контрабандистов, когда их июньской ночью настигла в море таможенная шхуна. Ходила молва, что таможенников навел на след судья Мэскью из поместья Мунфлит Мэнор. Так или нет, но на шхуне «Электор» в момент захвата он находился. Суда сблизились. Завязалось что-то вроде борьбы, и, оказавшись почти вплотную к Дэвиду, Мэскью достал пистолет и выстрелил юноше прямо в лицо. Ко второй половине того же дня летнего равноденствия «Электор» привел кеч вместе с контрабандистами в Мунфлит, откуда они, скованные попарно, отправились под конвоем отряда констеблей в Дорчестерскую тюрьму. Арестованные брели по деревне, а люди стояли в дверях домов или шли за ними. Мужчины старались ободрить их добрым словом, а женщины сочувствовали их женам. Они ведь все были знакомы нам, эти ближайшие наши соседи из Рингстейва и Монгбьюри. Ну и конечно, всем было жаль Дэвида, тело которого оставалось на корабле. Дорого же заплатил он за свою ночную вылазку.
– Жестоко, жестоко и подло стрелять в такого молоденького, – произнес Рэтси, отступая на шаг, чтобы проверить, хорошо ли выходит у него флаг, который он выбивал на таможенной шхуне. – И остальным бедолагам тоже, по-видимому, не поздоровится. Адвокат Эмпсон сказал, что троих на первой же выездной сессии суда отправят на виселицу. Помню я, – продолжал он, – как двадцать лет назад после такой же вот легкой стычки «Роял Софи» с «Марнхаллом» четырем контрабандным накинули петли на шею, и старик мой отец простудился до смерти в Дорчестере, пока смотрел, как вешали этих бедняг. Там ведь собралась вся округа, ступить на сухой земле было негде, вот он и простоял всю казнь в реке Фрол по колено в воде. Ну вроде достаточно, – снова внимательно присмотрелся к надгробию он. – В понедельник обведу люки черным, а флаг красным для яркости. Ты славно, сынок, подсобил мне с лампой, а потому пойдем-ка теперь со мной вместе в «Почему бы и нет». Я перекинусь там парой слов с Элзевиром, очень ему сейчас для поддержки потребна добрая беседа с другом, а для тебя найдем стаканчик голландского в целях сугрева после осенней стужи.
Я был всего лишь подростком, и приглашение в «Почему бы и нет» мне показалось немыслимой честью, которая поднимала меня до звания подлинного мужчины. Ах, милые годы отрочества! Сколь же мы жаждем скорее покинуть их и с каким сожалением оглядываемся назад, даже еще не пройдя половины жизненной гонки! Впрочем, к радости, охватившей меня тогда, примешивалась ложка дегтя: во-первых, тревожила только мысль о том, как отреагирует моя тетя, узнав, что я побывал в «Почему бы и нет», а во-вторых, охватывал трепет перед Элзевиром Блоком, который и раньше-то отличался суровым нравом, а после гибели Дэвида стал в тысячу раз суровее и мрачнее обычного.
«Почему бы и нет» было ненастоящим названием таверны. На самом деле она называлась «Герб Моунов». Моуны, как я раньше уже говорил, владели некогда всей деревней, но процветание их ушло в прошлое, а вместе с этим кончилось и процветание Мунфлита. Руины поместного дома серели на склоне холма над деревней, Моуновские богадельни в центральной части улицы стояли опустевшими квадратами. Герб Моунов, подписанный их фамилией, можно было увидеть везде, от церкви до таверны, и на всем, где он был, лежала печать упадка и разрушения. Тем не менее я позволю себе здесь подробно его описать, ибо знак этой семьи для меня очень важен и, как вам впоследствии станет ясно, печать его сопровождала всю мою жизнь, и мне не расстаться уж с ней до самой могилы.
Поле герба было белое или серебряное, а на нем чернел большой игрек, который я и называл игреком, пока не услышал от мистера Гленни, что это совсем не «игрек», а так называемый в геральдике вилообразный крест, хотя выглядело это как толстенный игрек, две расходящиеся линии которого доходили до верхних углов щита, а нижняя упиралась в его основание. Взгляд на нее натыкался в деревне везде, куда ни посмотришь. Герб высечен был на камне особняка, камне церкви и на деревянных предметах в ней, на множестве домов и, конечно же, нарисован на вывеске над входом в таверну. И каждый житель округи знал, что это знак Моунов и что именно бывший землевладелец однажды в шутку назвал таверну «Почему бы и нет», и к ней с той поры это прозвище прочно прилипло.
Зимними вечерами я иногда останавливался подле нее, слушая пение тамошних завсегдатаев. Репертуар у них был излюбленный моряками с запада. Пели «Камень-уточку», или «Сигнальте ожидающим на берег», или прочее в том же роде. Смысл этих песен оставался для непосвященных весьма туманен, потому что пели их в основном не с начала и редко допевали до конца, зато дружно подхватывали следом за запевалой припевы. Сильно в таверне не напивались. Элзевир Блок и сам никогда не перебирал через край, и гостей удерживал от подобного, но в те вечера, когда у него начинали петь, помещение наполнялось столь сильным жаром, что оконные стекла затягивала испарина, и мне снаружи переставало быть что-либо видно. Когда же случались там тихие вечера с малочисленной публикой, я мог следить сквозь щель между красными занавесками, как Элзевир Блок и Рэтси играют возле горящего очага в трик-трак, устроившись за малярным столом. На том же столе Блок позже готовил к погребению тело сына. Несколько человек подобралось тогда под покровом ночи к окну, и им было видно, как он пытался отмыть от запекшейся крови русые волосы юноши, стонал и разговаривал с безжизненным телом, и сын по-прежнему мог его понимать. С тех пор пили в таверне еще меньше, ибо Блок делался все более молчаливым и угрюмым. Он и раньше-то не особо старался обхаживать посетителей, а теперь вовсе кидал на каждого приходящего свирепые взгляды, сильно тем поспособствовав сложившемуся у мужчин суждению, что «Почему бы и нет» нехорошее место и куда предпочтительнее «Три вороны» в Рингстейве.
Сердце мое заколотилось чуть ли не в горле, когда Рэтси, подняв засов, провел меня в гостиную таверны с нависающим низко над головой потолком и полом, покрытым слоем песка. Комната освещалась только огнем очага, где ярко-синим солевым пламенем полыхали водоросли. По краям помещения выстроились вдоль стен столы и стулья из темного дерева. А возле самого дымохода сидел за малярным столом, глядя на огонь и куря длинную трубку, Элзевир Блок. Лет пятидесяти, с заметной проседью в густых волосах, кустистыми бровями и очень красиво очерченным лбом, какого я больше ни у кого никогда не видел. Широкое его лицо вообще отличалось правильными чертами, и при всей застывшей на нем суровости производило приятное впечатление. Он был крепко сбит, по-прежнему невероятно силен; истории о его выносливости и отваге передавались из уст в уста. «Почему бы и нет» принадлежала уже нескольким поколениям Блоков, которые относились к коренным жителям этих мест, хотя мать Элзевира происходила откуда-то из Нидерландов, благодаря чему он получил иностранное имя и мог говорить по-голландски. Подробности его жизни были мало кому известны, и люди часто удивлялись, каким образом ему удается удерживать свое заведение на плаву при столь малом обороте, однако, похоже, он никогда не испытывал недостатка в деньгах, и те же самые люди, которые любили рассказывать о силе Элзевира, говорили еще о вдовах, коим вдруг кто-то помог, больных, получивших подарки невесть от кого, намекая, что часть из них – от Элзевира, пусть он и кажется таким мрачным и молчаливым.
Едва мы вошли, он повернул в нашу сторону голову, поднялся на ноги, лицо его стало мрачнее прежнего, и я со своим вечным перед ним страхом отнес это на счет своего появления.
– Мальчишке-то что здесь понадобилось? – резко осведомился он у Рэтси.
– То же самое, что и мне, а точнее, стакан «Молока Арарата», дабы выгнать благословенным его теплом из наших костей осеннюю стужу, – ответил Рэтси, пододвигая к малярному столу еще один стул.
– Года у него еще детские, и лучше бы пить ему молоко коровы.
С этими словами Элзевир взял с каминной полки два бронзовых подсвечника и, водрузив их на стол, зажег свечи щепкой, выхваченной из очага.
– Он уже не ребенок, – возразил ему Рэтси. – Ему столько же лет, сколько было Дэвиду. И пришли мы сюда после того, как он помог мне делать его надгробие. У меня уже почти все готово. Осталось только раскрасить шхуну. Так что, Бог даст, к вечеру понедельника установим его честь по чести на церковном дворе. Пусть бедняга покоится с миром и знает, что над ним лучшая ручная работа мастера Рэтси и стихи преподобного, из коих каждому станет ясно, сколь прискорбна его кончина.
Мне показалось, что Элзевир несколько помягчал, когда заговорили о его сыне.
– Да, Дэвид будет покоиться с миром, – выслушав Рэтси, произнес он. – А вот тем, кто кончине его поспособствовали, вряд ли мир да покой уготованы, когда настанет их время. А настанет оно гораздо скорей, чем им кажется, – добавил он, обращаясь скорее не к нам, а к самому себе, имея в виду, несомненно, мистера Мэскью, и мне вспомнились разговоры о том, что магистрату лучше бы не попадаться на пути Элзевира, ибо трудно предположить, как поведет себя человек в столь сильном отчаянии. Тем не менее они встретились однажды с тех пор на деревенской дороге, и с Мэскью ничего плохого не произошло. Блок лишь смерил его недобрым взглядом.
– Полно тебе, – сочувственным тоном проговорил помощник викария. – Жутче содеянного судьей не придумаешь, однако нельзя токмо этими мыслями жить или мстительным планам предаваться. Положись на провидение. Именно к этому призывает Господь Наш. «Мне отмщение, и Я воздам». Он в Своей милости не оставит подобное безнаказанным. – И мастер Рэтси, сняв шляпу, повесил ее на гвоздь.
Блок, не ответив, принес на стол три стакана, затем извлек из шкафчика небольшую пузатую бутылку с высоким горлышком, из которой налил по полному стакану для Рэтси и для себя, а третий – только до половины.
– Ну, парень, изволь, если хочешь, – подпихнул он его в мою сторону. – Пользы от этого никакой, но и вреда не будет.
Рэтси схватился за свой стакан, едва только он был наполнен, и, понюхав его содержимое, причмокнул губами.
– Редкостное «Молоко Арарата»! – воскликнул он. – Сладкое, крепкое. Сразу на сердце легко становится! Ну а теперь, Джон, достань-ка нам и разложи на столе доску для трик-трака.
Они тут же погрузились в игру, а я робко отхлебнул из своего стакана. Дыхание у меня, непривычного к выпивке, перехватило. Крепкий напиток ожег мне горло. Играли оба мужчины молча. Тишина нарушалась лишь стуком игральных костей да шорохом фишек во время очередного хода. Время от времени то один, то другой игрок отвлекался, чтобы разжечь погасшую трубку, а в конце каждой партии они записывали на столе мелком результат. Играть в трик-трак я умел, и наблюдать мне за ними было совсем не скучно, тем более что для меня наконец открылась возможность увидеть доску, о которой я был много наслышан.
Этот набор для игры издавна переходил как часть обстановки таверны от поколения к поколению ее владельцев, и, вполне возможно, за ним проводили досуг даже кавалеры гражданских войн. Все было сделано из дуба – черного и полированного. Доска, коробочка для костей, фишки. А по краям доски шла инкрустированная более светлым деревом надпись на латыни. В тот первый вечер я прочитал ее, однако понять не смог, пока позже мистер Гленни ее мне не перевел, и в силу кое-каких обстоятельств текст этот мне помнится до сих пор. Приведу его на латыни для тех, кто знает ее: «Ita in vita ut in lusu alae pessima jactura arte corrigenda est». А мистер Гленни перевел мне слова эти так: «Сноровка способна улучшить даже самую худшую комбинацию как при игре в кости, так и в жизни».
Минуло около часа, когда Элзевир, подняв взгляд от доски, посмотрел на меня и произнес вполне добродушно:
– Время, парень, тебе домой отправляться. Ходит молва, что первыми зимними вечерами Черная Борода бродить здесь начинает, и кое-кому довелось с ним столкнуться нос к носу аккурат между моим домом и твоим.
Поняв, что он хочет спровадить меня, я пожелал обоим мужчинам доброй ночи, не мешкая удалился и весь путь до дома преодолел бегом, однако совсем не из страха перед Черной Бородой, так как Рэтси мне объяснил, что столкнуться с ним можно, лишь если зайдешь ночью на церковный двор.
Черной Бородой называли одного из Моунов, умершего лет сто назад и похороненного, подобно другим почившим представителям своего рода, в фамильном склепе под церковью. Только в отличие от других своих родственников он так и не мог упокоиться. Одни объясняли это снедающей его жаждой найти потерянное сокровище, другие усматривали причину в ужасных злодействах, которые он совершил при жизни, из-за чего другие мертвые Моуны, даже и мертвые, не хотят находиться с ним рядом. Если последнее верно, должно быть, он и на самом деле представлял собой исключительное чудовище, ибо другие Моуны, умершие до или после него, сами были ужасны и следовало весьма преуспеть в злодеяниях, чтобы даже они посчитали его компанию для себя зазорной. По слухам, Черная Борода появлялся ночью на кладбище, где, освещая пространство вокруг себя старинным фонарем, рыл землю в поисках сокровища. Те, кто с ним повстречался, добавляли к этому, что ростом он выше любого из мужчин, борода его крайне черна, широка и длинна, лицо смугло, а любой, на кого он посмотрит, в течение года скончается. Имели эти россказни под собой основание или нет, но в Мунфлите мало кто набирался отваги пройти с наступлением темноты через церковный двор. Большинство предпочитало кружные пути, пусть хоть в десяток миль, только бы не рисковать. И усилились, когда однажды летним утром на траве церковного двора обнаружилось тело несчастного выжившего из ума Крэки Джонса, кончину которого, конечно же, все объяснили встречей с Черной Бородой.
Мистер Гленни был сведущ в подобных вещах куда больше других и рассказал мне, что на самом деле Черная Борода, умерший лет сто назад, – это некий полковник Джон Моун. В кровопролитной войне против Карла Первого он, опозорив семью, пренебрег своим долгом верности королю и переметнулся на сторону восставшего парламента. Его сделали комендантом Карисбрукского замка, то есть главным тюремщиком заточенного там короля, и он пообещал пленнику не заметить побега, если тот отдаст ему огромный бриллиант. Бриллиант этот подарен был его величеству братом – королем Франции, и с тех пор он всегда держал его при себе. Но, получив взятку, подлый Джон Моун вероломно привел в назначенный час побега к окну, через которое король собирался уйти, отряд солдат. Узника перевели в тщательно охраняемое помещение, а мерзкий предатель с гордостью доложил парламенту, что только благодаря его, Моуна, бдительности побег был предотвращен. Но, как совершенно верно сказал мистер Гленни, незавидна участь того, кто, забыв о Боге, пустился по пути зла. Вскорости полковник стал вызывать недоверие у новых соратников, лишился должности и был вынужден возвратиться в Мунфлит, где влачил одинокое существование, презираемый и парламентскими, и сторонниками короля, пока не умер уже в счастливые дни Реставрации, когда страной начал править сын казненного Карла Первого король Карл Второй. Однако Джон Моун не обрел покоя и после смерти. По слухам, сокровище, полученное от короля в обмен на свободу, было где-то им спрятано, извлечь его из тайника он при жизни остерегался и, унеся тайну с собой в могилу, выходил из нее ночами, пытаясь найти бриллиант.
Верил ли этому сам мистер Гленни, не знаю. Мне он только сказал, что, хотя Священное Писание и содержит истории, где как добрые, так и злые духи появляются среди живых, ему все же сомнительно, что местом поиска полковник Моун мог избрать церковный двор, ибо спрячь он свое сокровище там, спокойно отрыл бы его еще при жизни. Довод мне показался вполне убедительным, и днем я с поистине львиной отвагой часто прохаживался по двору церкви, с которого открывался самый лучший вид на море, однако ни за какие награды у меня не хватило бы смелости ступить туда ночью. Особенно после случая, когда я и сам мог почти засвидетельствовать, что опасаются люди не зря. Тетя моя как-то под вечер сломала ногу. Мне пришлось ночью бежать в Рингстейв за доктором Хокинсом. Не по церковному двору, а по дороге, которая шла милей выше него по склону. Оттуда-то мне и стал ясно виден свет внизу, и двигался он вокруг церкви, где вряд ли мог находиться в два часа ночи хоть один праведный житель деревни.
Глава II
Наводнение
Вода, стремясь на берега, их в клочья разрушала
И, пенясь, рухнувшую твердь крушила и вздымала.
Под штормом натиска земля повсюду исчезала,
Пока не стал весь морем мир.
Джин Ингелоу
Третьего ноября, через несколько дней после первого моего посещения «Почему бы и нет», задул юго-западный ветер. Грачи все то утро, предвещая ненастье, так торопились скорее попасть на землю, что словно падали. К четырем пополудни ветер усилился до внезапных резких порывов, когда же окончились наши занятия, которые мистер Гленни проводил в холле одной из бывших моуновских богаделен, и мы вышли на улицу, над нашими головами уже носились пучки соломы и даже куски черепицы, взвихренные с крыш, а дети распевали:
Дуй, ветер, бурю подгоняй, вздымай волну!
И выброси на берег нам корабль к утру!
Жестокая эта песенка дошла до нас из прошлых и куда худших, чем наши, времен, хотя, должен признаться, и в наше время кораблекрушения на побережье Мунфлита воспринимались порой чуть ли не как дары свыше. Тем не менее все же, надеюсь, никто из нас не был настолько лишен доброты, чтобы действительно пожелать гибель кораблю, пусть она и сулила дележку добычи. Больше того, я знал в Мунфлите людей, которые с риском для собственных жизней бросались спасать моряков, потерпевших крушение, и самоотверженность их не знала границ, когда судно «Дариус» из Ост-Индии разбилось о прибрежные камни. Даже тела безымянных бедняг, которые выносило к нам, могли быть уверены, что их похоронят здесь по-христиански. Некоторым даже доставался надгробный камень, заботливо сделанный мастером Рэтси с обозначением пола погибшего и даты, когда прибило его к нашему берегу. Многие из таких памятников до сих пор можно увидеть на церковном кладбище.
Деревня наша располагалась примерно посередине побережья залива Мунфлит. Берега его слева и справа от нас отстояли один от другого на двадцать миль, и этот весьма солидных размеров водный бассейн мог стать при юго-западном штормовом ветре смертельной ловушкой для корабля, если он на беду свою в такое время шел по проливу и не успевал обогнуть мыс Снаут, его затягивало в залив, день по нему мотало, но к вечеру неизбежно выкидывало на берег. Множеству славных кораблей не удавалось обойти коварное место, и участь была уготована им ужасная. Галечный берег обрывался прямо на глубину. Чудовищной силы волны били корабль о него, накрывали сверху. Даже самое прочное дерево не могло выдержать их сокрушающей мощи. Люди, прыгавшие за борт, тоже тщетно ждали от моря пощады. Оно их захлестывало, сбивало с ног, накрывало ревущими пенистыми стенами воды, и очередной смертоносный вал утягивал несчастных одного за другим в пучину вместе с галькой, оглушительный рокот которой разносился в вечерней тьме даже после того, как ветер, поднявший всю эту бучу, стихал до самого Дорчестера, где люди, ворочаясь в теплых постелях, благодарили Бога за то, что он их упас от сражения с бурей на побережье Мунфлит.
Буря третьего ноября к кораблекрушению не привела, но ветер поднялся, какого я никогда до того не знавал, да и после всего лишь раз столкнулся с подобным. Буря бушевала всю ночь напролет, и ярость ее час от часу росла. Думаю, что в Мунфлите никто тогда не ложился спать, ибо оконные стекла и черепица разметались на куски, двери хлопали, ставни, мотаясь под натиском вихря, стучали, попробуй засни. К тому же, казалось, печные трубы тоже вот-вот обвалятся и раздавят нас. К пяти утра буря разошлась пуще прежнего. А затем кто-то пронесся по улице, криками возвещая о новой опасности. Море затапливает уже берег и, похоже, затопит все вокруг.
Некоторые из женщин призывали бежать прочь от берега и вскарабкаться на Ридждаун, но мастер Рэтси, который вместе с несколькими другими мужчинами ходил по домам и успокаивал их обитателей, прибег к урезонивающему доводу, что верхняя часть деревни намного выше уровня моря и, если, не ровен час, затопит ее, скорее всего, Ридждаун тоже окажется под водой.
А море уже целиком покрыло весь галечный пляж, и в лагуне скопилось столько воды, что она, нарушив пределы, за которые не заходила даже при половодье, затопила впервые за последние пятьдесят лет все прибрежные луга и даже нижнюю часть улицы. Церковный двор, хоть и был на некоторой возвышенности, тоже к рассвету оказался затоплен, и церковь выглядывала из воды, словно небольшой остров с крутыми склонами. В таверне «Почему бы и нет» вода перехлестывала через порог, но Элзевир покидать ее не желал, говоря, что ему безразлично, пусть хоть море его и смоет. А в девять утра пришло чудо. Ветер внезапно унялся. Вода начала отступать. Показалось яркое солнце. И еще до полудня люди стали выходить из домов, чтобы посмотреть на потоп и обсудить шторм. Многие раньше не представляли себе, что напор ветра может быть таким яростным, но самым старым из наших жителей помнилось, как на второй год правления королевы Анны здесь бушевало, может, еще и похлеще. Как бы то ни было, этот пятничный шторм стал весьма много для меня значить, и в дальнейшем вы убедитесь, насколько вскорости после того, как пронесся он по деревне, изменилась моя жизнь.
Воды, как я уже говорил, поднялись до того высоко, что церковь стала похожа на остров, но и ушли они быстро, поэтому мистеру Гленни не пришлось отменять воскресную службу. В церковь людей у нас обычно-то приходило не слишком много, но тем утром явилось их даже меньше привычного, так как луга между деревней и церковным двором превратились после прошедшего наводнения в почти непроходимую топь. Водоросли обвились гирляндами вокруг надгробий на кладбище, а с внешней стороны каменной ограды церковного двора образовался из них целый склон, источающий резкий солено-йодистый запах, словно от яиц кайры, который всегда стоял в воздухе, если юго-западный вихрь устилал наш берег ковром из морского сена.
Церковь наша была размера примерно такого же, как остальные, которые я видел. Внутри ее разделяла посередине перегородка. Возможно, в Мунфлите когда-то действительно жило достаточно много людей, и церковь тогда заполнялась, однако с тех пор, как я ее помню, ни разу не видел, чтобы кто-нибудь молился в той части, которая называется нефом. Он всегда пустовал. Лишь несколько старых гробниц да герб королевы Анны. От плит пола тянуло там сыростью, он порос мхом, а белые стены в местах, где на них в непогоду просачивались сквозь крышу капли дождя, покрыли зеленые пятна плесени. Нужно ли удивляться, что горстка людей, посещавших церковь, предпочитала собраться по другую сторону перегородки у алтаря. Там хоть пол под скамьями был устлан досками, а панели из дуба на стенах не давали гулять сквознякам.
В то воскресное утро там собралось, кроме мистера Гленни, Рэтси и полдюжины нас, мальчишек, решившихся пересечь заболоченные луга, устланные телами кротов и мышей, еще человека четыре. Даже набожной моей тете прийти помешала мигрень. Тех же, кто все-таки явился, ожидал сюрприз в качестве одиноко сидящего на одной из скамей Элзевира Блока. Каждый из вновь прибывавших изумленно таращился на него, ибо прежде никто еще в церкви его не видел. Иные по сей причине считали его католиком, другие – язычником. Так или нет, но неожиданное его появление объяснялось, похоже, не жаждой послушать проповедь, а благодарностью мистеру Гленни за стихотворную эпитафию Дэвиду. Элзевир сидел с раскрытым молитвенником в руках, не обращая внимания ни на кого из присутствующих и не обмениваясь приветствиями с входящими, как было заведено у нас в церкви. Слова викария тоже, кажется, мало его занимали, потому что страниц молитвенника он ни разу не перелистнул.
Церковь после наводнения до того просырела, что мистер Гленни разжег в задней части ее жаровню, которая обычно использовалась лишь зимой. Мы, мальчики, спасаясь от пронизывающего холода, тут же сели поближе к огню. Диспозиция эта таила для нас сразу два преимущества. Во-первых, тепло, а во-вторых, оказавшись так далеко от викария, да к тому же надежно укрытыми от его взгляда спинками дубовых скамей, мы могли без опаски, что нас поймают, испечь яблоко или поджарить каштаны. Тем утром, однако, произошло нечто, заставившее нас позабыть о своих намерениях.
Служба едва началась, когда внимание наше привлек странный звук, который раздался под полом церкви. Первый раз мы его услышали, когда мистер Гленни только начал произносить «Возлюбленные мои братья и сестры», а второй раз достиг наших ушей перед Вторым Поучением. Шум был негромкий и походил на стук лодок одна о другую в море, но более глубокий и гулкий. Наша компания озадаченно переглянулась. Каждый из нас ведь знал, что под полом церкви склеп Моунов, и звуки, которые мы услышали, могли раздаваться только оттуда. Никто из живших при нас в Мунфлите туда не спускался, но Рэтси, со слов своего отца, служившего прежде, как и он сам теперь, при церкви, рассказывал, что простирается это захоронение на половину пространства под алтарем и в нем обрело последнее земное пристанище множество Моунов. Склеп не открывали уже около сорока лет, с той самой поры, как у Джералда Моуна, крепко выпившего на скачках в Уэймоте, лопнул сосуд, и это привело его к смерти. Ходила также история, будто множество лет назад из склепа раздался столь кошмарный потусторонний вопль, что священник и прихожане бросились вон из церкви, после чего в ней несколько недель подряд не было служб.
Все это мы тут же вспомнили и в страхе сгрудились поплотнее у очага, размышляя, не стоит ли убежать стремглав вон отсюда. В склепе Моунов точно что-то двигалось, а вход туда был лишь один – сквозь пол алтаря или, точнее, сквозь люк, закрытый каменной плитой с железным кольцом, которую не поднимали уже четыре десятилетия.
Как следует поразмыслив, мы, однако, решили остаться на месте, хотя остальные, пришедшие в церковь, тоже чувствовали себя неуютно, что мне немедленно стало ясно, когда я поднялся на ноги и глянул на них поверх спинок скамей. Некая бабушка Такер, к примеру, при каждом звуке так вздрагивала, что очки у нее падали с носа на колени. А мастер Рэтси, похоже, старался изо всех сил заглушить странные звуки, то принимаясь шаркать ногами, то с громким хлопком опуская молитвенник на спинку скамьи впереди себя. Но сильнее других удивил меня Элзевир Блок, который, как утверждали многие, с совершеннейшим равнодушием относился и к Богу, и к дьяволу, однако сейчас проявлял явные признаки беспокойства, бросая взгляды на Рэтси при каждом новом возникновении стука из подземелья. По мере того как наша компания с интересом поглядывала на остальных, мистер Гленни продолжал читать проповедь. Одно из его рассуждений заинтересовало меня и, несмотря на юный мой возраст, надолго запомнилось. Уподобив жизнь каждого букве «Y», он продолжал: «Наступает момент, когда мы оказываемся на развилке дорог, наподобие линий буквы «игрек». Загляните в свои молитвенники. Буква эта в них не походит на герб Моунов, где расходящиеся вверх линии одинаковой толщины. В книжках ваших левая линия толще и с более сильным наклоном, чем правая. Древние философы толковали ее как символ широкой дороги, идти по которой легко, однако ведет она к краху и разрушению. А вот по узкой дороге, которую обозначает тонкая правая линия, следовать гораздо труднее, зато на этом пути обретаешь истинные ценности жизни».
Мы тут же стали отыскивать заглавные «игреки» в своих молитвенниках. И бабушка Такер, хоть букву «а» от «б» отличить не могла, тоже принялась листать свой, видно, в надежде, что тогда всем покажется, будто она умеет читать. Тут под полом опять и послышалось. Куда громче прежнего, гулко, надсадно, словно стонал, изнывая от боли, старик. И бабушка Такер, взвившись на ноги и уставясь на мистера Гленни, крикнула так, что голос ее разнесся по всей церкви:
– О, преподобный! Ужель вы можете проповедовать, когда Моуны, видать, встают из могил!
Она кинулась вон из церкви. Остальные, и без того уже порядком встревоженные, немедленно впали в панику, побудившую их последовать ее примеру. Миссис Вайнинг на бегу провопила:
– Божечки! Он нас тут всех передушит, как Крэки Джонса!
Минуту спустя в церкви остались лишь мистер Гленни, я, Рэтси и Элзевир Блок. Я удержался от бегства, во-первых, из опасения прослыть трусом в глазах трех мужчин, во-вторых, посчитав, что Черная Борода, даже если появится, нападет скорее всего на взрослых, а не на мальчишку, и, в-третьих, пребывая в уверенности, что, дойди дело до драки, Элзевир Блок достаточно силен и справится хоть с самим Моуном. Гленни, делая вид, будто и страшных звуков не слышал, и бегства собравшихся не заметил, продолжал читать проповедь, пока не дошел до конца. После этого Элзевир сразу же удалился, меня же удерживало любопытство. Не мог я уйти, пока не услышу, что мистер Гленни скажет Рэтси по поводу звуков из склепа. Тот помог преподобному снять облачение, а потом, заметив меня, стоящего рядом, сказал:
– Господь послал нам недобрых ангелов, мистер Гленни. Ужас пробирает, когда слышишь, как мертвецы шевелятся у тебя под ногами.
– Под властью собственных страхов мы сами многое превращаем в ужас, – поцокал языком мистер Гленни. – В панику звуки эти ввергают невежественных. Черная Борода! Нет, я здесь не для того, чтобы люди видели, как усопшие грешники, души которых не обрели покой, бродят вокруг. Звуки эти порождены природой, подобно шумящим и плещущим волнам на берегу. Наводнение наполнило склеп водой, гробы всплыли и, попадая в водовороты, стучат один о другой. А так как тела, что внутри них, давно превратились в скелеты, звуки от столкновения получаются гулкие. Вот и все ваши недобрые ангелы. Да, мертвецы и впрямь двигаются у нас под ногами, однако отнюдь не по собственной воле. Их мотает вода. Уж ты-то, дружище Рэтси, сообразил бы, что не нужно пугать мальчишек глупыми историями о духах. Правда и так ужасна.
Слова викария убедили меня, и так как его суждениям я всегда доверял, то и тайна мне показалась вполне объясненной, хотя само происшествие меня все равно пугало. Стоило только представить себе гробы со скелетами Моунов, дрейфующие во мраке склепа, как я леденел с головы до ног, и разыгравшееся воображение рисовало мне множество поколений стариков и детей, мужчин и женщин, обратившихся в кости. Каждый из них плыл в последнем своем пристанище из гниющего дерева, и средь них, разумеется, Черная Борода, чей гроб намного превосходил размерами остальные и наскакивал на них, словно корабль, когда волнующееся море кидает его на спасательную шлюпку, которая пытается подойти к его борту. Живо себе представлял я также сам склеп. Кромешную темноту его, спертый воздух, черную гнилую воду, поднявшую до самого потолка эти скорбные суда с их давно скончавшимися пассажирами.
Рэтси остался слегка расстроен словами мистера Гленни, однако, стремясь сохранить лицо, ответил:
– Что ж, преподобный. Человек я, конечно, простой, и мне мало чего известно про наводнения, водовороты и тайные силы природы, однако ж, пусть даже и в вашем просвещенном присутствии, не стану пренебрегать теми знаками, которые нам ниспосылаются. Издавна ведь у нас сказывают: «Как Муны задвигаются, так Мунфлит заскорбит». И отец говорил мне, что последний раз они там пришли в шевеление, когда королева Анна правила второй год и шторм страшной силы поднялся. Дома вздымало над головами людей. А мальчишек, говорите, пугаю, так ведь им и следует страх познать, да не соваться куда не надо, чтоб не дошло до беды.
При этих словах помощник викария выразительно кивнул в мою сторону и, раздраженно пыхтя, вышел из церкви к ожидающему его снаружи Элзевиру Блоку. Мне было тогда невдомек, к чему именно относилось предупреждение Рэтси, да я не особо о нем и задумался, а просто пошел проводить мистера Гленни, неся его облачение, до дома, где жил он в деревне.
Мистер Гленни всегда относился ко мне дружелюбно, уделял мне много внимания и беседовал со мной так, будто были мы с ним на равных. Объяснялось это, по-видимому, тем, что, не находя в округе никого себе равного образованностью, он свободнее себя чувствовал в обществе невежественного мальчика, чем с невежественными взрослыми. Выйдя из калитки церковного двора, мы с ним пересекли затопленный луг, и тут я снова начал его донимать вопросами про Черную Бороду и потерянное сокровище.
– Мне известно, сын мой, – ответил мне он, – что полковник Моун с дурацким прозвищем Черная Борода первый в своем роду нанес немыслимым мотовством серьезный ущерб семейному состоянию и даже обрек на разруху и запустение богадельни, выгнав оттуда бедных, которые там находили приют. На его совести бесчисленное количество преступлений, руки его обагрены кровью преданного слуги, и расправился он с ним только из-за того, что несчастному стала известна какая-то скверная тайна. В конце жизни полковника постиг удел многих, кто шел по дороге зла. Его стали мучить раскаяние и угрызения совести, и он, хоть и был протестантом, послал за ректором Киндерли из Дорчестера, чтобы ему исповедаться, а затем, стремясь возместить ущерб, нанесенный богадельням, пожелал оставить бриллиант, который выманил столь подлым образом у короля Карла Первого, для их возрождения и содержания, ибо другие богатства его к тому времени совершенно иссякли. Воля эта была прописана в завещании, и я его видел собственными глазами, однако сокровище называлось там попросту бриллиантом, а где он находится, завещатель не указал. Он явно сам собирался извлечь его из тайника и продать, чтобы вырученные деньги пошли на благое дело. Смерть, однако, распорядилась по-своему и унесла его прежде, чем он осуществил свои планы. Поэтому люди и говорят, что хоть он и успел в конце жизни раскаяться, но не найдет покоя в могиле, покуда не будет найден и не послужит во благо бедным спрятанный бриллиант.
Рассказ мистера Гленни обрек меня на долгие размышления. Часами ломал я голову, пытаясь сообразить, куда Черная Борода спрятал свой драгоценный камень, и надеясь, что, если мне улыбнется судьба, найду его и стану богатым. Происшествие с шумом под церковью все сильнее меня озадачивало, а объяснение мистера Гленни уже не казалось столь убедительным, как сначала. Звук снизу шел объемный и гулкий. Мог ли такой получаться от столкновения гниющих гробов? Я не раз видел, как мастер Рэтси раскапывает старые могилы. Лопата его натыкалась на совершенно истлевшее дерево, хотя даты на некоторых из этих захоронений свидетельствовали, что они не столь уж и давние. Конечно, в сырой земле гробы подвергались распаду гораздо скорее, чем в каменном склепе, но Рэтси однажды, вскрыв верхний слой могилы старика Гая перед захоронением его почившей вдовы, позволил мне заглянуть внутрь. Могила была не земляной, а кирпичной, тем не менее я увидел, что гроб старика иссекли глубокие трещины, он покоробился, и один хороший удар лопаты разнес бы его на куски. Тогда до какого же состояния должны были дойти гробы Моунов, многие из которых попали в склеп множество поколений назад. Они давно превратились в труху. Но что в таком случае порождало барабанно-гулкие звуки, словно сталкивались целехонькие герметично закрытые деревянные ящики? Тем не менее мистер Гленни, вероятно, был прав. Чему там иначе стучать, как не гробам?
В понедельник, то есть на следующий же день после того как из склепа послышались звуки, я, едва завершились занятия в школе, помчался вниз по улице и через луга к церковному двору, чтобы послушать снаружи церкви, шевелятся ли по-прежнему Моуны. Именно снаружи. Попасть внутрь надежды у меня не было. Рэтси не согласился бы дать мне ключи. Он же сказал накануне, что мальчики не должны соваться в дела, которые их не касаются. Впрочем, и окажись у меня ключи, вряд ли я бы решился зайти внутрь один.
Церкви достиг я, даже не запыхавшись, и первым делом прижался ухом к северной ее стене, которая смотрела в сторону деревни, а затем, несмотря на холод и сырость высокой травы, лег на землю в расчете, что так уж наверняка услышу любой звук из склепа, но ничего не услышал. Моуны либо после вчерашнего успокоились, либо гробы с их усопшими милостями отнесло на южную сторону, выходящую к морю, и они налетают теперь друг на друга там. Я с удовольствием вылез из травы и, согревая закоченевшее тело под солнечными лучами, направился к озаренной ими южной стене. Возле нее меня ждала неожиданность. Обогнув каменный выступ на углу, я увидел двоих мужчин. И были они не кем иным, как Рэтси и Элзевиром Блоком, которых мое появление застало врасплох. Мастер Рэтси, точно так же, как только что я, лежал на траве, прижавшись ухом к стене, а Элзевир Блок сидел, прислонившись спиной к опоре стены, курил трубку и смотрел сквозь подзорную трубу на море.
Вообще-то у меня было не меньше права находиться на церковном дворе, чем у Рэтси и Элзевира, однако при встрече с ними я оказался охвачен столь сильным чувством стыда, словно бы занимался чем-то предосудительным. Кровь прилила у меня к лицу, ноги изготовились стремглав нести меня прочь, но, так как оба мужчины уже меня видели, я заставил себя оставаться там, где стоял, и спокойно, насколько мог, произнес:
– Доброе утро.
Мастер Рэтси с ловкостью вспугнутого кота вскочил на ноги. Не будь он мужчиной, мне лицо его показалось бы зардевшимся от смущения. Во всяком случае, покраснел он сильно, хотя, возможно, просто из-за того, что чересчур резко поднялся с земли. Тем не менее я видел: он несколько выбит из колеи, и спокойно-небрежное «Доброе утро, Джон» в ответ на мое приветствие далось ему с явной натугой.
– Доброе утро, Джон, – повторил он уже спокойнее, напустив на себя такой вид, будто для него обычное дело лежать осенним утречком на церковном дворе, прижав ухо к стене. – Что привело тебя на церковный двор в этот ясный солнечный день?
Я честно ответил ему, что пришел проверить, не двигаются ли по-прежнему Моуны.
– От меня ответа не жди, – сказал он. – Недосуг мне транжирить время на ерунду. Я вот проверку замыслил, все ли в порядке со стеной после наводнения и не нуждается ли в укреплении фундамент. А ты, коли время у тебя есть нынче утром болтаться, добеги, будь добр, до моей мастерской и притащи мне оттуда штукатурный молоток. Совсем про него позабыл, выходя. А надобно б им простучать цемент на прочность.
Стена стояла крепко, как скала. Ясно, что Рэтси просто нашел предлог спровадить меня. Сделав, однако, вид, что вполне всерьез воспринял его просьбу, я спешно удалился оттуда, где мне оказались не рады, и вскорости смог получить подтверждение, что не зря заподозрил Рэтси в лукавстве. Они с Элзевиром даже не стали ждать моего возвращения с молотком. Я встретил их на первом же лугу. Мастер Рэтси, конечно, поторопился найти объяснение. Мол, пока я ходил, выяснилось, что молоток не нужен. Требуется всего-навсего подмазать кое-где стену свежим цементом.
– Если у тебя, Джон, и завтра окажется столько свободного времени, – продолжил он, – приходи. Поможешь мне сделать новые банки на лодке «Петрель». Они очень ей требуются.
Пока Рэтси все это мне говорил, я с любопытством поглядывал на Элзевира. Глаза его весело поблескивали под густыми бровями. Похоже, смущение приятеля изрядно его развлекало.
Следующая воскресная служба в церкви прошла совершенно обычно. Элзевир на ней не появился, странных звуков не раздавалось. И я больше никогда не слышал, как двигаются Моуны.
Глава III
Открытие
Иным искателям приключений
Тесно в пределах своих владений.
Дали другие манят их взгляд,
Чтоб уж в пути обернуться назад,
Слушая бури предвестья в ветрах.
Радость для них – испытать шторма страх.
Томас Грей
Дневные часы, если они у меня оставались свободными после школьных занятий, я, как уже было сказано, часто проводил во дворе церкви, с возвышенности которого открывался самый лучший вид на море. При ясной погоде я мог разглядеть оттуда французских корсаров, крадущихся вдоль утесов под мысом Снаут, чтобы, таясь там, застигнуть врасплох выходящее из пролива судно из Индии или какой-то другой торговый корабль. В Мунфлите мальчиков одного со мной возраста было мало, дружбы мне ни с одним из них водить не хотелось, и я привык к одинокому времяпрепровождению, находясь большей частью на улице, так как мальчики, которые носят без дела грязь в дом на своих ботинках, вызывали у моей тети крайнее неодобрение.
Следующие несколько дней после внезапной встречи с Элзевиром и Рэтси я, опасаясь вновь раздосадовать их своим появлением, держался от церкви подальше, однако потом снова начал ходить туда и больше их там не встречал. Любимым местом моим на церковном дворе теперь стала выступающая над землей плоская часть каменного саркофага на юго-восточной стороне церкви, который мистер Гленни однажды при мне назвал алтарем. Захоронение это, увенчанное надгробием с высеченным по кругу орнаментом из цветов и фруктов, когда-то и впрямь, наверное, было очень красиво, однако так пострадало от времени и непогоды, что, сколько я ни пытался, ни разу не смог прочесть надпись на нем и выяснить, кто там похоронен.
Плоский выступ служил мне удобной скамейкой, густая купа тисов надежно защищала от ветра. Полагаю, раньше они опоясывали захоронение плотным кольцом, но потом часть их с южной стороны то ли погибла, то ли ее вырубили, открыв вид на море, в то время как уцелевшие высились по бокам и позади памятника плотным полукольцом, как спинка глубокого кресла наподобие тех, которые часто ставят возле камина. С наступлением осени саркофаг алел от множества падавших на него ярких, будто из воска, ягод. Я множество раз приносил их тете. Она говорила, что они очень вкусны с терновым джином, стаканчиком которого обычно завершался ее воскресный обед. Помимо меня, место это явно нравилось и другим людям, о чем свидетельствовала изрядно утоптанная тропинка, однако сам я, сколько сюда ни наведывался, ни разу никого не втретил.
Сидел я там, глядя на море, и в самом начале февраля 1758 года. День выдался редкостный для разгара зимы. Он походил скорее на майский. В мягком прогретом воздухе стояла такая тишь, что до меня доносился с гребня холма, за полмили от саркофага, стук, поднятый стариком Джонсом, который закидывал в свою телегу турнепс. Погода настала теплая сразу же после наводнения. И так как дожди были очень редки и коротки, а порывистый ветер принимался дуть часто, глинистая земля Мунфлита вскорости сперва впитала в себя всю воду, а затем пересохла до трещин и даже расщелин, что обычно случалось лишь в середине лета. Расщелинами пошла тропа, ведущая от деревни к церкви, ими изборожден стал церковный двор, и одна из них, очень широкая, подобралась к самому саркофагу.
В пятом часу пополудни я наконец собрался домой к тетиному чаю, но в этот момент под каменным моим сиденьем что-то грохнуло и начало осыпаться. Я вскочил на ноги. Расщелина там, где она подходила к захоронению, весьма раздалась, образовав в сухой растрескавшейся земле дыру диаметром футов восемь, а может даже и больше, и дыра эта уходила за каменный бок могилы. Я, опустившись на четвереньки, в нее заглянул, и мне стало видно, что под памятником она еще шире и глубже. Полагаю, на свете мало найдется мальчиков, которые, обнаружив дыру в земле, пещеру в скале или тем более подземный ход, удержатся от исследования загадочного пространства. Жажда проникнуть внутрь охватила меня. Я пригляделся к провалу, который образовала осыпавшаяся вниз земля. Он был достаточно для меня широк. Я сполз по нему ногами вперед и, когда ботинки мои уперлись в кучку сырой глины, обнаружил, что могу встать под саркофагом, даже не пригибаясь.
Впрочем, это как раз было мной ожидаемо. Я ведь предполагал, что под памятником находился склеп и земля провалилась внутрь, потому что его потолок раскололся. Только на самом деле все оказалось совсем не так, в чем я смог убедиться, едва глаза мои чуть попривыкли к сумеркам. Яма, на дно которой я съехал, оказалась началом коридора, который полого спускался по направлению к церкви. Открытие показалось мне столь замечательным, что от волнения и удивления сердце заколотилось. Раз есть подземный ход, значит, в нем может скрываться что-то необычайное. Вплоть до тайника с сокровищем Черной Бороды, продолжавшего волновать меня с той самой поры, как я узнал о нем от мистера Гленни. Мысли о бриллианте и богатстве, которое он мог принести мне, не шли из моей головы. Шириной коридор был в два шага, а высотой – с мужчину большого роста. Прорыли его, не отделав ни кирпичами, ни чем-либо другим, тем более удивительно было мне, что признаки запустения в нем совершенно отсутствовали. Ни плесени, ни паутины – вечных спутников таких мест. По виду им, наоборот, часто пользовались, о чем свидетельствовали отпечатки множества ботинок на мягком глинистом полу, а также длинный широкий след, будто проволокли что-то тяжелое.
Я двинулся по коридору, вытянув перед собой руки, чтобы не наткнуться во тьме на какое-нибудь неожиданное препятствие, и шаркая ногами, чтобы не ухнуть в невидимый глазу провал. Но даже с подобными предосторожностями отваги моей хватило лишь на полдюжины шагов. Далее вынести до предела сгустившейся темноты я не смог, повернул назад и испытал огромное облегчение, снова увидев проблески света, сочившегося сквозь дыру в земле. Ужас перед кромешной тьмой погнал меня вверх по ней, и я, даже не соображая, что делаю, начал протискиваться, извиваясь, сквозь нее, пока не нашел себя вместе со своим телом на освещенной солнечными лучами и согретой мягким теплым воздухом траве церковного двора. Миг спустя я уже несся домой к тете, так как, во-первых, сильно опаздывал к чаю, во-вторых, мне требовалось добыть свечу, без которой подземный ход не исследуешь, и в-третьих, хотелось поскорее вернуться назад, потому что, пускай и сильно напуганный, все же твердо решил пройти через подземелье.
Появление мое дома тете особенного удовольствия не принесло. В кухне возник я с большим опозданием, да к тому же весь взмыленный. Слов моя тетя, когда была мной недовольна, произносила мало, однако молчание ее в таких случаях отличалось такой выразительностью, что я предпочел бы выслушивать от нее продолжительные нотации. На вопросы мои она отвечала лишь «да» или «нет», выдерживая при этом весьма выразительные паузы. Так в почти полном безмолвии и прошел наш чай. Вернее, мой. Со своим тетя уже управилась до моего прихода. Ел я мало, и не только из-за того, что чай почти остыл, а еда оказалась невкусной, но и по той причине, что меня целиком захватывали размышления о странном моем открытии. Тете, как вы понимаете, я про него не сказал ни слова и теперь с нетерпением ожидал момента, когда она уляжется спать, после чего был намерен, вооружившись свечой и огнивом, вернуться на церковный двор.
Солнце уже совсем опустилось, когда тетя Джейн, прочтя благодарственную молитву, повернулась ко мне.
– Джон, – проговорила она сухим и холодным тоном. – Замечаю последнее время, что ты порой пропадаешь по вечерам на улице до половины восьмого, а то и до восьми вечера. Такое для юношей твоего возраста совершенно недопустимо. Ты не должен ходить по улице после наступления темноты. Не желаю, чтобы моего племянника называли праздношатающимся лоботрясом. Яблочко-то от яблони недалеко падает. Папаша твой вот с такого и начинал, а после бедной моей сестре веселую жизнь устраивал, пока провидение не явило милость забрать его в мир иной.
Тетя Джейн часто так отзывалась о покойном моем родителе, которого сам я не помнил, но тем не менее полагал, что при всей его склонности к бродяжничеству и контрабанде человеком он был неплохим и по-своему даже порядочным.
– Отныне ты, – продолжила моя тетя, – ни сегодня вечером, ни всеми другими прочими вечерами с наступлением темноты никуда из дома не выйдешь. Ночью место порядочных юношей в кровати. Но если, по твоему разумению, ложиться еще слишком рано, можешь посидеть со мной часок в гостиной, и я почитаю тебе вслух проповедь ректора Шерлока. Это избавит тебя от праздных суетных мыслей и подготовит к спокойному сну.
Она первой вошла в столовую, там взяла с полки книгу и, положив ее на стол туда, где образовался круг света от горящей свечи, принялась читать. Мне было не впервой испытывать подобные муки. Монотонное тетино чтение плюс нудная проповедь наверняка бы вскоре меня усыпили, как в таких случаях всегда и происходило прежде, несмотря на то, что сидел я на жестком и неудобном стуле, если бы не открытие, которое полностью поглощало меня и не досада из-за задержки. Вот почему, пока тетя читала о разных духовностях и спасительных молитвах, я думал только о бриллианте и всевозможных благах, которые обрету, став богатым, ибо к тому моменту уже практически не сомневался, что обязательно отыщу в конце тайного хода сокровище Черной Бороды.
Дочитав нудную проповедь, тетя закрыла книгу и бросила мне «спокойной ночи». Я собирался ответить ей, как обычно, холодным вежливым поцелуем, но она отвернулась с таким видом, будто не замечает моих намерений. Затем мы поднялись наверх, где ушли каждый в свою комнату, и больше мне никогда уже не пришлось целовать тетю Джейн.
В небе сияла луна, вернее, три четверти ее диска. Подобными ясными вечерами мне полагалось добираться до постели без свечи, да она мне той ночью и не потребовалась. В ожидании, пока тетя заснет, я вообще предпочел остаться одетым, чтобы затем как можно скорее нестись на церковный двор, даже если рискую там встретиться с привидением. Не дожидаться же до утра, когда кто-нибудь может, проходя случайно мимо саркофага, обнаружить провал, заинтересоваться и прежде меня набрести на сокровище.
Так вот я и лежал на кровати, далекий от мыслей о сне и наблюдая за тенью от столбика балдахина на побеленной стене, которая мало-помалу смещалась в сторону, повинуясь свету плывущей по небу луны. Когда тень дошла до картинки с изображением Доброго Пастыря над каминной полкой, из комнаты тети послышался храп. Поняв, что она заснула и путь мне открыт, я все-таки выждал еще несколько минут, пока она как следует погрузится в сон, затем в чулках проскользнул тихой сапой мимо ее двери и начал спускаться вниз по ступеням. Ох, как же громко, оказывается, скрипели они и лестничная площадка в ночи! И как оглушительно стукались мои ноги и тело о предметы, которые я, хоть и вполне отчетливо видел, но от слишком большого стремления не налететь, наоборот, на них налетал. Все, однако, окончилось для меня победой. Сверху по-прежнему слышался мерный храп. Тетю поднятый мною шум не разбудил, а если бы так получилось, что разбудил, жизнь моя потекла бы по совершенно иному руслу.
Итак, я беспрепятственно достиг кухни, где положил в карман одну из самых ярко горящих свечей и огниво, а затем, крадясь вон из нее и из дома, отметил, насколько громко тикают старые часы. Я задрал голову вверх и глянул на их циферблат, освещенный луной. Стрелки показывали половину одиннадцатого.
На улице я старался держаться в тени деревьев, хотя нигде не было ни души и тишина стояла, словно в могиле. При лунном свете вообще особенно тихо. По-моему, это сама природа застывает от изумления собственной красотой. Мунфлит крепко спал, ни в одном окне не увидел я света, пока не достиг таверны «Почему бы и нет», где за красными занавесками первого этажа тускло мерцало. Получалось, что Элзевир еще не ложился. Я счел это очень странным, учитывая, в сколь ранний час последние много дней закрывалось его заведение. Мне захотелось увидеть, что происходит внутри. Я пересек улицу и осторожно приблизился к окнам, но ничего не смог разглядеть, до того они запотели. Еще удивительнее. Ведь они становились такими, только когда в таверне скапливалось много народа. Я прислушался, действительно уловил звук нескольких мужских голосов, и, судя по тихому бубнежу говоривших, люди эти не веселились, а обсуждали что-то серьезное.
Вскорости нетерпение погнало меня дальше. Я кинулся опрометью через луг к церкви, хотя, оставив у себя за спиной последний в деревне дом, начал несколько сожалеть о своей решимости. Возле церковного двора степень мужества моего еще сильнее поубавилась. В голову полезли мысли о Черной Бороде. Что, как не стерпит он человека, который здесь шарит в поисках его сокровища? Проходя через турникет, я с ужасом ожидал появления его долговязой фигуры из тени на северной стороне церкви. Вот он, взлохмаченный и оскаленный, прыгает на меня… Но двор был пуст, и ничто не препятствовало моему пути. Лишь хваченная морозом трава похрустывала у меня под ногами, когда я, переступая через могилы и огибая особенно густые тени, двигался к купе тисов на дальнем краю кладбища.
Оказавшись в подкове тисов, я увидел белевшую на их сумрачном фоне гробницу, провал у изножья которой выглядел до того непроглядно-черным, словно на землю набросили кусок черного бархата. Мне заподозрилась тут же засада, устроенная внизу покойным полковником. Я застыл в нерешительности. Стоит ли продолжать или лучше вернуться? С берега слышался мерный шорох воды о гальку. Именно воды, а не волн. Залив в эту ночь был гладок словно стекло. Уходить ни с чем я все же не захотел, однако мне требовалось время, чтобы набраться мужества. И я заключил сам с собой договор. Как только вода двадцать раз прошуршит о гальку, спускаюсь. Досчитал я, однако, лишь до семи, когда посреди лунной дорожки, протянувшейся по воде, пришвартовалось бортом к берегу судно. От суши оно отстояло примерно на расстоянии полумили, но я вполне ясно видел и черневшие в лунном свете очертания его корпуса, и мачты с опущенными парусами. У меня возник основательный повод для дальнейшей задержки. Хотелось как следует приглядеться к судну, а может, даже и догадаться, зачем оно к нам пожаловало.
Слишком маленькое для приватиров и слишком крупное для рыбаков, оно не могло быть из-за слишком низкой осадки и судном таможенников. Странным казалось и то, что корабль бросил якорь в Мунфлите. Редкостное событие даже для такой тихой лунной ночи. Пока я стоял и гадал, на носу судна полыхнуло синим. Всего на мгновение. Будто кто-то зажег орудийный запал и тут же выбросил его в воду. Похоже, контрабандисты сигналили сообщникам, которые дожидались либо на берегу, либо на море. Я вновь ощутил прилив храбрости. Синий всполох показался мне знаком, что пора действовать. А если Черная Борода и впрямь поджидает меня в подземелье, то от него все равно не спастись, сказал я себе. Он догонит меня и под землей, и наверху, как быстро ни убегай. Уняв этим доводом колотеж в своем сердце, я в последний раз огляделся и точно так же, как днем, ногами вперед, улез в черный сумрак провала.
Так вот Джон Тренчард и обнаружил себя той февральской ночью стоящим на куче рыхлой земли в глубине дыры. Сердце его то распирала отвага, то сжимал страх, однако всего сильнее ощущал он огромную жажду найти бриллиант Черной Бороды.
Я извлек из кармана огниво и свечу, вскорости пламя ее разгорелось достаточно ярко, дав мне возможность увидеть с большим облегчением, что по крайней мере возле меня никто не стоит. Дальше, однако, путь мой лежал в коридор, где могло меня ожидать любое. Тем не менее я без колебаний продолжил свою авантюрную вылазку.
Шел я медленно большей частью из-за того, что боялся куда-нибудь провалиться, и на ходу подстегивал себя мыслями о большом бриллианте, который наверняка ожидает меня в конце коридора. Ох, сколько же я смогу всего сделать с таким богатством! Куплю мистеру Гленни лошадь, Рэтси – новую лодку, а тете Джейн, хоть она и была так сурова со мной, шелковое платье. Я стану самым важным человеком в Мунфлите, даже важнее и богаче, чем мистер Мэскью, построю каменный дом на морских лугах, чтобы из его окон открывался лучший вид на залив, женюсь на Грейс Мэскью, счастливо с ней заживу и буду рыбачить.
Свечу я старался держать как можно дальше перед собой, постоянно что-то насвистывал, таким образом заглушая страх одиночества, и шаг за шагом спускался все ниже по коридору. Ни Черная Борода, ни кто-либо другой пока не пытался препятствовать моему пути. В подземелье, кроме себя, никого я не замечал, однако на земляном полу отчетливо были видны следы от ботинок, а потолок закоптился от дыма факелов. Это меня беспокоило. Что, если те, кто ходил здесь, уже обнаружили бриллиант и присвоили?
Я столь долго описывал вам свой поход, словно он длился милю, да именно таково той ночью и было мое ощущение, и только позже мне стало ясно: длина коридора составляла не более двадцати ярдов, после чего он упирался в каменную стену. Разочарованный, я уже было пустился в обратный путь, когда заметил в стене неровный пролом, а за ним еще какое-то подземелье. Прежде чем двинуться дальше, мне хотелось понять, куда попаду. Нижняя часть пролома образовывала высокий порог. Я с затаенным дыханием встал на него и просунул внутрь руку, в которой держал свечу, но, даже еще не успев как следует разглядеть, что именно выхватило из тьмы ее пламя, уже знал, куда вывел меня коридор. За проломом в стене простирался склеп Моунов.
Представлял он собой весьма просторное помещение, гораздо больше класса, где мы занимались с мистером Гленни, но с потолком куда более низким – от пола всего девять футов. Собственно, пола как такового не было, ноги мои ступали по мягкому влажному песку, и сердце бешено колотилось в моей груди от осознания, где я нахожусь, и воспоминания о таинственном шуме, который поднялся здесь во время достопамятной воскресной службы.
Первым делом я посмотрел на темные углы и, не заметив там вроде бы ничего для себя угрожающего, начал смелее оглядываться по сторонам, внимательно подмечая все, попадавшее в поле моего зрения. Стены и потолок склепа были из камня. В конце склепа находилась вверх лестница, вела она к плоскому каменному люку – тому самому, чью внешнюю сторону с кольцом я видел в церкви. По стенам шли каменные полки, напоминавшие увеличенные книжные стеллажи, только вот вместо книг стояли на них гробы Моунов. А вот центральная часть помещения была занята совершенно другим. Там громоздилось множество бочек и бочонков всевозможных форм и размеров, начиная с огромной бочки, способной вместить в себя до тридцати галлонов, до маленькой, в которой мог поместиться только один. На каждой из них были начертаны белой краской разные цифры и буквы, видимо, обозначавшие, что именно и какого качества там налито. Это было и впрямь открытие. Вот ведь шел по подземному коридору в надежде найти латунный или серебряный сундучок, подняв крышку которого стану обладателем сверкающего бриллианта Черной Бороды, а забрался в склеп Моунов, всего-навсего приспособленный под склад господами контрабандистами. Это мне стало ясно сразу. Потому что никто не додумался бы держать в столь неподобающем месте спиртное, если оно добыто легальным путем и за него честь по чести уплачена пошлина.
Обойдя весьма многочисленное количество бочек, я вдруг налетел ногой на одну из них. Была она, по-видимому, почти пуста и от удара исторгла глухо-гулкий звук, в точности походивший на буханье (только гораздо тише), которое раздавалось под церковью. Я с гордостью убедился, насколько был прав, сомневаясь, что дерево старых гробов могло поднять такой шум. Его источником, разумеется, были бочки.
Наводнение здесь оставило отчетливые следы. О пережитом стихийном бедствии свидетельствовали и грязь на полу, и испарина на позеленевших стенах, доходившая почти до самого потолка, по которой легко было определить, сколь высокого уровня достигала вода. Сюда даже невесть каким образом занесло несколько тонких водорослей и маленького крабика, который, все еще живой, метусился в углу. Гробы, однако, потоп практически не потревожил. Общим количеством двадцать один, они оставались лежать в своих нишах на полках. Большая часть их была сделана из свинца, а значит, даже высокая вода не подняла бы их. Деревянные, да и то не все, потоп слегка подвинул, однако с полок не смыл. Лишь единственный сорвало с места, и теперь, после ухода воды, он лежал вверх дном на полу.
Склад вызвал сперва у меня недоумение. Чей он, каким образом в него могли тайно доставить столько спиртного и как получилось, что, проводя рядом с ним почти каждый день столько времени, я не углядел даже тени присутствия контрабандистов? Ясно мне было только одно: это они превратили во вход сюда тот самый саркофаг, на плоском камне которого я так любил сидеть, разглядывая морские дали. Чуть погодя до меня начало доходить еще кое-что. Вспомнилось, как старательно пугал меня Рэтси историями о Черной Бороде; как Элзевир, никогда не ходивший в церковь, внезапно возник там тем самым воскресным утром, когда раздались тревожные звуки; какой у него, известного своей львиной храбростью, сделался испуганный вид, едва они стали отчетливо слышны, и, наконец, как я застиг его с Рэтси на церковном дворе, когда мастер Рэтси лежал, приложив к стене ухо. Три случая, сопоставив которые, я словно прозрел. Ведь выходило, что Элзевир и Рэтси знают куда больше о тайном хранилище, чем многие остальные, а значит, рассказы их про Черную Бороду, роющего по ночам среди могил, просто выдумка, чтобы люди старались темной порой держаться подальше от церковного двора. И не Черная Борода со старинным своим фонарем, а контрабандисты ходили там с фонарями той ночью, когда я бегал за доктором Хокинсом. По-видимому, они затаскивали в подземелье очередную партию нелегального груза.
Найдя столь важное для себя объяснение, я расхрабрился и снова задумался о сокровище. Где и как мне его найти? Подземелье сильно меня разочаровало. Ни сундуков, ни бриллианта. Одни лишь гробы да бочки с голландским джином. Я, за отсутствием других планов, решил повнимательнее приглядеться к гробам, надеясь найти подсказку в какой-нибудь надписи. Но на свинцовых надписей не было, а на тех деревянных, где еще сохранились таблички, текст почти полностью уничтожила ржавчина.
Удрученный и обескураженный, я уже сожалел, что забрался сюда. Надежда на бриллиант испарилась, а общество стольких покойников, собранных на достаточно узком пространстве, навевало тоску и скорбь. Ком подкатывал к горлу при виде древних щитов, захороненных вместе с их почившими владельцами, обрывками знамен, с которыми они некогда воевали. И засохших венков – последнего знака преданности любящих сердец, проявленной столетия назад. Иные из них под воздействием времени и влаги прилипли к крышкам гробов, иные валялись рядом, втоптанные в песок.
Проведя еще какое-то время в бессмысленных поисках, я вынужденно примирил себя с неудачей и уже собрался идти домой, когда часы на башне пробили полночь. Вот уж поистине никогда еще не встречал я времени призраков в столь призрачном месте. Звон мунфлитских колоколов славился на половину графства, и лучше всего из них звучал тот, который отбивал время. Говорят, в прошлые времена (возможно, тогда звонили чаще, чем сейчас) именно голос этого колокола помогал возвратиться целыми и невредимыми кораблям, которые заблудились в тумане. И вот той ночью я выяснил, что звон его, мягкий, глубокий, способен проникнуть даже в глубину склепа. «Бим-бом! Бим-бом!» Двенадцать тяжелых ударов, сотрясших стены. И каждый из них отзывался столь продолжительным эхом, что слух мой улавливал, как оно тянется вплоть до следующего удара.
Слух мой от взбудораженности необычным часом и местом вообще до того обострился, что колокол не успел еще смолкнуть, когда я сквозь гул его различил в зловещем пространстве склепа еще какие-то звуки. Сперва я не понимал, откуда они раздаются и что собой представляют. То мне казались они очень тихими совсем рядом со мной, то громкими, но идущими издалека. Мало-помалу, однако, они обретали четкость переговаривающихся голосов, хотя слов из-за отдаления мне еще было не разобрать, а потом голоса перестали ко мне приближаться. Люди явно остановились. Не больше чем на минуту. Но какой же эта минута была для меня! Даже сейчас, спустя много лет, не забыть мне своего состояния. Глаза едва не выпрыгивали из орбит. Лицо покрылось холодным потом. Весь подобравшись, я вглядывался и вслушивался в даль подземелья, ожидая неминуемой встречи с теми, чьи голоса до меня доносились из тьмы. Именно так себя, вероятно, чувствует кролик, когда в нору к нему запускают хорька и хищный блеск его глаз в темноте заставляет несчастного выскочить наружу, где его уже караулят охотник с ружьем и собака. Я сознавал, что попался, да к тому же мне было известно: столкнувшись с непрошеным свидетелем, контрабандисты чаще всего предпочитают навечно закрыть ему глаза и запечатать уста. Невольно пришла на память история про бедного Крэки Джонса, нашедшего гибель на церковном дворе. Черную Бороду ли он там повстречал, как утверждали люди?
Все это пронеслось у меня в голове за какую-нибудь секунду. Голоса тем временем приближались. Вдали глухо стукнуло, и я понял, что на церковном дворе кто-то спрыгнул в провал. Я еще раз огляделся вокруг в попытке найти путь к бегству. Увы, эти каменные стены и потолок были способны только меня раздавить, а штабеля бочек стояли столь плотно, что за ними не скрылось бы существо больше крысы. До меня уже доносился голос спрыгнувшего на дно провала. Он вел беседу с оставшимися на церковном дворе. Взгляд мой притянуло, словно магнитом, к огромному деревянному гробу. Он стоял одиноко на самой верхней полке футах в шести от пола. Вот он, мой шанс на спасение. Прикинув, что между стеной и гробом пространства достаточно, чтобы вместить мое далеко не крупное тело, я в мгновение ока задул свечу, полез вверх по полкам, второпях с такой силой врезался головой в потолок, что едва не лишился чувств, и, наконец, почти оглушенный, втиснул себя между стеной и гробом, где замер, лежа на боку. От покойника меня отделяла только тонкая сырая доска, а внизу уже мелькали из коридора красные отблески факелов, за которыми я, тяжело дыша и еще не придя в себя окончательно после того, как ударился головой, следил из своего убежища.
Глава IV
В склепе
Давайте пообщаемся со смертью.
Альфред Лорд Теннисон
С того места, где я лежал, в поле моего зрения оставался лишь потолок, однако, не видя вошедших, я отчетливо слышал их разговор и вскорости понял, что один из голосов принадлежит мастеру Рэтси. Я не особенно удивился этому, скорее испытал изрядное облегчение, ибо теперь мог быть вполне уверен: если даже случится худшее и меня обнаружат, здесь находится друг, который мне не откажет в пощаде.
– Ну земля провалилась словно бы по заказу именно нынче ночью, когда мы с вами сюда припожаловали и проруху сразу же обнаружили, – тем временем говорил помощник викария. – Я ведь днем-то на кладбище приходил. Там все еще было в полном ажуре. А ведь, провались оно днем, скверно бы вышло. Любой мог заметить.
В склепе уже находилось человек пять, и я слышал, как из подземного коридора приближаются еще люди, которые, судя по их тяжелой поступи, несут с собой что-то нелегкое. Вскорости склеп наполнился новыми звуками. Похоже, пришедшие доставили новые бочонки со спиртным. Когда их опускали на пол, до меня доносился плеск. Затем их принялись с шорохом передвигать.
– Так и думал, что там у нас вскоре провалится, – снова заговорил Рэтси. – Земля-то вон до чего пересохла. А мы еще, забрамшись внутрь, каждый раз боковой камень вытаскиваем. Ясно, края и ослабли. Но дело-то плевое. Легко исправить. Предоставьте все мне. Пара надгробных камней, несколько лопат земли, и порядок.
– Только будь осторожен, когда займешься, – предупредил совершенно мне незнакомый голос. – Иначе заметят, как ты там возишься, да после нас выследят.
– Успокойся. Я так часто копаю здесь, что с лопатой навряд ли могу кого-то насторожить.
Разговор их на этом заглох, и потом какое-то время никто вообще почти ничего не произносил, лишь слышалось, как внизу люди ходят с места на место, ворочают бочки и переливают спиртное из более мелких в крупные. Воздух в склепе все сильнее насыщался парами бренди, и они, поднимаясь вверх к тому месту, где я лежал, забивали плесневый запах разлагающегося дерева и позеленевших от сырости стен. И до моей головы, возможно, они добрались. Как бы то ни было, меня перестал душить с прежней степенью страх, и я уже мог гораздо спокойнее прислушиваться к происходящему. Хождение взад-вперед подо мной прекратилось. Кто-то сказал:
– Три дня назад был я в Дорчестере. Люди там говорят, что беднягам, которые прошлым летом схлестнулись с «Электором», достанется по полной. На следующей неделе будут судебные слушания. Приедет судья Бэренстайн. К нему в Лондон уже успел смотаться этот старый лис Мэскью, чтобы наускать его заранее. Меры, мол, против контрабандистов в наших местах недостаточные и надобно их укрепить, вздернув для устрашения несколько человек на виселицах.
– Эти двое – жестокая парочка, – подхватил еще один голос. – Теперь как пить дать жди новых виселиц с огнем в Ридждоуне. Но с Мэскью я все равно сквитаюсь. А тот, другой, может сам после повеситься. Или меня повесить.
– Пусть только его дернет дьявол попасться темной порой у меня на пути, – произнес третий голос. – Увидит он тогда ствол моего пистолета, и рожу ему испорчу я основательно.
– Не вздумай, – одернули его басом, по звуку которого я безошибочно определил, что Элзевир тоже здесь. – Никто не имеет права касаться Мэскью, кроме меня. Придет день и час, и я сам с ним расправлюсь. Хорошенько это запомни, дружок.
В течение нескольких следующих минут я ослабил внимание к их беседе, поглощенный собственными проблемами. Тело мое от столь продолжительного лежания в одной позе стало неметь, голова кружилась до тошноты от едкого дыма факелов, которого уже столько скопилось на потолке, что он оседал на меня, хоть и невидимой в темноте, но явственно ощутимой на руках маслянистой копотью. Изловчившись, я наконец сумел почти бесшумно перевернуться на другой бок. Мне стало гораздо легче. Не успел я, однако, как следует насладиться относительно обретенным удобством, как, неожиданно услыхав свое имя, до того сильно вздрогнул, что гроб исторг громкий скрип.
– Этот мальчишка Джон Тренчер-то, – донесся до меня голос, по которому я опознал жившего на краю деревни Пармитера. – Этот мальчишка Джон Тренчер-то, – повторил он. – Ох, не внушает он мне доверия. Вечно болтается гдей-то на кладбище, и много раз я видал, как сидит он на этой могиле и на море таращится. И нынче ночью та же картина. Встали мы, значит, перед закатом, хлопая парусами, в трех милях от берега. Темноты дожидаемся, чтобы начать разгрузку. Я, пока суд да дело, в трубу подзорную глянул на сушу, все ли спокойно. Ну и конечно, снова узрел на могильной плите мистера Тренчарда. Лица я его разглядеть не смог, но по фигуре это был точно он самый. Ой, неспроста он, боюсь, там сидит. Как пить дать вынюхивает, а после Мэскью доносит.
– Ты прав, – сказал Грининг из Рингстейва, и я понял кто это по его манере растягивать слова. – Много раз, в лесу сидючи и наблюдая, дома ли Мэскью, чтобы нам на него не нарваться, когда получаем груз, видел я этого самого мальчишку. Крутился он с хмурым видом возле усадьбы и на дом так таращился, будто бы у него жизнь от Мэскью зависит.
Слова Грининга соответствовали действительности. Летними вечерами я часто выбирал для прогулок тропинку позади помещичьего дома, идущую вверх по Уэзербич-Хилл. Маршрут был приятен сам по себе, а для меня таил добавочное очарование возможностью увидеть Грейс Мэскью. Тропинка меня выводила к переходу через живую изгородь, по ту сторону которой я усаживался на склоне холма, откуда мне виден был спуск в долину и вид на старый полуразрушенный дом, по террасе которого иногда расхаживала под лучами вечернего солнца Грейс в белом платье. Порой я по пути назад проходил достаточно близко от окна ее комнаты и приветственно махал ей рукой. Когда же ее свалила в постель лихорадка и доктор Хокинс по два раза в день приходил наблюдать за ней, я, совершенно не расположенный к занятиям в школе, оставался с утра и до самого вечера на перелазе, глядя на островерхую крышу дома, под которой лежала больная. И мистер Гленни не стал наказывать меня за прогулы и тете моей ничего не сказал. Видимо, как я догадался чуть позже, понял причину, а может, к тому же хорошо помнил себя в моем возрасте. Детская эта любовь была для меня столь важна и серьезна, что когда Грейс оказалась так близко к смерти, я даже набрался дерзости остановить ехавшего на лошади доктора Хокинса и осведомиться о состоянии больной. Все мои чувства, видимо, были написаны у меня на лице, потому что доктор, тут же склонившись ко мне с седла, с улыбкой проговорил, что подруга моя в безопасности и вскорости мы с ней увидимся.
Словом, да, я действительно наблюдал за домом, только вот ни за кем не шпионил, а даже если бы что-нибудь и узнал о планах контрабандистов, никакая награда меня не заставила бы донести об этом старому Мэскью.
– Ложный след, – встал мне на защиту Рэтси. – Мальчишка нормальный. И за душой плохого не держит. Церковный двор для него притягателен по вполне хорошей причине. Отсюда на море славно смотреть, а он очень любит его. Прошлым месяцем-то, как склеп затопило, что мы в него не могли войти, стали мы с Элзевиром слушать на предмет бочек, не колотятся ли и не спала ль еще вода. Только я ухом к земле прилепился, и кто ж, как вы думаете, припожаловал? Он самый, Джон Тренчард-эсквайр. И не подленькой тихой сапой подкрался, словно Король Агаг. Не вынюхивать да шпионить, а сугубо явился по своим делам и причинам. Потому как, когда на воскресной той службе в церковь снизу звуки пошли, он изрядно был озадачен, а потом отец Гленни, коему бы сперва недурно подумать, возьми да и объясни ему, что это, мол, Моуны там в своих гробах плавают да друг о друга стучатся. Вот он и явился в понедельник поинтересантничать, по-прежнему ль там стучит. Ну и застиг, как я дурак дураком на земле валяюсь. Пришлось, спохватимшись, ему объяснить, что произвожу проверку фундамента на предмет нужды в укреплении. Малый поверил и успокоился. Ребенок еще ведь. А я вдобавок для убедительности попросил его принести мне штукатурный молоток. И еще историй ему интересных наплел про Черную Бороду. И, чай, поостережется теперь так часто сюда ходить. Боязно будет встречи ему с полковником. Клянусь чем хотите, с наступлением темноты за церковную ограду не сунется. И никто другой тоже, хоть тысячу фунтов пообещай.
Я слышал, как он усмехнулся себе под нос. Остальные тоже встретили его рассказ громким смехом, когда он рассказывал, как от меня отделался. «Только ведь громче всех смеется тот, кто смеется последним», – подумал я и тоже бы усмехнулся, если бы не опасение, что гроб от этого заскрипит.
– А парень-то этот храбрый, – вдруг произнес Элзевир. – Не прочь бы иметь его своим сыном. Лет он тех же, что Дэвид. Когда-нибудь из него выйдет славный моряк.
Ох, как же обрадовали и удивили меня эти простые слова! Шли они, без сомнения, от души, а мне он, невзирая на всю суровость его, начал последнее время все больше нравиться, да и горю его о сыне я очень сочувствовал. Хотелось выскочить из своего убежища, радостно объявив: «Да вот же я! Здесь!», – но осторожность в последний момент меня удержала, и я оставался по-прежнему неподвижен и нем.
Бочонки больше не двигали. Похоже, компания теперь то ли сидела на них, то ли стояла, облокотившись о штабели. Судя по запаху табака, который примешивался теперь к по-прежнему изводившему меня чаду факелов, я мог заключить, что они отдыхают и курят.
Певун Грининг было даже затянул:
– Сигнальте ожидающим на берег, —
Сказал своей команде капитан…
Но Рэтси сурово пресек его:
– А ну, прекрати! Не по нутру нам сейчас такие слова. Все равно как священник бы объявил заздравный псалом, а ты бы заупокойный запел.
Намек его был мне понятен. В последнем куплете песни таможенник угрожает контрабандистам виселицей. Гринингу, тем не менее, хотелось продолжить, но тут уже воспротивились все остальные, и, встретив столь дружный протест, он наконец умолк.
– Тем, кто как следует потрудился, не грех вкусить от плодов своих, – сказал мастер Рэтси. – Вот и давайте откупорим этот славный бочоночек с голландским джином, пустим его по кругу и оградим себя согревающей влагой от ночной промозглости.
Любил он угоститься стаканчиком доброго спиртного. И почти всегда объяснял такое свое желание необходимостью защитить себя от промозглости, то, в зависимости от времени года, осенней, то зимней, то весенней, то летней.
Кажется, они откуда-то достали стаканы, хотя мне они нигде в склепе на глаза не попадались, и вскоре Рэтси проговорил:
– Ну, возлюбленные мои братья, раз у всех уже налито, надобен тост. Так выпьем же за папашу Черную Бороду, который присматривает за нашим сокровищем куда лучше, чем присматривал за своим. Потому как, если б не страх перед ним, который отваживает отсюда праздные ноги и любопытные глаза, к нам бы уже давно нагрянули налоговики, и на запасы наши уже два десятка раз покусились бы.
Кажется, остальных его тост порядком перепугал. Словно, упомянув Черную Бороду в таком месте, Рэтси мог разбудить своими насмешками дьявола. Склеп объяла напряженная тишина. Но потом кто-то из них, по-видимому наиболее смелый, решился задорно выкрикнуть:
– Черная Борода!
И все, один за другим, подхватили.
– Черная Борода! Черная Борода! – загудел склеп от их возгласов.
– Тихо! – вклинился в их нестройный хор строгий окрик Элзевира. – С ума посходили? Вы не таможня, чтоб так орать и буянить. И не в открытом море находитесь, где одни только волны и слышат. Да от вашего гомона сейчас весь Мунфлит на кроватях подскочит.
– Пустое, дружище, – ответил ему с ехидным смешком Рэтси. – Подскочить-то, может, они и подскочат, однако сюда не сунутся, а с головой улезут под одеяла, и после пойдет молва, что Черная Борода нынче ночью собрал команду почивших Моунов в целях совместного поиска утерянного сокровища.
Но, кроме Рэтси, никто ничего не сказал, и гомон смолк, из чего было ясно, что заправляет тут всем не кто иной, как Элзевир Блок.
– Правильно Элзевир говорит, – проговорил кто-то очень серьезным тоном. – Давайте-ка завершать. Ночь на исходе. А нам в такое безветрие судно придется на веслах от посторонних глаз убирать.
И они ушли. Отсветы факелов их становились слабее и слабее, затем уже только едва помелькивали красным на потолке склепа, шаги мало-помалу затихали в дали коридора, и, наконец, в склепе остались лишь мертвецы да я вместе с ними.
Потом до меня еще долго, мне показалось, чуть ли не половину ночи, доносились сверху далекие звуки их разговора. Полагаю, там обсуждали заделку провала. Опасался, как бы они не пришли сюда снова, а потому своего насеста не покидал, радуясь хоть возможности сесть и расправить затекшие конечности. Впрочем, как вскоре выяснилось, далекие голоса меня до определенной степени ободряли. Словно благая весть из мира живых, не дающая ощутить себя окончательно наедине с непроглядным мраком этой юдоли смерти. Потому что, стоило голосам окончательно смолкнуть, как тишина склепа придавила меня гнетущим ужасом, оставив из всех моих чувств лишь стремление поскорее вернуться в залитую лунным светом спальню, которую я покинул много часов назад. Это был миг, когда жажда сокровища для меня стала ничем по сравнению с жаждой спасти сокровище собственной жизни.
По-прежнему сидя между стеной и длинным гробом, я зажег свечу и полез через него наружу. Выбраться оказалось куда труднее, чем залезть. Гроб, с виду вроде еще вполне прочный, был насквозь изъеден, трухлявая его оболочка жалобно заскрипела под моими коленями и локтями, готовая проломиться. Все-таки я очень медленно и осторожно перебрался через него на внешний край каменной полки, там кое-как примостился и приготовился прыгнуть вниз, но неожиданно потерял равновесие. Свеча отлетела к стене. Уцепившись одной рукою за гроб, я другой подхватил ее, но тут гроб проломился, рука моя провалилась в него, и я ухнул вниз вместе с облаком пыли, щепками и еще чем-то, крепко зажатым у себя в кулаке, по ощущению показавшимся мне либо водорослями, либо погребальной драпировкой, которая здесь валялась повсюду.
Песок на полу уберег меня. Сверзившись кубарем, я лишь немного ушибся, вскорости совершенно пришел в себя, поджег огнивом лучину и принялся раздувать на ней пламя, чтобы найти опять упавшую у меня при падении свечу. Все это время пальцы мои продолжали удерживать какой-то почти невесомый мусор, который я ухватил случайно в гробу. Когда свеча была найдена и загорелась, я посветил на него и увидел не водоросли и не драпировку, а нечто черное, пружинящее, что именно, мне удалось понять не сразу, а когда удалось, то свеча снова едва не выпала из моих дрожащих пальцев. Меня будто ожгло раскаленным железом, и я, кажется, даже вскрикнул, отбрасывая от себя леденящую кровь добычу, а точнее… бороду.
Я испытал удушающий страх. Он проник в мою душу, словно кто-то вцепился разом во все ее струны. В голову лезли престранные мысли, кровь стучала в висках. Подобное состояние испытал я еще однажды в единоборстве с морем, которое едва не поглотило меня. Схватиться за бороду мертвеца, да еще и зная, на чьем лице она произрастала. А я ведь тут же почувствовал, и отчетливо, даже прежде, чем осознал: это была та самая черная борода, которая дала прозвище полковнику Джону Моуну, и большой гроб, за которым мне пришлось прятаться, тоже его.
Иными словами, я там лежал все время щека к щеке с самим Черной Бородой, и отделяла меня от него лишь тонкая оболочка гнилого дерева. Мало того, я проломил рукой его гроб и украл его бороду. А что, как полковник выйдет сейчас из гроба ответить мне на оскорбление? Меня замутило от ужаса. Будь я девушкой или даже взрослой женщиной, наверняка лишился бы чувств, но, так как мальчики этого не умеют, наилучшим выходом из всех возможных мне показалось скорее уйти насколько возможно дальше от Черной Бороды. Едва, однако, ступив в коридор, я вспомнил, как вечером сыграл уже труса и, подгоняемый страхом, унесся отсюда домой. Мне сделалось стыдно от проявленного малодушия, а вдобавок еще пришло в голову, что, собравшись искать сокровище Черной Бороды, я даже не удосужился выяснить, где именно в склепе находится его гроб, и по-прежнему бы оставался в неведении, не приведи меня случай прямо к нему, а мою руку к его бороде. И все вдруг сложилось одно к одному, словно это не цепь случайностей, а подлинный перст провидения направляет меня к тому, что я страстно жаждал найти. Ко мне мало-помалу начала возвращаться храбрость. Я медленно повернул обратно и шаг за шагом, несколько раз останавливаясь, то почти поддаваясь панике, то преодолевая ее, в итоге смог после пары-другой неудачных попыток вернуться в склеп.
Я пошел между штабелями бочек, ожидая и одновременно страшась того мига, когда пламя моей свечи выхватит из темноты эту бороду. Она лежала на песке. Я поднес к ней свечу и опасливо, словно она могла подскочить и впиться в меня зубами, начал ее разглядывать. Это была большая окладистая борода более фута длиной, черная посередине и с проседью по краям. Распасться ей не давала тонкая полоска кожи, очень похожая на основу накладки, которой в качестве дополнения к собственным волосам пользовалась, надевая воскресный чепчик, моя тетя Джейн. Все это я разглядел, не поднимая лежащую передо мной бороду и не трогая, а лишь освещая ее с разных сторон свечой и размышляя о человеке, часть облика которого она составляла.
Повлекло меня возвратиться в склеп смутное ощущение, что, если открылось мне точное место, где захоронен Черная Борода, следом должен открыться тайник с сокровищем. И только разглядывая уже бороду, я понял: путь у меня к нему один. А именно, нужно обыскать гроб. Чем яснее я это осознавал, тем более сильное отвращение меня охватывало. Мне хотелось по мере возможности оттянуть зловещий момент, и я все смотрел и смотрел на бороду, уговаривал себя, что, прежде чем действовать, следует получше ее изучить. Так я просидел неподвижно еще минут десять, пока не заметил, что свеча моя весьма убыла в размерах и хватит ее от силы на полчаса, а кроме того, сообразил, что, по-видимому, рассвет уже близок. И, кое-как справившись с отвращением, я наконец решился пошарить в гробу.
На верхотуру мне больше забираться не пришлось. В падении я нанес гробу весьма ощутимый урон. Крышка у изголовья проломилась, боковой доски больше практически не существовало, и мне достаточно было встать на нижнюю полку, чтобы не только увидеть скорбное его содержимое, но и легко до него дотянуться. Полагаю, у большинства юношей моих лет, да и у многих взрослых мужчин сама мысль о подобных поисках вызвала бы непреодолимую оторопь. Да и сам в толк не возьму, как на такое отважился. Видно, забравшись в склеп Моунов и фут за футом следуя там по тропе леденящего ужаса, успел натерпеться достаточно страхов, и в преддверии завершающего этого шага душа у меня уже далеко не так уходила в пятки, как накануне днем, когда я впервые спустился в подземелье. Кроме того, мне не раз уже приходилось сталкиваться со смертью, и я не имел склонности от нее отворачиваться. Как-никак довелось мне увидеть выброшенные на берег тела после крушения «Дариуса» и других кораблей, да и Рэтси порой просил моей помощи, когда надо было положить в гроб кого-нибудь из бедняг, почивших в своих постелях.
Гроб, как уже говорилось, был очень длинный, и, когда стенка его развалилась, мне стало целиком видно очертание скелета. Именно очертание, ведь кости его прикрывал погребальный саван. Покойника без преувеличения можно было назвать гигантом. Рост его, по моим прикидкам, равнялся семи с половиной футам. В области живота фланелевый саван просел, образовав впадину, выше под ним весьма явственно выступали края грудной клетки, а ниже – бедра и пальцы ног. Голову обхватывали полоски льняной ткани, некогда белые, но теперь в пятнах тлена и сырости. Предпочту умолчать о тех ощущениях, которые охватили меня. Льняная полоска, подвязывавшая подбородок, видимо, порвалась в тот момент, когда я, падая, схватился за бороду, челюсть упала на грудь покойного, однако других разрушений я его телу не причинил, и полковник Моун оставался лежать в своем последнем земном пристанище точно так же, как его туда положили сто лет назад.
Я поднял то, что еще оставалось от крышки, и вытянул руку в намерении начать поиск с дальней от меня стороны. Пламя свечи наконец достаточно ясно выхватило из мрака внутренность гроба. Рука моя замерла. Страх вытеснило предчувствие близкой победы. То, ради чего я проник сюда, находилось прямо перед моими глазами.
На закутанной в саван груди мертвеца лежал медальон. С двух сторон от него уходила за полосы льняной ткани цепочка. Фланелевый саван в том месте, где его сверху прикрывала борода, остался близок к первоначальному своему цвету, и светлое это пятно повторяло ее очертание. Медальон размером и формой походил на монетку достоинством в одну крону, но раза в три толще. И он, и цепочка были, видимо, сделаны из серебра и окислились до черноты. И конечно, едва увидев его, я решил, что внутри спрятан бриллиант.
Меня пронзила огромная жалость к готовой рассыпаться в прах тени этого человека. Вот ведь, принялся размышлять я, каким высоким, красивым джентльменом был полковник Моун. И, без сомнения, к тому же отличным солдатом. Как ни странно, жалости моей не мешало, что он пустил по ветру родовое поместье и опозорил себя предательством короля Карла Первого. Продал честь за камешек, который, как я надеялся, лежит внутри медальона. И еще я надеялся, что мне драгоценность эта принесет куда больше удачи, чем досталось на долю полковника Моуна, и уж по крайней мере не заставит меня свернуть на столь торные дорожки.
Рассуждая подобным образом, я в то же время не отвлекался от главной цели, весьма скоро нашел замок на цепочке, открыл его, вытащил ее из-под савана и потянул на себя медальон. Мне представлялось, внутри при малейшем движении загремит драгоценный камень, но ни малейших звуков не раздалось. «Наверное, бриллиант прилип к металлу либо обернут чем-нибудь мягким», – предположил я. В крышке имелся выступ для ногтя. Защелка и петельки застыли от грязи и окиси. Дыхание у меня участилось, а руки так затряслись, что я какое-то время не мог попасть ногтем в выемку, когда же попал наконец и крышка с трудом поднялась на тугих своих петельках, мне осталось лишь тяжко вздохнуть.
Бриллианта внутри медальона не было. И никакого другого камня – тоже. В нем лежала сложенная в несколько раз бумажка. Я почувствовал себя игроком, который, уже проиграв все свое состояние, поставил на кон последнюю крону и, хоть и с тяжелым сердцем, но еще надеется вопреки обстоятельствам отыграться. Примерно то же происходило со мной. Ставкой моей был теперь сложенный лист бумаги. Если отыщется в нем подсказка, где спрятана драгоценность, то я выйду из-за игрового стола победителем.
Это была хрупкая надежда, и вскоре она рассыпалась. Расправив бумагу и осторожно разгладив складки под светом свечи, я обнаружил лишь несколько строф из псалмов Давида. Листок сильно пожелтел, на месте сгибов образовалась темная сетка. Но текст, написанный хоть и мелким, но аккуратным и четким почерком, был разборчив, и мне удалось без усилий прочесть короткие строки.
Срок нашей жизни семьдесят лет
Или восемьдесят у самых крепких.
Но сколько нам ни отпущено,
Поглотят их труды и заботы,
Коих полны, подойдем к последнему вздоху.
Псалом 90:21
Что до меня, шагов уж не чую своих,
Земля из-под ног уходит.
Псалом 73:6
Не дай поглотить меня наводнению,
Но избавь от гибели в темной глубине.
Псалом 69:11
И так, идя по долине уныния,
Буду использовать ее как колодец,
Доколе пруды водой не заполнятся.
Псалом 84:14
И когда сотворил Ты север и юг,
Фавр и Ермон возрадовались имени Твоему.
Псалом 89:6
Так вот и был положен конец великим моим надеждам. Мне оставалось покинуть склеп не более обеспеченным, чем я явился туда. Псалмы Давида мне не указывали пути к тайнику. При иных обстоятельствах меня, возможно, посетили бы догадки о тайнописи или шифре, но после рассказа мистера Гленни о том, как после многих лет грешной жизни полковник пытался завершить ее праведно и пожелал исповедоваться священнику, и медальон со старательно написанными благочестивыми словами на шее покойного мне показался еще одним признаком покаяния и, возможно, надеждой уберечь свое тело от злых духов.
Разочарованный и раздосадованный неудачей, я все же перед уходом счел своим долгом поднять с пола бороду. И хотя, стоило мне коснуться ее, по моему телу пробежала дрожь, заставил себя донести ее до покойного, и она вернулась на его грудь. Следом я попытался приставить к гробу отломанные фрагменты, но они тут же снова отваливались, и я оставил свои старания в надежде, что те, кто придет сюда после меня, сочтут разрушения следствием тлена и долгих лет. С медальоном мне расставаться не захотелось. Он был красивый и необычный, и я, застегнув на шее цепочку, заправил его под рубашку, подумав к тому же, что если слова, в нем спрятанные, оберегали Черную Бороду от злых духов, то и меня оберегут от Черной Бороды.
Свеча дотаяла уже до столь маленького огарка, что держать в руке я его не мог и вынужден был прилепить к кусочку дерева, на котором и нес, когда наконец пустился по коридору к выходу. Увы, вскорости меня ожидал неприятный сюрприз. Думая, что покину владения Черной Бороды так же просто, как в них проник, я просчитался. Дыры наружу больше не существовало.
Теперь мне сделалось ясно, почему голоса контрабандистов так долго не утихали в конце подземелья. Рэтси, верный своему обещанию, приступил к заделке провала и справился со своей задачей еще прежде, чем вся компания убралась восвояси. Неожиданное препятствие я воспринял сперва достаточно легкомысленно. Мне показалось, справиться со скороспелой этой заделкой особенного труда не представит. Приглядевшись, однако, внимательнее, я утратил уверенность в своих силах. Они накрыли боковую часть саркофага тяжеленной каменной плитой, сверху насыпали землю, а поверх водрузили еще одну плиту. Плиты были из сланца, и я знал, откуда они взялись. С дюжину их, служивших когда-то кровлей, лежало у северной стены церкви. Ни одну из них иначе как вчетвером не перенести. Все же еще надеясь, что, подкопав землю, сумею подвинуть ту, которой они прикрыли провал сбоку надгробия, я задумался, как лучше к этому приступить, но, пока размышлял, фитиль окончательно догоревшей свечи завалился набок, и меня объяла тьма.
Положение мое стало отчаянным. Лишившись источника света, я лишился возможности и копать. Как это сделаешь, если ни зги не видно? А темнота подземелья куда непрогляднее и гуще, чем на улице даже в безлунные ночи. Там хоть что-нибудь видишь, а здесь – ничего, хоть до боли глаза напрягай. Не падая духом, я устроился поудобнее и стал дожидаться рассвета. Он явно уже приближался, а с ним сквозь щели гробницы должно было проникнуть хоть сколько-то света, который поможет мне справиться со своей задачей. Трудная ситуация даже не вызывала во мне особого страха. После ночи, когда я сперва только чудом не попался контрабандистам, которые могли обвинить меня в шпионаже, и леденящего ужаса перед злыми потусторонними силами, который объял меня, когда я обшаривал гроб Черной Бороды, посидеть часок в темноте мне казалось совершеннейшей ерундой.
На полу коридора, хоть и сыром, но мягком, мне было вполне удобно. Я устал от пережитого, да к тому же не привык проводить ночь без сна, поэтому, едва вытянувшись, моментально заснул. Коротко или долго длился мой сон, определить мне при пробуждении было не по чему. Меня по-прежнему окружала тьма. Я встал, потянулся. Ни отдохнувшим, ни бодрым себя я не чувствовал. Руки и ноги болели, будто их кто-то измолотил кулаками. Немного придя в себя, я заметил, что тьма стала какой-то другой, не столь непроглядной. Я глянул вверх. Оттуда, где надо мной находилась могила, тоненькой полосой пробивался сквозь стык между двумя камнями свет. Солнце, значит, уже взошло. Но камни оказались положены один к другому гораздо плотнее, чем мне было нужно, чтобы их раздвинуть, а разглядеть, каково положение в прочих местах, я по-прежнему не мог и, утомившись стоять, снова улегся на пол. Полоска света оставалась в поле моего зрения, и чем дольше я на нее глядел, тем сильнее меня охватывало замешательство. Свет шел с юго-западной стороны саркофага. Значит, она-то и находилась под солнцем. Это я мог понять по яркости световой полоски, даже не выбираясь наверх. И вывод напрашивался лишь один: солнце уже на закате и скоро зайдет.
Поняв, что проспал весь день и солнце садится в преддверии новой ночи, я почувствовал себя так, будто мне преподнесли еще один неприятный сюрприз. Впрочем, ни день, ни ночь для меня в этом ужасном месте ситуации не меняли. Света не было. И хоть глаза мои попривыкли уже немножечко к окружавшему меня мраку, мне по-прежнему не удавалось разглядеть, в какой части саркофага подкапываться, чтобы вылезти. Я извлек из кармана огниво, чтобы поджечь лучину. Вдруг, пока она не погаснет, удастся хоть на мгновение сориентироваться и, увидев нужное место, затем уж вести работу вслепую. Здесь меня подстерегла новая незадача. Жестяная коробочка с трутом каким-то образом раскрылась, и все ее содержимое высыпалось мне в карман. Я собрал его, но, видимо, от сырого пола трут успел набрать влагу и не воспламенялся, сколько ни выбивал я кресалом из кремня бесполезных искр.
Тут-то я в полной мере и осознал опасность своего положения. Последняя надежда добиться хоть мимолетного света рухнула, да я к тому же изрядно теперь сомневался, смог ли бы даже при свете сдвинуть с места эту огромную плиту. В довершение ко всему я целых двадцать четыре часа ничего не ел, и голод все больше давал мне о себе знать. Хуже того, меня изводила столь сильная жажда, что пересохло в горле, а утолить ее было нечем. И я понимал, что чем больше времени еще здесь проведу, тем меньше у меня шансов остаться живым.
Я принялся шарить по стенам саркофага, нащупал край нижней плиты и начал скрести под ним землю. Накануне она казалась мне рыхлой и легкой, но теперь под моими пальцами была плотна и тверда, и усилия мои проходили почти впустую. За час работы я практически не продвинулся к цели, лишь выбился из сил да обкарябал пальцы.
Дав себе отдых, я уселся на пол и тут увидел, что еще недавно золотившаяся ниточка света потускнела. Подкрадывалась новая ночь, а у меня иссяк запас сил и отваги провести ее так же, как предыдущую. Придавленный жаждой, голодом и усталостью, я лег лицом вниз, чтобы не видеть, как окончательно сгущается тьма, и в приступе малодушия застонал. Так я провалялся достаточно долгое время, после чего, взвившись на ноги, начал изо всех сил вопить, надеясь быть кем-то услышан снаружи и временами моля о спасении персонально Рэтси и Элзевира. Никто на мои призывы о помощи не откликнулся. Лишь эхо моего голоса отвечало мне издали, со стороны склепа Моунов. В полном отчаянии я возвратился к толще земли под плитой и продолжил ее расковыривать до тех пор, пока ногти мои не обломались, из пальцев стала сочиться кровь, а голову, как канатом, сдавило сознание, что усилия мои тщетны и тяжеленную каменную плиту мне не сдвинуть.
Несколько следующих часов своих в подземелье описывать не берусь. В том состоянии безнадежности, которое поглотило меня, я лишь запомнил, что временами на помощь мне приходила спасительная дремота.
Наконец я по снова возникшему проблеску света над головой смог понять, что солнце вновь встало. Жажда уже сводила меня с ума. Я с вожделением вспомнил о штабелях бочек в склепе Моунов. И наплевать мне было, что там спиртное, только бы жидкость. Кажется, я в тот момент и расплавленным бы свинцом соблазнился. Страх перед непроглядной тьмой, Черная Борода, – все отступило под властью неумолимой жажды. Ощупью продвигаясь по коридору, я добрался до склепа с одной только мыслью припасть скорее губами к какой-нибудь влаге. Руки мои заскользили по бочкам. На одной из них, ближе к верху одного штабеля, нашлась затычка. Я стремительно ее выдернул и подставил рот под струю.
Насколько крепкий напиток достался мне, уж не знаю. Могу лишь сказать, что обжег он меня куда меньше, чем пламя в собственном горле. Сделав несколько крупных глотков, я повернулся в сторону коридора, но выход туда перестал нащупываться. Я зашарил по стенам склепа. Меня закружило. В голове помутилось. И я без чувств рухнул на пол.
Глава V
Спасение
Теней усопших слышу голоса,
Звучащие в ночном дыханье вихря.
Лорд Байрон
Очнулся я не в кромешной тьме склепа Моунов и не на его песчаном полу, а на кровати, застланной пахнущим свежестью чистым бельем, в маленькой выкрашенной белилами комнате, сквозь окно которой струился солнечный по-весеннему свет. О, божественное сияние солнца! В тот момент оно мне показалось лучшим из всех Господних даров. Не очень соображая сперва, я счел и постель, и комнату своими собственными, дома у тети, а склеп и контрабандистов видениями ночного кошмара, но при попытке встать меня снова откинуло на подушку от слабости и болезненной вялости во всем теле. Таких пробуждений я прежде ни разу еще не испытывал. Кроме того, валясь на подушки, я ощутил, как что-то проехалось по моей шее, стукнуло по груди, и секунду спустя рука моя нащупала и поднесла к глазам почерневший медальон полковника Моуна. Следовать мог из этого лишь единственный вывод: мои приключения далеко не сон и как минимум часть их случилась со мной в действительности.
Дверь комнаты отворилась. Подхваченный воспаленным сознанием, я будто вновь перенесся в склеп, ибо увидел вошедшего Элзевира Блока.
– О, Элзевир! – Простер я в мольбе к нему руки. – Спасите! Спасите меня! Я пришел не шпионить!
Он ответил мне добрым взглядом и, положив ладони на мои плечи, легонько откинул меня опять на подушку.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69622618) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
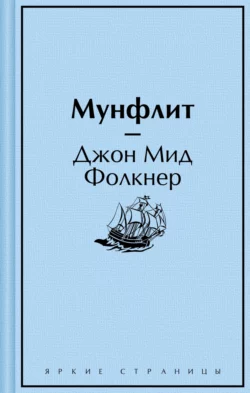
Джон Мид Фолкнер
Тип: электронная книга
Жанр: Литература 19 века
Язык: на русском языке
Издательство: Эксмо
Дата публикации: 08.11.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: «Мунфлит» Джона Фолкнера – это лихая повесть о дорсетских контрабандистах восемнадцатого века.