Рассказы о привидениях
Монтегю Родс Джеймс
Азбука-классика
«Рассказы о привидениях» («ghost stories») – литературный жанр, известный с древнейших времен. Истории о призраках можно найти в книгах античных писателей, в устных народных сказаниях и даже в свитках Древнего Египта. Вполне вероятно, что существование привидений смущало и увлекало человека во времена, когда письменность еще не была изобретена. Английский писатель и историк Монтегю Родс Джеймс посвятил этому жанру все свои художественные произведения, став крупнейшим мастером «рассказов о привидениях». Его творчеством восхищались Говард Филлипс Лавкрафт, Кларк Эштон Смит, Хорхе Луис Борхес и Стивен Кинг. Многие его рассказы были экранизированы, а имя автора неизменно появляется во всех списках наиболее значимых писателей, творивших в жанре мистики.
В настоящее издание вошли избранные рассказы о привидениях М. Р. Джеймса, каждый из которых представляет собой безусловный шедевр малой прозы.
Монтегю Родс Джеймс
Рассказы о привидениях
Montague Rhodes JAMES
1862–1936
© С. А. Антонов, перевод, комментарии, 2021, 2023
© Л. Ю. Брилова, перевод, 2021, 2023
© Н. Я. Дьяконова (наследник), перевод, 2023
© А. А. Липинская, перевод, 2021
© Е. В. Матвеева, перевод, 2023
© Н. Ф. Роговская, перевод, 2023
© В. А. Харитонов (наследники), перевод, 2023
© Издание на русском языке, составление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука
Альбом каноника Альберика
Сен-Бертран-де-Комменж – захудалое селение на отрогах Пиреней, недалеко от Тулузы и в двух шагах от Баньер-де-Люшон. До революции там располагался епископский престол; имеется собор, который посещает немало туристов. Весной 1883 года в этот старомодный уголок (не насчитывающий и тысячи жителей, он едва ли заслуживает названия «город») прибыл один англичанин, выбравшийся в Сен-Бертран-де-Комменж специально, чтобы посетить церковь Святого Бертрана. Он был из Кембриджа, гостил в Тулузе, где оставил в гостинице под обещание на следующее утро к нему присоединиться двоих друзей, не таких страстных археологов, как он сам. Им на осмотр церкви было достаточно получаса, а потом все трое собирались двинуться дальше, в направлении Оша. Но наш англичанин приехал в день, о котором идет речь, с утра пораньше и обещал себе подробно описать и сфотографировать каждый уголок этой чудесной церкви на вершине холма Комменж, для чего были приготовлены новая записная книжка и несколько дюжин фотопластинок. Чтобы исполнить это намерение со всей добросовестностью, англичанину нужно было на весь день заручиться помощью церковного служителя. За ним (предпочитаю именовать его причетником, пусть это и неточно), соответственно, послали, о чем распорядилась довольно бесцеремонная дама, хозяйка гостиницы «Шапо Руж», и, когда он пришел, англичанин совершенно неожиданно открыл в нем интересный объект для изучения. Любопытство вызывала не наружность причетника (таких маленьких сухоньких старичков во французских церквах полным-полно), а на удивление уклончивая манера держаться вкупе с настороженным взглядом. Он постоянно оборачивался, дергал шеей и нервно сутулился, словно боялся, что кто-то нападет на него сзади. Англичанин не знал, к какому типу людей его отнести: к тем, кого преследует наваждение, мучает совесть или угнетает злая жена. Последняя идея представлялась в итоге наиболее вероятной, и все же трудно было вообразить себе мегеру, способную поселить в человеке такую панику.
Как бы то ни было, англичанин (назовем его Деннистон) вскоре с головой ушел в свои записи и фотографии и перестал обращать внимание на причетника. Бросая в сторону причетника случайный взгляд, Деннистон каждый раз заставал его либо жмущимся к стене, либо сидящим в согбенной позе на одной из роскошных алтарных скамей. Через некоторое время Деннистон почувствовал неловкость. В голову полезли подозрения: что он задерживает старика, которому пора на dеjeuner[1 - Обед (фр.).], что его считают способным сбежать с вырезанным из слоновой кости посохом святого Бертрана или с пыльным чучелом крокодила, которое висело над купелью.
– Может, вам хочется домой? – спросил он наконец. – Мне больше не потребуется помощник; если желаете, можете меня запереть. Работы осталось еще часа на два, а вы, кажется, озябли.
– Боже упаси! – воскликнул старичок, которого это предложение почему-то повергло в неописуемый ужас. – Такое просто немыслимо! Оставить месье в церкви одного? Нет-нет, мне все равно, я посижу и два часа, и три. Позавтракал я плотно, одет тепло; спасибо месье за заботу.
«Ну дружочек, – подумал Деннистон, – сам напросился. Я предупреждал».
К исходу второго часа все – и алтарные скамьи, и громадный ветхий орган, и алтарная преграда епископа Жана де Молеона, и остатки витражей и шпалер, и содержимое сокровищницы – было самым тщательным образом изучено; причетник меж тем ходил за Деннистоном по пятам и при каждом шорохе, каковые неизбежны в обширных пустых помещениях, дергался, как укушенный. А шорохи порой случались странного свойства.
«Однажды, – рассказывал мне Деннистон, – на самом верху башни отчетливо послышался тонкий, звонкий, как металл, смешок. Я бросил испытующий взгляд на причетника. Он побелел как полотно. „Это он… то есть… никого нет; дверь заперта“, – выдавил он из себя, и мы добрую минуту не сводили друг с друга глаз».
И еще один случай заставил Деннистона задуматься. Он изучал большую темную картину, что висит за алтарем, – одну из серии, живописующей чудеса святого Бертрана. Композиция картины почти неразличима, но снизу имеется латинская надпись, гласящая:
Qualiter S. Bertrandus liberavit hominem quem diabolus diu volebat strangulare.
(Как святой Бертран спас человека, которого дьявол замыслил задушить.)
Деннистон с улыбкой повернулся, готовясь пошутить, но растерялся: старик стоял на коленях и созерцал картину с отчаянной мольбой в глазах, ладони его были стиснуты, по щекам потоком текли слезы. Деннистон, разумеется, сделал вид, будто ничего не заметил, однако не мог не задаться вопросом: «Как могла эта мазня так сильно кого-то поразить?» Деннистону показалось, что он догадывается, почему причетник весь день выглядел так странно: церковнослужитель – одержимый, вот только в чем заключается его одержимость?
Время близилось к пяти, короткий день заканчивался, и церковь стала наполняться тенями; притом непонятные шумы – приглушенные шаги и отдаленные голоса, не умолкавшие весь день, – начали повторяться чаще и отчетливей; объяснение, несомненно, заключалось в том, что в полутьме обостряется восприятие звуков.
Впервые причетник выказал признаки спешки и нетерпения. Когда фотоаппарат и записная книжка были наконец отложены в сторону, он со вздохом облегчения указал Деннистону на западный портал церкви, располагавшийся под башней. Настало время звонить «Ангелюс». Несколько рывков непослушной веревки – и большой колокол Бертрана заговорил на вершине башни, и его голос, взлетая к сосновому лесу и спускаясь в долины, перекликаясь с горными ручьями, призвал обитателей одиноких холмов вспомнить и повторить приветствие, которое ангелы обращают к Той, Которую зовут «благословенной между женами». Казалось, впервые за этот день на городок опустилось глубокое спокойствие, и Деннистон с причетником вышли за порог.
У дверей они разговорились.
– Месье вроде бы интересовался старыми церковными книгами из ризницы?
– Именно. Я собирался вас спросить, нет ли в селении библиотеки.
– Нет, месье; то есть раньше, наверно, была и принадлежала капитулу, но нынче народу здесь живет так мало… – Последовала странная нерешительная пауза, а потом причетник, словно набравшись храбрости, продолжил: – Но раз месье – amateur des vieux livres[2 - Любитель старинных книг (фр.).], у меня дома для вас кое-что нашлось бы. Это в какой-то сотне ярдов.
Мгновенно в голове у Деннистона вспыхнули давно лелеемые мечты о том, как ему попадаются где-то в нехоженом уголке Франции бесценные манускрипты, – вспыхнули и тут же погасли. Какой-нибудь обычный миссал года приблизительно 1580-го, от Плантена – вот о чем, вероятно, шла речь. Вряд ли в такой близости от Тулузы сохранился хоть один уголок, не обысканный коллекционерами. Но в любом случае было бы глупо не пойти; а то потом замучаешь себя упреками. И они отправились. В пути он вспомнил о непонятном поведении причетника – его колебаниях и внезапной решимости – и, пересилив неловкость, задал себе вопрос: что, если его спутник замыслил заманить богатого англичанина в ловушку и покончить с ним? И он, затеяв с причетником разговор, стал довольно неуклюже намекать на то, что завтра утром к нему приедут двое друзей. Как ни странно, это известие явно освободило причетника от снедавшей его тревоги.
– Хорошо, – промолвил он чуть ли не с радостью, – это очень хорошо. Месье встретится с двумя друзьями, они все время будут рядом. Путешествовать в компании – это самое лучшее… иногда.
Последнее слово бедняга добавил чуть погодя и после снова впал в грустную задумчивость.
Вскоре показался дом причетника: больше соседских, каменный, с резным гербом над дверью, а именно гербом Альберика де Молеона, потомка по боковой линии (как говорит мне Деннистон) епископа Жана де Молеона. Указанный Альберик служил каноником Комменжа с 1680 по 1701 год. Верхние окна были заколочены, и на всей усадьбе, как и на остальном Комменже, лежала печать упадка и запустения.
У дверей причетник немного помедлил.
– Но может быть, – проговорил он, – у месье все же нет времени?
– Да нет же… времени полно… до завтрашнего дня я совершенно свободен. Давайте посмотрим, чем вы располагаете.
Тут дверь открылась, и в проеме показалось лицо – молодое, в отличие от лица причетника, но тоже отмеченное заботой; только это был не страх за себя, а забота о благополучии другого человека. Очевидно, передо мной стояла дочь причетника, и, если оставить в стороне выражение лица, ее можно было назвать красавицей. Увидев при отце физически крепкого провожатого-иностранца, она заметно приободрилась. Между отцом и дочерью состоялся краткий разговор, из которого Деннистон разобрал лишь реплику причетника «он смеялся в церкви», на что девушка ответила взглядом, исполненным ужаса.
Но в следующую минуту они оказались в гостиной – небольшой комнате с высоким потолком и каменным полом; в огромном камине пылали дрова, по стенам бегали отсветы. Высокое, едва ли не до потолка, распятие на стене делало комнату похожей на молельню; тело Спасителя было раскрашено в натуральные тона, крест был черный. Под ним стоял сундук, довольно старый и основательный, и, когда в комнату внесли лампу и расставили стулья, причетник, все больше волнуясь, извлек из него, как показалось Деннистону, большую книгу, которая была завернута в белую ткань с примитивной красной вышивкой в виде креста. Еще в обертке книга заинтересовала Деннистона своим размером и формой. «Для миссала слишком велика, – подумал он, – а для антифонария не та форма. Может, все же это окажется что-то недурное». Тут причетник открыл книгу, и Деннистону стало ясно, что перед ним наконец находка не просто недурная, а поистине превосходная. Это было большое фолио, переплетенное, вероятно, в конце семнадцатого века, с тисненными золотом гербами каноника Альберика де Молеона по обеим сторонам. Количество листов приближалось, наверное, к ста пятидесяти, и к каждому была прикреплена страница иллюминированного манускрипта. Подобная коллекция не грезилась Деннистону даже в самых смелых мечтах. Десять страниц из Евангелия с картинками относились году к семисотому, не позднее. Имелся полный комплект миниатюр из Псалтири наитончайшей английской работы тринадцатого века, а кроме того, то, что, пожалуй, было лучше всего: два десятка страниц латыни унциального письма, в которых Деннистон, судя по нескольким разрозненным словам, сразу опознал какой-то неизвестный и очень ранний патристический трактат. Не был ли это фрагмент «Изречений Господних» Папия – трактата, о котором известно, что в последний раз его видели в двенадцатом веке в Ниме?[3 - Теперь нам точно известно, что эти листы содержали значительный фрагмент, если не весь труд целиком.] Как бы то ни было, решение созрело сразу: Деннистон должен вернуться в Кембридж с этой книгой, пусть даже для этого придется забрать из банка всю наличность и сидеть в Сен-Бертране, пока не прибудет новая. Он поднял глаза на причетника, ища в его лице намек на готовность продать книгу. Причетник был бледен и жевал губами.
– Не желает ли месье досмотреть до конца? – предложил он.
Месье принялся листать дальше, постоянно обнаруживая новые и новые сокровища, и в конце наткнулся на два бумажных листа, значительно более поздних, чем все остальное, которые изрядно его удивили. Они относились, как он решил, ко времени самого нечистого на руку каноника Альберика, чей бесценный альбом, несомненно, был составлен из награбленного в библиотеке капитула Святого Бертрана. На первом листе был аккуратно начерченный план, на котором человек осведомленный тотчас узнал бы неф и клуатр здешнего собора. Имелись странные значки, похожие на символы планет, и в уголках – несколько древнееврейских слов; в северо-западном углу клуатра был проставлен золотой краской крестик. Под планом стояла латинская надпись в несколько строчек:
Responsa 12
Dec. 1694.
Interrogatum est: Inveniamne? Responsum est: Invenies.
Fiamne dives? Fies.
Vivamne invidendus? Vives.
Moriarne in lecto meo? Ita.
(Ответы от 12 декабря 1694 года.
Спрошено: Найду ли я его? Ответ: Найдешь.
Сделаюсь ли я богачом? Сделаешься.
Станут ли мне завидовать? Станут.
Умру ли я в своей постели? Умрешь.)
«Записки кладоискателя, типичный образчик. Напомнило младшего каноника Куотермейна из „Старого собора Святого Павла“», – прокомментировал про себя Деннистон и перевернул страницу.
То, что он увидел далее, как неоднократно говорил мне Деннистон, поразило его так, как не могли бы поразить ни одна другая картина или рисунок. И хотя указанное изображение более не существует, осталась его фотография (она у меня), которая полностью подтверждает эти слова. Оно было выполнено сепией, относилось к концу семнадцатого века и представляло, как казалось на первый взгляд, библейскую сцену: архитектура (на картине был запечатлен интерьер) и фигуры были выполнены в полуклассической манере, какую художники два века назад считали уместной при иллюстрировании Библии. Справа сидел на троне царь; возвышение в двенадцать ступенек, балдахин сверху, львы по сторонам – все свидетельствовало о том, что это царь Соломон. Он клонился вперед в повелительной позе и простирал скипетр: на лице отражались ужас и отвращение, но проглядывали также сила, мощь и властная уверенность. Однако самое поразительное заключалось в левой части картины. Именно она приковывала к себе основное внимание. На мощеном полу перед троном четверо солдат окружали согнутую фигуру, которую я скоро опишу. Пятый солдат лежал на плитах со свернутой шеей, глаза его вылезали из орбит. Четверо остальных глядели на царя. На их лицах была написана паника; похоже, от бегства их удерживало только безоговорочное доверие к повелителю. Причиной переполоха служило, очевидно, скорчившееся существо в середине круга. Я совершенно бессилен описать словами, какое впечатление оно производит на зрителя. Помню, однажды я показал эту фотографию одному преподавателю морфологии – человеку, я бы сказал, до ненормальности здравомыслящему и напрочь лишенному воображения. Он настоял на том, чтобы провести остаток этого вечера не в одиночестве, и, как я узнал от него впоследствии, еще много-много ночей боялся тушить свет перед отходом ко сну. Однако я могу по крайней мере обозначить главные черты этого персонажа. Первое, что видишь, – это путаница жестких черных волос; далее проступает тело – пугающе тощее, похожее на скелет, но в узлах мышц. Тускло-бледные руки, тоже поросшие длинным грубым волосом, заканчиваются чудовищными когтями. Горящие желтым огнем глаза с густо-черными зрачками глядят на сидящего на троне царя со звериной ненавистью. Представьте себе южноамериканского паука-птицееда, принявшего человеческий облик и наделенного едва ли не человеческим умом, – и вы получите отдаленное представление о том, какой ужас внушало это мерзкое создание. Все, кому я показывал картину, говорили в один голос: «Это написано с натуры».
Едва оправившись от приступа страха, Деннистон украдкой взглянул на хозяина дома. Причетник прикрывал глаза руками: его дочь, глядя на распятие на стене, лихорадочно читала молитвы.
Наконец прозвучал вопрос:
– Эта книга продается?
Вслед за прежними эмоциями – замешательством и затем решимостью – прозвучал благоприятный ответ:
– Если угодно месье.
– Сколько вы за нее возьмете?
– Двести пятьдесят франков.
Деннистон растерялся. Даже у коллекционеров временами просыпается совесть, а совесть Деннистона была чувствительней, чем коллекционерская.
– Дружище! – вновь и вновь повторял он. – Ваша книга стоит больше чем двести пятьдесят франков. Уверяю вас, гораздо больше!
Но ответ оставался прежним:
– Я возьму двести пятьдесят франков, и ни франком больше.
Отказаться от такой удачи было бы немыслимо Деньги были уплачены, расписка выдана, сделка обмыта стаканчиком вина, и причетник превратился в другого человека. Он выпрямил спину, перестал беспокойно оглядываться, он даже засмеялся – или сделал попытку. Деннистон приготовился уйти.
– Не позволит ли мне месье проводить его до гостиницы? – спросил причетник.
– Нет, спасибо. Это всего в сотне ярдов. Дорога мне хорошо известна, к тому же светит луна.
Причетник повторил свое предложение, наверное, трижды или четырежды – и неизменно получал отказ.
– Тогда пусть месье меня позовет, если… если понадобится. Лучше держаться середины дороги, обочины такие ухабистые.
– Конечно-конечно, – кивнул Деннистон, изнывая от нетерпеливого желания в одиночестве изучить свою драгоценную добычу. С книгой под мышкой он вышел в коридор.
Здесь он наткнулся на дочь причетника, которая, решил он, замыслила свой небольшой бизнес: подобно Гиезию, «добрать» с иностранца то, что недобрал ее отец.
– Серебряное распятие на цепочке – повесить на шею. Месье ведь не откажется его принять?
По правде, Деннистон не видел особой нужды в этих предметах. И сколько мадемуазель за них хочет?
– Нисколько… совсем нисколько. Месье очень обяжет меня, если возьмет.
Сказано это было настолько искренне, что Деннистон рассыпался в благодарностях и подставил шею. В самом деле, можно было подумать, что он оказал отцу и дочери милость, за которую они не знали, как отплатить. Стоя в дверях, они провожали его взглядом, пока он не махнул им на прощание рукой со ступеней «Шапо Руж».
После ужина Деннистон уединился в спальне со своим приобретением. Когда он рассказал хозяйке, что заходил к причетнику и купил у него старую книгу, она начала проявлять к нему особый интерес. Также ему почудилось, будто он слышит мимолетный разговор хозяйки и этого самого причетника, состоявшийся в коридоре у salle ? manger[4 - Столовой (фр.).] и завершившийся фразой: «Пусть в доме ночуют Пьер с Бертраном».
Все это время в нем нарастало какое-то беспокойство – вероятно, нервная реакция после восторгов от находки. Оно свелось к стойкому ощущению, что позади него кто-то есть и лучше будет прислониться спиной к стене. Всеми этими мелочами, однако, можно было пренебречь, памятуя о ценности собрания, которое он приобрел. И вот, как уже сказано, Деннистон уединился в спальне с коллекцией каноника Альберика, в которой обнаруживал все новые и новые жемчужины.
– Благословенный каноник Альберик! – произнес Деннистон, усвоивший привычку разговаривать с самим собою вслух. – Знать бы, где он нынче? Бог мой! Ну и смех у хозяйки – можно подумать, в доме кто-то умер. Еще полтрубки, говоришь? Думаю, ты прав. Интересно, что за распятие навязала мне та девушка? Полагаю, прошлое столетие. Да, скорее всего. Тяжелое слишком – давит шею. Похоже, ее отец носил его не один год. Нужно будет его почистить, прежде чем спрячу.
Сняв распятие и положив на стол, он заметил, что на красной скатерти у его левого локтя что-то лежит. В голове у Деннистона стремительно промелькнуло несколько предположений:
«Перочистка? Нет, их нет в доме. Крыса? Нет, слишком черное. Большой паук? Боже упаси – нет. О господи! Да это рука, такая же, как на картинке!»
Осознание заняло миг-другой. Бледная тусклая кожа, а под ней ничего, кроме костей и поражающих своей мощью жил; жесткий черный волос, какого не бывает на человеческих руках; на пальцах – острые загнутые когти, грубые и корявые.
Охваченный смертельным, неисповедимым ужасом, Деннистон вскочил на ноги. Фантом, опиравшийся левой рукой о стол, стоял позади, его согнутая правая рука нависала над головой ученого. Он был закутан в какое-то изодранное одеяние; грубый волосяной покров живо напоминал изображение на картине. Нижняя челюсть укороченная, я бы сказал, ужатая, как у зверя; за черными губами видны зубы; носа нет; глаза огненно-желтые, зрачок на их фоне совсем смоляной; сверкавшая в них кровожадная ярость пугала в этом видении больше всего. Притом в них проглядывал и некоторый ум – выше звериного, но ниже человеческого.
Жуткое зрелище вытеснило из чувств Деннистона все, кроме необузданного страха, из разума – все, кроме безграничного отвращения. Что он сделал? И что он мог сделать? Он до сих пор не помнит, какие произнес слова, знает только, что заговорил, что наугад схватил со стола серебряное распятие, что, заметив, как демон к нему тянется, взвыл, точно раненое животное.
Двое коротконогих слуг-крепышей, Пьер и Бертран, в тот же миг ворвавшиеся в комнату, ничего не видели, но ощутили, как кто-то растолкал их в разные стороны, устремившись к порогу. Деннистона они нашли в глубоком обмороке. Они просидели с ним всю ночь, а к девяти утра в Сен-Бертран прибыли двое друзей Деннистона. К тому времени он почти пришел в себя, хотя все еще немного дергался, и поведал историю, которой они поверили лишь после того, как рассмотрели изображение и поговорили с причетником.
Тот под каким-то предлогом явился в гостиницу едва ли не на рассвете и с глубоким интересом выслушал рассказ хозяйки. Услышанное, похоже, его не удивило.
– Это он… он самый. Я и сам его видел, – только и произнес старик и на все вопросы отвечал единственной фразой: – Deux fois je l’ai vu; mille fois je l’ai senti[5 - Два раза я его видел, а ощущал тысячу раз (фр.).]. – О происхождении книги, как и о подробностях своих приключений, он поведать не захотел. – Скоро я засну, и сон мой будет сладок. Зачем вы меня тревожите? – повторял он[6 - Он умер этим летом; дочь вышла замуж и обосновалась в Сен-Папуле. Она никогда не знала в подробностях об «одержимости» отца.].
Что пережил он и что пережил каноник Альберик де Молеон, навсегда останется для нас тайной. Но некоторый свет на эту историю прольют, надо полагать, несколько строчек, начертанных на обороте рисунка:
Contradictio Salomonis cum demonio nocturno
Albericus de Mauleone delineavit.
V. Deus in adiutorium. Ps. Qui habitat.
Sancte Bertrande, demoniorum effugator, intercede pro me miserrimo.
Primum uidi nocte 12
Dec. 1694: uidebo moxultimum. Peccaui et passus sum, plura adhucpassurus. Dec. 29, 1701[7 - Т. е. Спор Соломона с демоном ночи. Зарисовано Альбериком де Молеоном. Ектенья. Боже мой! поспеши на помощь мне. Псалом Живущий (91).Святой Бертран, кто обращает в бегство дьявола, молись за меня, несчастного. Впервые я видел это ночью 12 декабря 1694 года; скоро увижу в последний раз. Я грешил и страдал и должен страдать еще. 29 декабря 1701 года.Дату смерти каноника я нахожу в «Gallia Christiana»: 31 декабря 1701 года, «в постели, от внезапного припадка». Саммартани в своем великом труде редко сообщает такие подробности.].
Мне до сих пор неизвестна точка зрения самого Деннистона на изложенные события. Однажды он процитировал мне текст из Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова: «Есть ветры, которые созданы для отмщения и в ярости своей усиливают удары свои». В другой раз он сказал: «Исайя был очень мудр; не ему ли принадлежат слова о чудищах ночных, живущих на руинах Вавилона? В наши дни мы склонны об этом забывать».
Он поведал мне еще кое-что, и я всем сердцем к нему присоединился. В прошлом году мы ездили в Комменж, чтобы осмотреть могилу каноника Альберика. Внушительное мраморное сооружение включает скульптурный образ каноника в большом парике и сутане; велеречивая подпись отдает дань его учености. Деннистон, как я заметил, поговорил о чем-то с приходским священником Сен-Бертрана. На обратном пути он мне сказал:
– Надеюсь, я не совершил ничего недозволенного. Ты ведь знаешь, я пресвитерианин… но я… они теперь будут служить мессы и читать поминальные молитвы по усопшему Альберику де Молеону. – И он добавил, подпустив в голос североанглийскую ноту: – Понятия не имел, что они так заламывают цену.
Ныне альбом находится в Кембридже, в коллекции Вентворта. Картину Деннистон сфотографировал и потом сжег в тот день, когда покидал Комменж после первого приезда.
Меццо-тинто
Совсем недавно я, помнится, имел удовольствие рассказать вам о том, что приключилось с моим другом Деннистоном во время его поисков произведений искусства для кембриджского музея.
Хотя по возвращении в Англию он не очень-то распространялся насчет своего приключения, оно не могло остаться в тайне от большинства его друзей, и в частности от джентльмена, возглавлявшего в то время музей изящных искусств другого университета. Казалось бы, такие новости должны были произвести большое впечатление на ученого, разделявшего интересы Деннистона; он не мог не доискиваться объяснения случившемуся – объяснения, которое убедительно показало бы, что ему самому никогда не доведется попасть в столь опасную переделку. Его утешала мысль о том, что ему не нужно приобретать старинные рукописи для своего учреждения лично, ибо это было обязанностью Шелбурнианской библиотеки. Пусть ее служащие, коли им угодно, обшаривают в поисках подобных материалов закоулки Европы. Он же радовался возможности всецело посвятить себя расширению и без того непревзойденной коллекции английских топографических планов и ландшафтных гравюр, которая хранилась в его музее. Однако оказалось, что даже в этой изученной вдоль и поперек области имеются свои темные уголки, в один из которых мистера Уильямса нежданно-негаданно и привела судьба.
Всякий, кто хоть сколько-нибудь увлекается коллекционированием топографических изображений, знает некоего лондонского торговца, без чьей помощи любые подобные разыскания – пустая трата времени. Мистер Дж. У. Бритнелл довольно часто публикует превосходные каталоги своего обширного и непрерывно пополняющегося собрания гравюр, планов, старинных набросков с видами усадеб, церквей и городов Англии и Уэльса. Как специалист в соответствующей области, мистер Уильямс просто не мог их не просматривать; однако, поскольку его музей уже просто ломился от подобных экспонатов, его покупки были регулярными, но не слишком крупными, и он не столько искал раритеты, сколько стремился заполнить пробелы в рядовой части своей коллекции.
И вот в феврале прошлого года на стол мистера Уильямса в кабинете музея лег каталог из магазина мистера Бритнелла и в придачу к нему машинописное сообщение от самого торговца. Письмо гласило:
«Дорогой сэр, просим Вас в прилагаемом каталоге обратить внимание на № 978, который мы с удовольствием вышлем Вам для ознакомления. Искренне Ваш, Дж. У. Бритнелл».
Найти в каталоге номер 978 было, как заметил про себя мистер Уильямс, секундным делом; там значилось следующее:
978. Автор неизвестен, любопытное меццо-тинто: вид на усадьбу; начало века. 15?10 дюймов; черная рамка – 2 фунта 2 шиллинга.
Описание не слишком вдохновляло, и назначенная цена показалась ему чрезмерной. Но поскольку мистер Бритнелл (который хорошо знал свое дело – и своих покупателей), по-видимому, усматривал в ней нечто особенное, мистер Уильямс написал открытку с просьбой выслать ему для ознакомления это меццо-тинто, а также несколько других гравюр и рисунков из данного каталога. Затем, не одолеваемый никаким нетерпеливым предвкушением, он занялся текущими делами.
Любая посылка непременно приходит на день позже, чем ее ожидаешь, и посылка мистера Бритнелла не стала, как говорится, исключением из этого правила. Она была доставлена в музей в субботу днем уже после ухода адресата и переслана служителем на квартиру мистера Уильямса, чтобы просмотр содержимого и возвращение ненужных материалов не пришлось откладывать до понедельника. Там, в колледже, он и обнаружил запрошенные материалы, когда явился домой пить чай вместе с приятелем.
Меня, однако, занимает не вся посылка, а только меццо-тинто в черной рамке, краткое описание которого в каталоге мистера Бритнелла я цитировал выше. Стоит привести некоторые другие подробности касательно этой гравюры, хотя я и не надеюсь, что мой рассказ позволит вам увидеть ее с той же ясностью, с какой она предстает передо мной. Довольно точные ее подобия можно увидеть в наши дни в интерьерах многих старых гостиниц и загородных жилищ, не подвергшихся позднейшим переделкам. По правде говоря, это было довольно посредственное меццо-тинто, а посредственное меццо-тинто – пожалуй, худший из всех известных видов гравюр. На нем был изображен фасад небольшого усадебного дома прошлого века: три ряда окон в простых деревянных рамах, вокруг рустованная каменная кладка, парапет с шарами или вазами по углам, в центре – маленький портик. Справа и слева от дома возвышались деревья, а перед входом раскинулась просторная лужайка. На узком поле имелась короткая надпись: Гравюра А. У. Ф. В целом это меццо-тинто выглядело вполне любительской работой, и мистер Уильямс решительно не понимал, с какой стати мистеру Бритнеллу вздумалось назначить за гравюру цену в два с лишним фунта. Исполненным пренебрежения жестом он перевернул гравюру и увидел на обороте бумажный ярлычок, левая половина которого оказалась оторванной. Остались только окончания двух строчек; в одном были буквы «-нгли-холл», в другом – «-ссекс».
Он подумал, что, пожалуй, нужно установить, какое именно здание здесь изображено (с помощью географического справочника это совсем не сложно проделать), и затем вернуть гравюру мистеру Бритнеллу, приложив собственные замечания по поводу явно завышенной ее оценки этим джентльменом.
Мистер Уильямс зажег свечи, поскольку уже темнело, приготовил чай и вручил чашку приятелю, с которым перед тем играл в гольф (полагаю, выдающиеся умы данного университета позволяют себе на досуге расслабиться подобным образом). Чаепитие сопровождалось дискуссией, подробности которой без труда могут представить себе игроки в гольф; навязывать же их тем, кто в гольф не играет, добросовестный писатель не вправе. Стороны пришли к заключению, что иные удары могли быть точнее и что в некоторые критические моменты ни одного из игроков не посетила ожидаемая удача. И тут приятель (назовем его профессор Бинкс), взяв в руки гравюру в черной рамке, поинтересовался:
– Что это за место, Уильямс?
– Именно это я и собираюсь выяснить. – Уильямс направился к полке за географическим справочником. – Взгляните на обратную сторону. Какой-то – нгли-холл, в Сассексе либо в Эссексе. Половина названия оторвана, как видите. Вы, часом, не знаете, где это?
– Полагаю, пришло от Бритнелла, не так ли? – спросил Бинкс. – Для музея?
– Ну да, за пять шиллингов я бы ее купил, – ответил Уильямс, – но по какой-то непостижимой причине он хочет за нее две гинеи. Ума не приложу почему. Гравюра самая невзрачная, и нет ни одной человеческой фигуры, которая оживила бы картину.
– Двух гиней она не стоит, это точно, – согласился Бинкс, – но по мне, работа не столь уж плоха. Лунный свет, например, недурен, да и насчет человеческих фигур вы не правы: мне показалось, что на переднем плане есть по крайней мере одна.
– Посмотрим. Да, правда, лунный свет падает удачно. Но где же человек? Ах да, на самом краю виднеется макушка.
И действительно, возле рамки виднелось черное пятно: это была плотно закутанная голова – то ли мужская, то ли женская, – обращенная лицом к дому и затылком к зрителю. Уильямс прежде ее не замечал.
– Гравюра, конечно, лучше, чем я полагал, – признал он, – но выкладывать две гинеи за изображение неизвестного мне дома? Увольте.
Профессора Бинкса ждали дела, и он вскоре ушел, Уильямс же почти до самого обеда безуспешно гадал, что за место изображено на гравюре. «Если бы сохранилась гласная перед – нг, отгадать было бы относительно несложно, – думал он, – но в таком виде это может значить что угодно – от Гэстингли до Лэнгли; названий с таким окончанием уйма – я и не представлял себе, что их столько, а указателя окончаний в треклятом справочнике нет».
Обед в столовой колледжа начинался в семь. Рассказ о нем вряд ли будет занимателен, тем более что его участники в дневные часы играли в гольф, и потому застольная беседа пестрела словечками, не предназначенными для наших ушей, – исключительно из области гольфа, спешу уточнить.
После обеда коллеги час, если не больше, провели в так называемой общей комнате. Позднее некоторые перешли в апартаменты Уильямса, где, можно не сомневаться, закурили и затеяли партию в вист. Во время перерыва хозяин взял со стола меццо-тинто и не глядя передал его одному из гостей, интересовавшемуся произведениями искусства; он сообщил, откуда взялась гравюра, и прочие уже известные нам подробности.
Джентльмен небрежно взял ее, оглядел и, слегка оживившись, заметил:
– Недурно, Уильямс, очень недурно: хорошо передано романтическое мироощущение. Светотень просто замечательна, а человеческая фигура, хотя и чересчур гротескна, весьма впечатляет.
– Да? – отозвался Уильямс, который в этот момент угощал собравшихся виски с содовой и потому не мог перейти в другой конец комнаты, чтобы вновь взглянуть на изображение.
Было уже поздно, и гости стали расходиться. Оставшись один, Уильямс написал пару писем и разобрался с разными мелкими делами. Только после полуночи он собрался лечь спать и, прежде чем погасить лампу, зажег свечу. Гравюра лежала лицевой стороной вверх на столе, там, где ее оставил гость, который последним ее рассматривал; она привлекла к себе внимание Уильямса в тот момент, когда он тушил лампу. То, что он увидел, едва не заставило его выронить свечу, и, по его словам, останься он тогда в темноте, его непременно хватил бы удар. Но поскольку подобного не случилось, он смог поставить свечу на стол и внимательно осмотреть гравюру. Это было немыслимо – да что там, совершенно невозможно, однако же сомневаться не приходилось: посреди лужайки перед неопознанным домом, где еще в пять часов пополудни никого не было, теперь виднелась человеческая фигура. Закутанная в странное черное одеяние с белым крестом на спине, она пробиралась на четвереньках в направлении дома.
Я понятия не имею, как следует вести себя в такого рода ситуациях. Могу лишь сказать, как поступил мистер Уильямс. Он взял гравюру за уголок и, пройдя по коридору, перенес ее в другую часть своих апартаментов. Там он запер ее в ящик стола, плотно прикрыл обе выходившие в коридор двери и лег в постель, но прежде написал и скрепил подписью отчет об удивительных переменах, которым подверглось изображение с тех пор, как попало к нему в руки.
Ему долго не спалось, но он утешался мыслью, что о поведении гравюры можно судить не только по его собственному, ничем и никем не подтвержденному свидетельству. Очевидно, гость, осматривавший ее вечером до него, видел нечто в том же роде – иначе мистеру Уильямсу оставалось предположить у себя либо зрительное, либо умственное расстройство. Назавтра, в том счастливом случае, если обе эти возможности будут исключены, его ожидали два дела. Следовало тщательно исследовать гравюру в присутствии свидетеля, а кроме того, постараться выяснить, что за дом на ней изображен. Для этого он намеревался пригласить к завтраку своего соседа Нисбета, а затем уделить время изучению географического справочника.
Нисбет был свободен и пришел в половине десятого. Час не ранний, однако – неловко и сказать – хозяин дома был еще не вполне одет. Во время завтрака он и словом не обмолвился о меццо-тинто, упомянул только, что хочет спросить мнение Нисбета об одной картине. Однако все, кто знаком с университетскими нравами, могут себе представить, сколь разнообразные и увлекательные темы занимали двух членов Кентерберийского колледжа за воскресным завтраком. Едва ли что-то осталось не упомянуто в их разговоре – от гольфа до лаун-тенниса. Должен, однако, сказать, что Уильямс был несколько рассеян, ибо все его мысли вертелись вокруг странной гравюры, что лежала лицевой стороной вниз в ящике стола в комнате напротив.
Наконец сотрапезники раскурили трубки, и желанный миг наступил. Еле сдерживая нетерпение, почти дрожа, Уильямс пересек коридор, отпер комнату и затем ящик, извлек гравюру и, держа ее лицевой стороной вниз, так же поспешно вернулся.
– Ну вот, Нисбет, – сказал он, вручая ему гравюру, – опишите точно, что вы здесь видите. И во всех подробностях, если вам не трудно. Я потом объясню, зачем это нужно.
– Хорошо. Передо мной загородный дом, вероятно английский, в лунном свете.
– Вы уверены, что свет действительно лунный?
– Конечно! Если уж вам нужны подробности, то луна вроде бы на ущербе, а небо затянуто облаками.
– Отлично, продолжайте, Нисбет! Но ей-богу, – произнес Уильямс в сторону, – когда я увидел гравюру в первый раз, никакого лунного света не было.
– Ну, добавить-то особо нечего. В доме раз… два… три ряда окон, по пять на каждом этаже, кроме нижнего, в котором вместо среднего окна дверь, и…
– А люди? – В вопросе Уильямса сквозил неподдельный интерес.
– Людей нет, но…
– Как? На лужайке перед домом никого нет?
– Нет!
– Вы ручаетесь?
– Безусловно. Но зато я вижу кое-что другое.
– Что?
– Одно из окон первого этажа – слева от двери – открыто.
– Неужели? Боже мой, не иначе как он забрался в дом.
Уильямс, чрезвычайно взволнованный, поспешил к дивану, где сидел Нисбет, и, выхватив из его рук меццо-тинто, собственными глазами убедился, что собеседник прав.
Действительно, человеческая фигура исчезла, а окно было распахнуто. От изумления Уильямс на миг утратил дар речи, затем метнулся к письменному столу и начал что-то торопливо черкать на бумаге. После этого он подал Нисбету два листка и попросил подписать один из них (это было то самое описание гравюры, которое вы только что прочли) и ознакомиться с другим – им оказалось свидетельство самого Уильямса, составленное минувшей ночью.
– Что все это значит? – удивился Нисбет.
– Вот именно – что? – отозвался Уильямс. – Ну что ж, за мной одно дело… нет, если вдуматься, то целых три. Я должен разузнать у Гарвуда (так звали его вчерашнего гостя, уходившего последним), что именно он видел, потом сфотографировать гравюру, пока она вновь не преобразилась, и еще необходимо выяснить, что за место на ней изображено.
– Я могу сфотографировать ее, – вмешался Нисбет. – Но право же, очень похоже, что мы являемся свидетелями какой-то трагедии. Неизвестно только, наступила ли уже развязка, или она еще впереди. Вы должны непременно установить место действия. – Снова переведя взгляд на гравюру, он добавил: – Думаю, вы правы: кто-то забрался в дом. И, если не ошибаюсь, в одной из комнат наверху сейчас творятся чертовски скверные дела.
– Знаете что, – сказал Уильямс. – Отнесу-ка я это изображение в дом напротив, к старому Грину. – (Это был старший член Совета колледжа, который много лет исполнял обязанности казначея.) – Весьма вероятно, что он узнает этот дом. Университет владеет собственностью в Эссексе и Сассексе, и в свое время Грин провел там немало времени.
– Очень может быть, что узнает, – согласился Нисбет, – но прежде я сделаю фотографию. И вот еще что: я думаю, что Грина сейчас нет на месте. В столовой вечером он не появлялся, и помнится, я слышал от него, что он собирается отлучиться на воскресенье.
– А, ну да, – подхватил Уильямс. – Я слышал, что он собирался в Брайтон. Ладно, если вы сейчас займетесь снимком, я пойду к Гарвуду и запишу его свидетельство; а вы не спускайте с гравюры глаз, пока меня не будет. Я начинаю думать, что две гинеи – не такая уж непомерная цена за нее.
Вскоре он вернулся с мистером Гарвудом. Тот подтвердил, что, когда он смотрел на гравюру, человек на ней уже удалился от края, однако лужайку еще не пересек. Он помнил белый знак на спине, но не поручился бы, что это именно крест. Свидетельство было тотчас же задокументировано и скреплено подписью, и Нисбет занялся фотографией.
– А что вы думаете делать дальше? – спросил он. – Неужто собираетесь просидеть весь день напролет, неотрывно глядя на нее?
– Нет, пожалуй, – ответил Уильямс. – Мне представляется, что нам предстоит увидеть всю историю до конца. Понимаете, со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра могло произойти очень многое, но это существо всего-навсего пробралось в дом. Конечно, оно могло уже справиться со своим делом и вернуться восвояси, однако открытое окно говорит о том, что посетитель все еще там, внутри. А посему я не боюсь пропустить что-либо интересное. И еще мне кажется, что в дневные часы гравюра меняется мало. Можно даже выйти погулять после полудня и вернуться к чаю или когда стемнеет. Пусть она лежит на столе, наружную дверь я прикрою. Кроме прислужника, никто другой сюда не войдет.
На том все трое и порешили, отметив попутно, что на глазах друг у друга они наверняка не проболтаются посторонним; ибо слух о подобном происшествии переполошил бы все Общество по изучению призраков, получи он известность.
Итак, дадим джентльменам отдых до пяти часов вечера.
Примерно в это время все трое поднялись на площадку, куда выходила дверь Уильямса. Увидев, что та приоткрыта, они было встревожились, но тут же вспомнили, что университетские служители по воскресеньям приходят за распоряжениями на час раньше, чем в будние дни. Однако самое удивительное ждало их впереди. Когда они вошли в комнату, первым делом им бросилась в глаза гравюра, прислоненная к груде книг на столе, где они утром ее оставили, а затем слуга Уильямса, который, сидя в кресле напротив меццо-тинто, смотрел на него с нескрываемым ужасом. Что бы это значило? Мистер Жуллер (фамилию я не придумал) имел репутацию образцового слуги и являл собой пример для подражания как в собственном колледже, так и в соседних, и обнаружить его сидящим в хозяйском кресле и изучающим хозяйскую мебель или картины было верхом неожиданности. Он и сам, по-видимому, чувствовал несообразность своего поведения. Когда джентльмены вошли, он встрепенулся, с видимым усилием выпрямился и произнес:
– Извините, сэр, что я позволил себе тут присесть.
– Ничего-ничего, Роберт, – поспешил успокоить его мистер Уильямс. – Я как раз собирался спросить, что вы думаете об этом изображении.
– Ну, сэр, я, конечно, не смею оспаривать ваше мнение, но я этакую картину ни за что не повесил бы там, где ее может увидеть моя маленькая дочурка.
– В самом деле, Роберт? А почему?
– А как же, сэр. Помню, как-то попалась бедняжке на глаза Библия Доре – а ведь там картинки, которым до этой далеко, – так хотите верьте, хотите нет, а три или четыре ночи мы не могли оставить ее одну. А покажи мы ей этого скилета – или что он там такое, – как он уносит несчастного ребеночка, с бедняжкой точно родимчик бы случился. Сами знаете, как это у детей бывает, как они нервозят по пустякам. Но вот что я скажу вам, сэр: это неправильно, что такая картина лежит у всех на виду, ведь кто-нибудь и перепугаться может. Вам сегодня вечером что-нибудь потребуется, сэр? Спасибо, сэр.
С этими словами безупречный слуга вышел и продолжил обход других своих хозяев; а покинутые им джентльмены, можете в том не сомневаться, незамедлительно собрались вокруг гравюры. Над домом, как и прежде, светила ущербная луна и плыли облака. Окно, до этого распахнутое, теперь было закрыто, а человек снова перебрался на лужайку, но уже не крался на четвереньках, а, выпрямившись во весь рост, быстрым широким шагом приближался к нижнему краю гравюры. Луна светила ему в спину, и лицо, затененное черной тканью, скорее угадывалось, чем виднелось; тем не менее зрители готовы были возблагодарить судьбу за то, что различают только бледный покатый лоб и несколько выбившихся прядей волос. Голова неизвестного была опущена, а руки крепко сжимали нечто похожее на ребенка, но живого или мертвого, оставалось неясным. Отчетливо видны были только ноги призрака, поражавшие своей жуткой худобой.
С пяти до семи приятели сидели, поочередно следя за гравюрой. Однако она не менялась. В конце концов они решили, что не будет большой беды, если они посетят столовую, а уж после вернутся и посмотрят, что сталось с изображением.
Они спешили как могли и по возвращении застали гравюру на прежнем месте, однако фигура человека исчезла: виднелся только дом, мирно освещенный луной. Им не оставалось ничего иного, как засесть за справочники и путеводители. В итоге повезло Уильямсу, который, вероятно, этого и заслуживал. В половине двенадцатого вечера он зачитал следующие строки из «Путеводителя по Эссексу» Меррея:
«Шестнадцать с половиной миль, Эннингли. Церковь представляла собой примечательный памятник архитектуры времен нормандского завоевания, однако в прошлом столетии подверглась значительной перестройке в классическом стиле. Внутри находятся захоронения семейства Фрэнсис; усадебный дом Фрэнсисов, Эннингли-холл, внушительное строение времен королевы Анны, расположен сразу за кладбищем; его окружает парк площадью около 80 акров. Род Фрэнсисов в настоящее время пресекся, последний его наследник пропал при таинственных обстоятельствах еще в младенчестве, в 1802 году. Его отец, мистер Артур Фрэнсис, был известен в округе как талантливый гравер-любитель, мастер меццо-тинто. После исчезновения сына он жил в полном уединении в собственном доме. В день третьей годовщины печального события его нашли мертвым в кабинете; перед смертью он как раз закончил гравюру с изображением дома, оттиски которой представляют большую редкость».
Похоже, это было то, что они искали; и мистер Грин по возвращении тотчас признал, что на гравюре изображен именно Эннингли-холл.
Уильямс, разумеется, не удержался от вопроса:
– А известно ли вам, Грин, что за человек здесь изображен?
– Право, не знаю, Уильямс. Когда я впервые там побывал, еще до приезда сюда, тамошние жители поговаривали, что старый Фрэнсис не терпел браконьеров: кого в этом заподозрит, тех при первом удобном случае изгонял за пределы своих владений – и таким образом постепенно избавился от всех, кроме одного. В те времена землевладельцы творили такое, о чем теперь и помыслить не смеют. Уцелевший браконьер был – а в наших краях подобное случалось нередко – последним обломком старинного знатного рода. Вроде бы это семейство даже владело в свое время усадьбой Эннингли. Подобный случай, помнится, был и у меня в приходе.
– Что? Совсем как персонаж «Тэсс из рода д’Эрбервиллей»? – вставил реплику Уильямс.
– Смею сказать, да; впрочем, я эту книгу так и не осилил. Так или иначе, этот молодец мог похвастаться длинным рядом надгробий своих предков в местной церкви; неудивительно, что он был малость недоволен жизнью. Говорили, будто Фрэнсис никак не может до него добраться: парень ходил по грани закона, но не преступал ее – пока однажды ночью егеря не застигли его в лесу, на самой окраине имения. Могу даже показать вам, где это было: на границе с землей, которая когда-то принадлежала моему дядюшке. Понятно, миром дело не кончилось, и этот человек, Годи – да-да, его звали именно так: Годи – я знал, что вспомню – Годи! – так вот, он, бедняга, имел несчастье застрелить одного из егерей. Фрэнсису только того и было нужно. Состоялся суд присяжных – вы только представьте, что это был за суд в те времена, – и бедного Годи немедля вздернули; мне показали, где он похоронен – к северу от церкви. Вы же знаете обычаи тех мест: всех, кто был повешен или сам наложил на себя руки, хоронят именно таким образом. В округе предполагали, что какой-то приятель Годи (не родственник – у него, у бедолаги, последнего в роду, spes ultima gentis[8 - Последняя надежда рода (лат.).], таковых не было) – так вот, кто-то из дружков Годи замыслил похитить сына Фрэнсиса и тем самым положить конец и его роду. Не знаю, по уму ли такое эссекскому браконьеру… Но сейчас мне сдается, что, скорее всего, это было делом рук самого Годи. Ух! Даже думать об этом боюсь! Давай-ка, Уильямс, выпьем виски – еще по стаканчику!
Эту историю Уильямс изложил Деннистону, а тот – смешанной компании, в которую входил и я, а также известный саддукей, профессор офиологии. К сожалению, когда спросили, что он об этом думает, ответом было: «О, эти бриджфордцы чего вам только не порасскажут», – суждение, сразу получившее оценку, каковой оно и заслуживало.
Остается только добавить, что гравюра находится ныне в Эшлианском музее; что ее – совершенно безрезультатно – подвергли анализу, дабы установить наличие симпатических чернил; что мистер Бритнелл не знал о ней ничего, кроме того что это – диковинка; и наконец, что, хотя за меццо-тинто велось пристальное наблюдение, никаких изменений в нем более не обнаружили.
Ясень
Тому, кто ездил по дорогам Восточной Англии, наверняка запомнились небольшие усадьбы, которыми усеяна сельская местность, – непритязательные и довольно промозглые дома, как правило в итальянском стиле, окруженные парком площадью от восьмидесяти до ста акров. Я всегда находил в них своеобразное очарование: серые изгороди из дубового тёса, высокие раскидистые деревья, озера с плавнями, полоса леса вдалеке… Признаюсь, мне многое нравится в этих усадьбах – и милый портик, зачастую пристроенный к краснокирпичному дому времен королевы Анны (позже кирпич, скорее всего, оштукатурили в угоду «греческому» вкусу конца восемнадцатого столетия); и просторный холл с потолком под крышу, где, по логике вещей, непременно должна быть галерея наподобие церковных хоров с маленьким органом. Нравится и библиотека, где можно неожиданно наткнуться на псалтирь тринадцатого века или кварто Шекспира. Нравятся картины на стенах; впрочем, это само собой разумеется. Но особенно мне нравится воображать жизнь в таком доме – и в стародавние времена, когда он только-только был построен, и в самые тучные для землевладельцев годы, и даже нынче, когда деньги уже не текут рекой, зато наблюдается отрадное разнообразие вкусов, лишний раз убеждающее нас в том, что жить в наши дни ничуть не менее интересно. Я не отказался бы иметь собственный дом в этих краях, а заодно и средства, чтобы содержать его и устраивать скромные приемы для близких друзей.
Но я отвлекся. Мне нужно рассказать вам о череде удивительных событий, произошедших в одной из усадеб, которые я попытался здесь описать, а именно в Кастрингем-холле в графстве Саффолк. Полагаю, дом претерпел немало изменений с тех пор, как стал свидетелем упомянутых событий, но обрисованные мной основные приметы сохранились – итальянский портик, простой белый куб дома, поновленного снаружи и не тронутого внутри, парк, переходящий в лес, и озеро. Хотя главного, что выделяло этот дом из общего ряда, больше нет. Прежде справа от здания, если смотреть со стороны парка, всего ярдах в пяти от стены, почти или даже непосредственно касаясь ее ветвями, рос большой старый ясень. Думаю, он ровесник тех давних времен, когда Кастрингем перестал быть крепостью – когда древний ров засыпали и на месте замка построили жилой дом в елизаветинском стиле. Во всяком случае, к 1690 году дерево и в высоту, и в ширину практически достигло своих естественных пределов роста.
В тот год местность, где находится Кастрингем, стала ареной ведовских процессов. Боюсь, мы не скоро сумеем сказать, насколько обоснованными – если предполагать наличие разумных оснований – были опасения многих людей, в итоге обернувшиеся эпидемией страха перед ведьмами. Действительно ли те, кого обвиняли в колдовстве, сами верили, будто наделены какой-то сверхъестественной силой; а если нет, то было ли у них пусть не средство, но хотя бы намерение причинить вред ближнему; или же все признательные показания, которым несть числа, вырваны у несчастных под пытками – вот вопросы, не разрешенные, сдается мне, и поныне. История кастрингемских сквайров отнюдь не рассеивает моих сомнений: я не могу, положа руку на сердце, объявить ее чистым вымыслом. Предоставляю читателю вынести собственное суждение.
На алтарь борьбы с колдовством Кастрингем принес свою жертву в лице миссис Мазерсоул. Из общего ряда деревенских ворожей она выделялась лишь тем, что не бедствовала и пользовалась известным влиянием в округе. Несколько почтенных фермеров предприняли попытку спасти ее, свидетельствуя в суде об исключительной добропорядочности обвиняемой, и с нескрываемой тревогой ждали вердикта присяжных.
Роковую роль в судьбе миссис Мазерсоул, судя по всему, сыграли показания тогдашнего владельца Кастрингем-холла – сэра Мэтью Фелла. Он утверждал, что трижды – всякий раз при полной луне – видел из своего окна, как обвиняемая собирает побеги с ясеня возле самого его дома. Сидя на ветвях в одном исподнем, она диковинным кривым ножом срезала нежные веточки и что-то приговаривала. В каждом случае сэр Мэтью честно старался изловить шельму, но приблизиться к ней в темноте и не вспугнуть ее у него не получалось: когда он спускался в сад, там никого уже не было – только заяц задавал стрекача через парк в направлении деревни.
На третий раз сэр Мэтью бросился вдогонку за зайцем, и тот привел его прямиком к дому миссис Мазерсоул. Добрую четверть часа сэр Мэтью колотил в дверь, пока хозяйка наконец не вышла к нему, очень сердитая и заспанная, как будто только что встала с постели, а сквайр даже не сумел вразумительно объяснить, зачем пожаловал.
Опираясь главным образом на это свидетельство – хотя других, не столь поражающих воображение, тоже набралось изрядно, – миссис Мазерсоул была признана виновной и приговорена к смертной казни. Спустя неделю ее вместе с еще пятью или шестью беднягами повесили в Бери-Сент-Эдмундсе.
Сэр Мэтью Фелл, в ту пору помощник шерифа, присутствовал при казни. Стояло ненастное мартовское утро, уныло моросил дождь. Телега с приговоренными, неторопливо взобравшись по травянистому склону холма, остановилась снаружи Северных ворот, где заранее приготовили виселицы. Жертвы были либо безучастны, либо убиты горем – все, за исключением миссис Мазерсоул, которая не сдавалась ни в жизни, ни в смерти. Ее «ядовитая злоба», по выражению оставившего запись современника, так подействовала на присутствующих – даже на палача! – что позже все, кто видел ее тогда, в один голос уверяли, будто бы она являла собой «живое воплощение обезумевшего диавола». Тем не менее миссис Мазерсоул не оказала сопротивления судебным исполнителям, «только бросила на тех, которые взяли ее за плечи, такой жуткий, испепеляющий взор, что – как сказывал потом один из них – от одного воспоминания его еще полгода бросало в дрожь».
По свидетельству очевидца, единственные произнесенные ею слова были темны и как будто бессмысленны: «Ждите гостей в господском доме». Слова эти она вполголоса повторила несколько раз.
Ее необычайная выдержка произвела впечатление на сэра Мэтью. По завершении сессии ассизного суда, возвращаясь домой вместе с приходским викарием, он пожелал коснуться этой темы. Обвинительные показания на процессе стоили ему некоторых усилий над собой; он вовсе не одержим манией охоты на ведьм; но у него не было и нет иного объяснения происшедшему, кроме того, которое он чистосердечно изложил суду; и поскольку он видел все своими глазами, то ошибки быть не могло. Весь этот процесс ему глубоко отвратителен, ибо он всегда стремится к ровным и приятным отношениям с окружающими, однако есть такое понятие, как долг, и в этом деле он исполнил свой долг. Вот краткое изложение его мыслей и чувств, кои викарий горячо одобрил, как одобрил бы на его месте всякий благоразумный человек.
Через несколько недель, в пору майского полнолуния, сквайр вновь повстречался с викарием, на сей раз в усадебном парке, откуда они вместе проследовали в дом. Леди Фелл уехала к матери, которую сразил опасный недуг, и сэр Мэтью пребывал в одиночестве. Викарий – он же мистер Кром – с легкостью позволил уговорить себя разделить с хозяином поздний ужин.
В тот вечер сэр Мэтью был не лучшим собеседником – разговор вращался все больше вокруг дел семейных и приходских. Потом сэр Мэтью взял перо и ни с того ни с сего принялся составлять меморандум с перечнем своих пожеланий и намерений касательно принадлежавшего ему имущества (в дальнейшем его меморандум оказался чрезвычайно полезен).
Около половины десятого мистер Кром засобирался домой, и сэр Мэтью пошел проводить его. Они обогнули угол дома и по гравийной дорожке, проложенной вдоль заднего фасада, направились к аллее. Прямо перед ними высился ясень, ветви которого, как я уже говорил, почти соприкасались с окнами. Единственное, что врезалось в память мистеру Крому, было связано с неожиданно возникшей заминкой, ибо сэр Мэтью вдруг резко остановился и сказал:
– Что там шныряет вверх-вниз по стволу? Ужели белка? В этот час им всем пора сидеть по гнездам.
Викарий посмотрел на дерево и увидел какое-то движущееся существо. В лунном свете нельзя было разобрать, какого оно цвета, однако в сознании викария отпечатался мелькнувший на миг четкий контур, и он готов был поклясться, что ног у «белки», как ни глупо это звучит, поболее четырех!
Выбросив из головы мимолетное ночное видение – мало ли что померещится в потемках! – друзья распрощались. Возможно, потом они встретились вновь – годков через двадцать.
На следующее утро сэр Мэтью Фелл не спустился, по своему обыкновению, в шесть. Не спустился он и в семь, и в восемь. Слуги пошли наверх и постучались в спальню… Мне незачем утомлять вас подробным рассказом о том, сколько раз они с тревогой прислушивались и вновь принимались стучать. В конце концов дверь вскрыли. Хозяин лежал мертвый и весь черный. Прозорливый читатель, конечно, предвидел подобный исход. Никаких следов насилия никто не заметил, но все обратили внимание на открытое окно.
Слуга отправился за приходским священником и получил от него указание известить коронера. Викарий, как только услышал новость, стремглав помчался в усадьбу и немедленно был препровожден в комнату покойного. Со временем в архиве мистера Крома обнаружили записи, не оставляющие сомнений в том, что автор искренне чтил и оплакивал сэра Мэтью. Привожу здесь переписанный мною пассаж, который поможет пролить свет на интересующие нас события и на состояние умов в то далекое время.
«Я не увидел ни единого признака насильственного проникновения в спальню обычным путем, то бишь через дверь, но нижняя рама окна была поднята, ибо мой бедный друг привык держать ее в таком положении в теплое время года. Небольшая вечерняя порция эля была доставлена ему в серебряном сосуде вместимостью около пинты, но осталась не выпитой. Напиток дали исследовать ученому доктору из Бери, некоему мистеру Ходжкинсу, который, однако, не сумел, как сам он под присягой заявил в коронерском суде, обнаружить присутствие какого-либо ядовитого вещества. Ввиду значительного вздутия и почернения трупа среди местных жителей пошли слухи об отраве. Лежавшее в постели тело было столь безобразно и столь чудовищно сведено судорогой, что это слишком несомненно указывало мне на прискорбный факт: мой друг и благодетель испустил дух, терзаемый жестокими муками. Необъяснимым покамест является одно обстоятельство, которое, по моему мнению, обнажает изощренный злодейский умысел того или тех, кто совершил это убийство, ибо две добрые женщины, призванные в дом для омовения усопшего, – обе нрава строгого и весьма высокочтимые в своей погребальной профессии – явились ко мне в крайне плачевном состоянии души и тела и рассказали (правдивость их рассказа немедленно подтвердилась), что стоило им прикоснуться голыми руками к груди покойного, как они почувствовали страшную резь в ладонях, и вслед за тем их руки от кончиков пальцев до локтей стали на глазах распухать, и боль все не утихает (после, в течение многих недель, мойщицы были вынуждены отказывать нуждающимся в их услугах); при этом на коже не видно никаких повреждений.
Я тотчас послал за доктором, который еще не покинул усадьбу, и мы вместе, вооружившись увеличительным стеклом, провели тщательное обследование кожи покойного на означенном участке тела, но даже с помощью увеличительного инструмента не нашли ничего подозрительного, кроме двух крошечных проколов, через которые, как мы заключили, злоумышленник мог ввести яд; на ум сразу пришли всем известные образчики душегубного искусства итальянских отравителей прошлого начиная с перстня папы Борджиа.
Вот все, что можно сообщить о следах на теле. А насчет того, что я собираюсь к этому прибавить, спешу оговориться: речь пойдет о моем собственном эксперименте, и пусть потомки рассудят, дает ли он нам крупицу ценного знания.
На столике подле кровати сэра Мэтью лежала Библия карманного формата, которую мой бедный друг – равно пунктуальный как в малом, так и в большом – всенепременно раскрывал ежевечерне, прежде чем отойти ко сну, и ежеутренне, прежде чем встать с постели. Взявши Библию в руки – и уронив горькую слезу по тому, чей взор вместо бледного мира земного уже наблюдает лучезарный небесный оригинал, – я внезапно подумал (ибо в минуты бессилия пред неизбежным мы жаждем узреть луч надежды в самом слабом и неверном мерцании), отчего бы не испытать старинный метод гадания по книге, многими осуждаемый как суеверие; самый знаменитый пример оного, о котором ныне много говорят, касается блаженной памяти святого короля-мученика Карла и милорда Фолкленда. Вынужден признаться, что мой эксперимент ничего мне не прояснил, но на тот случай, если в будущем кто-нибудь захочет доискаться настоящей причины вышеупомянутых ужасных обстоятельств, я изложу здесь свои результаты. Быть может, уму более острому, нежели мой, они укажут на источник злодеяния.
Итак, я предпринял три попытки, всякий раз наугад открывая Библию и вслепую опуская палец на страницу. В первом случае я попал на слова из Луки (13: 7): „сруби ее“; во втором – из Исаии (13: 20): „не заселится никогда“; и в третьем – из Иова (39: 30): „птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он“».
На мой взгляд, это все, что заслуживает цитирования в бумагах мистера Крома. Сэр Мэтью Фелл был предан земле по христианскому обычаю, и в ближайшее воскресенье мистер Кром отслужил панихиду по усопшему, отчет о которой появился в печати под заголовком: «Неисповедимы пути, или Грозящая Англии опасность и злокозненные происки Антихриста». И сам викарий, и едва ли не все жители округи считали, что сквайр пал жертвой нового заговора папистов.
Его сын, сэр Мэтью Второй, унаследовал титул и состояние. На сем завершился первый акт кастрингемской трагедии. Отметим лишь, что новый баронет не пожелал занять комнату, в которой скончался его отец; оно и понятно. Не только он сам, но и никто другой, за исключением какого-нибудь заезжего гостя, никогда там не ночевал. Второй сэр Мэтью умер в 1735 году, и, сколько я могу судить, ничего примечательного за время его правления не наблюдалось, кроме постоянно высокой смертности коров, овец и других домашних животных, причем с годами эта неприятная тенденция нарастала.
Всех, кого интересуют подробности, я отсылаю к письму, опубликованному в «Джентльменс мэгэзин» за 1772 год, где приводятся конкретные сведения из личного архива баронета. С напастью в конце концов удалось справиться, прибегнув к простейшей мере: загонять скотину в хлев и запирать на ночь, а овцам закрыть доступ в парк. Наблюдательный баронет обратил внимание на тот факт, что с животными, проводящими ночь под замком, ничего не случается. С тех пор неприятности происходили только с представителями дикой природы, будь то птицы или звери. Не располагая надежным описанием симптомов (все попытки организовать ночную засаду не позволили установить причину странного явления), я не стану останавливаться на «кастрингемской хвори», как прозвали смертоносный недуг местные фермеры.
Итак, второй сэр Мэтью умер в 1735 году, и усадьба перешла к его сыну, сэру Ричарду. Это при нем к северной стороне приходской церкви была пристроена вместительная семейная «скамья». Для осуществления грандиозного замысла сквайра пришлось потревожить несколько старых погребений в неосвященной северной части погоста, в частности могилу миссис Мазерсоул; ее местоположение было хорошо известно благодаря пояснениям к плану церкви и кладбища, составленному мистером Кромом.
Известие о том, что останки старой ведьмы, которую кое-кто из старожилов еще помнил, будут извлечены на свет божий, не на шутку взбудоражило деревню. Каково же было общее удивление, вернее потрясение, когда оказалось, что довольно хорошо сохранившийся, без единой пробоины гроб совершенно пуст – ни тела, ни костей, ни праха. Согласитесь, тут есть чему удивляться, особенно если принять во внимание, что ее похоронили в те времена, когда о таком преступном промысле, как похищение трупов, никто не помышлял; и для чего, если не для анатомического театра, выкапывать из земли труп, действительно уму непостижимо.
Этот случай всколыхнул давние истории о процессах над ведьмами и ведьминских кознях, за сорок лет уже сильно потускневшие, и хотя приказ сэра Ричарда немедленно сжечь ведьмин гроб многие сочли безрассудным, его послушно исполнили.
Сэр Ричард определенно был отпетый реформатор. Покуда он не вступил в права владения, усадебный дом представлял собой отрадный для взора куб из темно-красного кирпича; однако сэр Ричард недаром путешествовал по Италии. Заразившись итальянским вкусом и обладая большими, чем его предшественники, финансовыми возможностями, он вознамерился оставить после себя итальянское палаццо там, где прежде стоял английский загородный дом. Соответственно, кирпич упрятали под штукатурку и облицовку из тесаного камня, в холле и парке расставили равнодушные к английскому антуражу римские мраморные статуи, на противоположном от дома берегу озера соорудили точную копию храма Сивиллы в Тиволи – и Кастрингем преобразился, обретя совершенно новый и, честно говоря, уже не столь пленительный облик. Впрочем, многие восхищались нововведениями, и для большинства окрестных землевладельцев Кастрингем стал непререкаемым эталоном на годы вперед.
Однажды утром (шел 1754 год) сэр Ричард пробудился в неважном расположении духа. Ночь он провел в беспокойстве. Из-за сильного ветра камин постоянно дымил, а без огня в комнате было бы слишком холодно. Кроме того, что-то надоедливо стучало по оконному стеклу, не давая ни минуты покоя. Вдобавок в этот день сэр Ричард ждал важных гостей, которые рассчитывали приятно провести время и поохотиться, а между тем вспышки непонятного мора, уносившего жизнь диких животных, в последнее время настолько участились, что хозяин Кастрингема всерьез опасался за свою репутацию знатного устроителя охоты. И все же более всего в ту бессонную ночь его донимал непрестанный стук в окно. Нет, сказал себе сэр Ричард, так спать нельзя.
Это и был главный предмет его размышлений за завтраком. Встав из-за стола, сэр Ричард начал методичный осмотр дома в расчете подобрать более пригодную для себя спальню, и вскоре нашел то, что искал. В приглянувшейся ему комнате было два окна, одно выходило на восток, другое на север. Вот только за дверью постоянно сновали слуги, да и старая громоздкая кровать его не прельщала… Нет, лучше бы найти другую, с видом на запад: там и солнце не разбудит на заре, и прислуга не потревожит. Однако его экономка практически исчерпала запас свободных помещений.
– Видите ли, сэр Ричард, в доме лишь одна комната соответствует вашему пожеланию, – сказала она.
– Это которая?
– Комната сэра Мэтью – Западная спальня.
– Отлично, там меня и устроите, сегодня же. Где она? Ладно, я сам знаю, нам туда! – И он быстро пошел прочь.
– Ах, сэр Ричард, но эта комната пустует уже сорок лет. Боюсь, ее не проветривали со дня кончины сэра Мэтью, – возразила экономка, поспешая за хозяином.
– Ну же, миссис Чиддок, отоприте дверь. Хочу наконец взглянуть на легендарную опочивальню.
Так, спустя несколько десятилетий, комнату снова открыли. Воздух там и впрямь был удушающе спертый и затхлый. Сэр Ричард устремился к окну, по обыкновению, нетерпеливо распахнул ставни и рывком поднял раму. Перемены едва ли затронули этот конец дома, тесно соседствовавший с ясенем-великаном и надежно укрытый от досужих глаз.
– Хорошенько проветрите тут, миссис Чиддок. На день окно не закрывайте, а к вечеру велите перенести сюда мою постель и все, что полагается. В моей прежней комнате нужно будет разместить епископа Килморского.
– Прошу прощения, сэр Ричард, – послышался незнакомый голос, прервав распоряжения хозяина дома, – не могли бы вы уделить мне минуту?
Сэр Ричард обернулся и увидел в дверях человека в черном. Тот отвесил поклон.
– Еще раз простите меня за вторжение, сэр Ричард. Возможно, мое имя ничего вам не скажет: Уильям Кром. Мой дед служил викарием в здешнем приходе и знавал вашего деда.
– Что ж, сэр, – ответствовал сэр Ричард, – Кромам всегда рады в Кастрингеме. С удовольствием возобновлю дружбу, имеющую столь глубокие корни. Чем я могу быть полезен вам? Судя по раннему часу вашего визита – и по вашему платью, если я не обманулся, – вы спешите.
– Истинно так, сэр. Я здесь проездом из Нориджа в Бери-Сент-Эдмундс по срочному делу и намеренно завернул к вам оставить кое-какие записки, которые мы только теперь обнаружили при разборе дедовых бумаг. Мне подумалось, что они могут представлять для вас некоторый интерес.
– Премного вам обязан, мистер Кром. Если вы соблаговолите проследовать со мной в кабинет, мы выпьем по бокалу вина и вместе взглянем на эти записки. А вам, миссис Чиддок, надлежит проветрить спальню… Да, знаю, здесь скончался мой дед… Да, возможно, из-за дерева от окна тянет сыростью… Нет. Больше ничего не желаю слушать. Пожалуйста, не докучайте мне. Вам даны распоряжения – исполняйте. Прошу за мной, сэр.
Они прошли в кабинет. Сверток, который привез с собой мистер Кром (заметим, что молодой человек недавно получил место в кембриджском Клэр-холле, поэтому, кроме архивных бумаг, в его саквояже лежало недурное издание Полиэна), содержал, среди прочего, записки викария по случаю смерти сэра Мэтью Фелла. Ознакомившись с ними, сэр Ричард впервые столкнулся с загадочной практикой гадания по Библии, о которой я вам уже поведал. Это открытие немало его позабавило.
– По крайней мере, дедовская Библия дала один дельный совет – срубить дерево. Ежели подразумевается ясень, мой предок может спать спокойно: я послушаюсь его совета. Долой рассадник катаров и лихорадок!
В кабинете хранилась семейная библиотека, пока не слишком обширная; в скором времени ее должно было пополнить собрание книг, приобретенных сэром Ричардом в Италии, для чего в доме планировалось обустроить специальное помещение.
Сэр Ричард перевел взгляд с рукописного листа на книжный шкаф.
– Интересно, старая вещунья по-прежнему здесь? Кажется, я ее вижу.
Он вынул из шкафа толстенькую карманную Библию. На форзаце, как и следовало ожидать, имелась дарственная надпись: «Мэтью Феллу от любящей крестной Анны Олдос, 2 сентября 1659 года».
– Не худо бы испытать эту провидицу наново, мистер Кром. Бьюсь об заклад, сейчас она огорошит нас парой забытых ветхозаветных имен. Хм, так, посмотрим… «Завтра поищешь меня, и меня нет». Однако! Ваш дедушка всенепременно узрел бы здесь знамение, не так ли? Но с меня довольно прорицаний! Все это сказки. Что ж, мистер Кром, премного благодарен за хлопоты. Боюсь, вам уже не терпится продолжить путь. Позвольте… еще бокал – на дорогу.
И после радушного приглашения снова посетить Кастрингем, сделанного не только ради вежливости (молодой человек понравился сэру Ричарду манерами и обращением), они расстались.
Днем съехались гости – епископ Килморский, леди Мэри Харви, сэр Уильям Кентфилд и другие. В пять подали обед, и далее все шло своим чередом – вино, карты, ужин и отход ко сну.
Однако наутро сэр Ричард неожиданно отказывается принять участие в охоте, предпочитая веселой забаве беседу с епископом. В отличие от многих и многих ирландских иерархов той поры, епископ Килморский регулярно бывал в своей епархии, и не только наездом. В то утро, прохаживаясь с хозяином по террасе и живо интересуясь преобразованиями и усовершенствованиями в Кастрингеме, епископ указал на окно Западной спальни и заметил:
– Ни одна душа среди моей ирландской паствы не стала бы ночевать в этой комнате, сэр Ричард.
– Но почему, милорд? И кстати, это моя спальня.
– По ирландским поверьям, спать вблизи ясеня – значит накликать несчастье, а у вас могучий ясень разросся прямо под окном. Быть может, – с улыбкой прибавил епископ, – его чары начинают сказываться на вас. Простите, но мне сдается, нынешняя ночь не принесла вам отдохновения, и посему ваши друзья лишены удовольствия радоваться вашему свежему и бодрому виду.
– Вы угадали, милорд. По этой или какой иной причине я с полуночи до четырех утра не сомкнул глаз. Как бы то ни было, завтра дерево срубят, и с любым дурным влиянием будет покончено раз навсегда.
– Горячо одобряю вашу решимость. Дышать воздухом, просеянным, так сказать, сквозь толщу листвы, не очень полезно для здоровья.
– Полагаю, вы правы, милорд. Однако ночью окно было закрыто. Какой-то шум не давал мне сомкнуть глаз… Наверное, ветки скребли по стеклу.
– Вряд ли, сэр Ричард, не думаю. Судите сами – отсюда хорошо видно: ни одна из ближайших к дому ветвей не достает до окна, разве только налетит штормовой ветер, чего прошлой ночью не наблюдалось. От кончиков веток до стекла добрый фут.
– А ведь верно, сэр. Тогда что же, скажите на милость, непрестанно скреблось и шуршало?.. Недаром запыленный карниз весь исчерчен следами.
В конце концов они сошлись на том, что не иначе как по плющу на карниз забрались крысы. Такое предположение выдвинул епископ, и сэр Ричард с готовностью его поддержал.
День прошел тихо-мирно, наступил вечер, и в положенный час гости разошлись по своим комнатам, пожелав сэру Ричарду провести ночь спокойнее, чем накануне.
Теперь вообразим, что мы в его спальне. Свет потушен, сквайр лежит в постели. Комната располагается прямо над кухней, и, поскольку ночь стоит теплая и безветренная, окно не закрыто.
Изголовье едва различимо, однако там происходит странное мельтешение, как если бы сэр Ричард почти беззвучно, но непрерывно качал головой. И вдруг вам начинает казаться – столь обманчив ночной полумрак, – что у него не одна, а несколько круглых бурых голов и все вразнобой раскачиваются вперед-назад, наклоняясь к самой груди. Должно быть, обман зрения, с содроганием думаете вы. И только? Смотрите! Что-то свалилось с кровати, мягко стукнулось об пол – по звуку точь-в-точь как котенок – и юркнуло в окно; за ним другое, третье, четвертое!.. И опять все вокруг замерло.
Завтра поищешь меня, и меня нет.
Сэра Ричарда постигла судьба сэра Мэтью – мертвый и черный лежал он наутро в своей постели.
Услышав ужасную новость, в саду под его окном сгрудились бледные, притихшие гости и домашние слуги. Вполголоса говорили об отравителях-итальянцах, папистских эмиссарах, заразном воздухе – каких только версий не звучало. Епископ Килморский задумчиво смотрел на ясень. В том месте, где от ствола отходили толстые нижние сучья, сидел белый кот, опустив голову к дуплу, которое неумолимые годы прогрызли в дереве, и с большим интересом разглядывал что-то внутри.
Внезапно кот вскочил и завис над краем дупла. Гнилая кромка проломилась под лапами, и незадачливое животное свалилось в дыру. Все повернулись на шум.
Большинству из нас хорошо известно, как кричат кошки, но я надеюсь, что немногим довелось слышать такой истошный вопль, какой раздался в тот миг из ствола старого ясеня. Вернее, воплей было два или три (на сей счет мнения свидетелей расходятся), а после доносился только глухой шум возни – или драки. Леди Мэри Харви тотчас лишилась чувств; экономка, зажав уши руками, со всех ног кинулась прочь и бежала, пока не рухнула без сил на террасе.
Епископ Килморский и сэр Уильям Кентфилд не сошли с места, хотя даже у них внутри что-то дрогнуло – разумеется, исключительно от громкого кошачьего крика. Сэр Уильям сглотнул пару раз, прежде чем сумел вымолвить:
– Внутри этого дерева не все чисто, милорд. Я предлагаю немедленно провести расследование.
На том и порешили, распорядившись принести лестницу. Один из садовников полез наверх, заглянул в дупло, но ничего толком не увидел, кроме какого-то копошения внизу. Тогда отправились за фонарем и веревкой.
– Мы должны добраться до сути. Голову даю на отсечение, милорд, тайна ужасных смертей кастрингемских сквайров – там, в этом дупле!
Садовник снова полез на дерево и осторожно спустил на веревке фонарь в таинственную дыру. Потом заглянул внутрь. Зрители могли наблюдать, как лицо его озарилось желтым отсветом и все черты свела гримаса неизъяснимого ужаса и отвращения. Закричав не своим голосом, бедняга свалился с лестницы (по счастью, его поймали стоявшие внизу работники), а фонарь вместе с веревкой упал в дупло.
Садовник пребывал в глубоком беспамятстве, и прошло немало времени, прежде чем он смог что-то поведать.
Но еще раньше зрителей ждало поистине яркое зрелище. Вероятно, ударившись о дно, фонарь разбился, и от огня занялись сухие листья и древесная труха, потому что из дупла повалил густой дым, а чуть позже пробилось и пламя. Короче говоря, в считаные минуты дерево было объято огнем.
Отступив на безопасное расстояние, зрители встали в круг. Сэр Уильям и епископ приказали всем срочно вооружиться кто чем может, ибо не сомневались: какая бы нечисть ни устроила в дереве свое логово, она будет изгнана огнем.
Так и случилось. Сперва возле сучьев у края дупла возникло охваченное пламенем шарообразное существо размером с человеческую голову – возникло на миг и пропало, должно быть сорвавшись вниз; и так пять или шесть раз подряд. Потом другой шар взвился в воздух и упал на траву, где через мгновение замер навеки. Епископ приблизился, насколько ему хватило смелости, и увидел… гигантского мертвого ядовитого паука, уже наполовину обугленного! И по мере того, как огонь затихал, от ствола отделялось все больше этих тварей, покрытых, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, серо-бурыми волосками.
Старый ясень горел весь день, пока не развалился на куски, и все это время люди стояли вокруг и добивали мерзких пауков, нет-нет да и выскакивавших наружу. Наконец наступила длительная пауза: знать, логово опустело. Теперь предстояло тщательно обследовать корни. Людское кольцо начало медленно сжиматься вокруг пожарища.
«В земле под деревом, – свидетельствует епископ Килморский, – обнаружили округлую полость с двумя-тремя дохлыми тварями, которые задохнулись в дыму. Но куда более примечательной для меня была другая находка: на дне, вплотную к стене норы, лежал скорченный скелет человеческого существа – обтянутый высохшей кожей и с клочками черных волос на голове. Исследовавшие его ученые-патологоанатомы с уверенностью заявили, что это мумифицированные останки женщины, умершей примерно пятьдесят лет назад».
Номер 13
Среди городов Ютландии Виборг пользуется заслуженной славой. Это центр епархии с красивым, хотя и почти заново отстроенным собором, чудесным садом, живописным озером и аистами, которых здесь великое множество. Неподалеку Хальд – едва ли не главная природная достопримечательность Дании; совсем рядом Финдеруп, где марск Стиг лишил жизни короля Эрика Клиппинга в День святой Цецилии в 1286 году. В семнадцатом веке могилу Эрика открыли, и на его черепе насчитали пятьдесят шесть отметин от ударов булавой с кубическим навершием… Впрочем, я не собираюсь писать путеводитель.
В Виборге есть отличные гостиницы, «Прейслерс» и «Феникс», где вас обслужат по первому разряду. Но мой кузен, о котором пойдет речь, в свой первый приезд в Виборг остановился в «Золотом льве». С тех пор он туда ни ногой, и причина его устойчивой неприязни будет, наверное, понятна из последующих страниц.
«Золотой лев» – одно из немногих городских зданий, уцелевших во время разрушительного пожара 1726 года; огонь практически полностью уничтожил собор, приходскую церковь, ратушу, да почти все, что было здесь древнего и замечательного. Гостиница сложена из красного кирпича, вернее, у нее кирпичный фасад с высоким ступенчатым щипцом и каменной плитой с названием над входом; но двор, куда заезжает омнибус, черно-белый, фахверковый – дерево и штукатурка.
Когда кузен направился к парадным дверям, импозантный фасад, целиком освещенный вечерним солнцем, предстал перед ним во всей красе. Кузен пришел в восторг от духа седой старины, которым на него повеяло, и заранее поздравлял себя с приятнейшим и несомненно занятным времяпрепровождением в этом «постоялом дворе», столь типичном для старой Ютландии.
В Виборг мистера Андерсона, моего кузена, привели дела, однако не в привычном толковании этого слова. Занимаясь изысканиями по истории датской церкви, он узнал, что в виборгском архиве хранятся спасенные из огня документы, относящиеся к последним дням католицизма в Дании. Он планировал провести в городе две, а то и три недели, чтобы внимательно все изучить и снять себе копии, и очень надеялся, что в «Золотом льве» найдется для него просторный номер, способный служить одновременно и спальней, и кабинетом. Он изложил свои пожелания хозяину гостиницы, и тот после некоторых раздумий предложил ему самому взглянуть на самые вместительные номера и выбрать один на свой вкус. Мистер Андерсон охотно согласился.
Верхний этаж почти сразу был отвергнут – гостю показалось, что после целого дня трудов слишком высоко взбираться по лестнице будет утомительно; на третьем этаже комнаты нужного размера не оказалось; зато на втором было на выбор сразу две или три, все более чем пригодные.
Хозяин настоятельно рекомендовал номер 17, но мистеру Андерсону не понравилось, что окна смотрят на глухую стену соседнего дома и во второй половине дня в комнате будет темно. Номер 12 или номер 14 куда как лучше, рассудил он, – оба выходят на улицу, и даже если здесь немного шумно, с этим можно мириться ради прямого вечернего света и приятного вида из окна.
В конце концов выбор пал на номер 12. Как и в номерах по соседству, там было три окна, все по фасадной стене, отчего комната казалась необычайно вытянутой в длину, но, к счастью, потолок был высокий. Камин, разумеется, отсутствовал, зато имелась красивая, более или менее старинная чугунная печка; сбоку от нее висела картина с жертвоприношением Исаака Авраамом и с надписью вверху: «1 Bog Mose, Cap. 22»[9 - 1 Книга Моисеева, гл. 22 (дат.).]. Больше в комнате ничего замечательного не было, за исключением неплохой цветной гравюры, примерно 1820 года, с видом города Виборга.
Близилось время ужина, и Андерсон, совершив положенное омовение, спустился вниз; до гонга оставалось еще несколько минут. От нечего делать он принялся изучать список постояльцев. По датскому обычаю имена записывались мелом на большой грифельной доске, расчерченной на столбцы и строки; в начале каждой строки краской был вписан номер комнаты. Список имен не особенно впечатлял. Один адвокат, или сагфёрер, какой-то немец да коммивояжеры из Копенгагена. Единственное, что давало некоторую пищу для размышлений, – это отсутствие в перечне комнат тринадцатого номера; но и в этом наблюдении большой новизны не было – с подобным Андерсон уже не раз сталкивался в датских отелях. Интересно, подумал он, действительно ли предубеждение против злосчастного числа, хоть и общеизвестное, настолько широко укоренилось, что комнату с таким номером сдать затруднительно, и он решил напрямик спросить здешнего хозяина, часто ли ему самому или кому-то из его собратьев по профессии приходилось сталкиваться с отказом гостя селиться в тринадцатом номере.
Он ничего не рассказал мне (а я излагаю историю в точности так, как услышал от него) о своих впечатлениях от ужина, упомянул только, что вечером распаковывал и раскладывал вещи, книги и бумаги, но это малоинтересно. Ближе к одиннадцати Андерсон собрался было лечь в постель, однако тут вышла маленькая заминка. По примеру многих других в наши дни мой кузен взял себе за правило читать перед сном и свято верил в то, что без нескольких страниц печатного текста ему ни за что не уснуть, а нужная книга – которую он читал в поезде и заменить которую никакая другая, конечно же, не могла – осталась, как назло, в кармане пальто, на вешалке перед входом в столовую.
Сбегать вниз за книгой было минутным делом, и, поскольку света в коридорах хватало, он без труда нашел дорогу назад, к собственной двери. Так он считал, по крайней мере, пока не повернул ручку и не толкнул дверь: она упрямо не хотела открываться, и он с удивлением услышал, как кто-то словно бы метнулся к ней изнутри. Все ясно – он просто ошибся. Где же его комната – правее, левее? Он взглянул на номер и увидел: «13». Следовательно, его комната должна быть слева. Там она и была. И только позже, когда он улегся в постель, и прочел свои вожделенные три-четыре страницы, и задул лампу, и повернулся на бок, его вдруг осенило: стало быть, вопреки тому, что на гостиничной доске внизу номер 13 не значится, комната с таким номером в гостинице определенно есть! Он даже пожалел, что сам не занял ее. Возможно, он оказал бы небольшую услугу хозяину, дав ему в будущем шанс с полным основанием ссылаться на почтенного английского джентльмена, который три недели жил в тринадцатом номере и остался весьма им доволен. Впрочем, не исключено, что комнату использовали как помещение для слуг или для каких-нибудь хозяйственных нужд. Скорее всего, она не такая просторная, как его нынешний номер. И он сонным взглядом обвел комнату, довольно хорошо различимую в полусвете от уличного фонаря. Странная вещь, подумал он, при тусклом освещении комнаты обычно кажутся больше, чем при ярком, а эта как будто сжалась в длину и на столько же выросла в высоту. Чудеса, да и только. Но ему пора было спать, а не строить догадки, и он уснул.
На следующий день Андерсон пошел в атаку на местный архив. Встретили его, по датскому обыкновению, очень радушно, и все, чего бы он ни пожелал, готовы были предоставить ему без лишних проволочек. Разложенные перед ним документы превзошли самые смелые его ожидания. Помимо множества официальных бумаг, здесь была увесистая связка писем – вся сохранившаяся переписка последнего в стране католического епископа Йоргена Фриса, из которой можно было извлечь массу любопытных и, как еще выражаются, «интимных» подробностей жизни и личности датского прелата. Судя по письмам, в городе тогда только и говорили что о некоем доме, которым епископ владел, но в котором сам не жил. Жилец же явно пользовался дурной славой и стал костью в горле местных церковных реформистов. Он порочит наш город, возмущались они, он совершает тайные богопротивные ритуалы, он продал душу врагу рода человеческого. И если этот змей и упырь, этот трольман пользуется покровительством и кровом епископа, то в какую же зловонную яму скверны и суеверия скатилась Вавилонская церковь! Епископ оказался не из пугливых и за словом в карман не лез. По его уверениям, он и сам сурово порицал колдовство и прочую мерзость и призывал своих противников вынести дело на рассмотрение надлежащего суда – церковного, разумеется, – дабы вызнать всю подноготную. Он, епископ, готов первый во всеуслышанье осудить магистра Николаса Франкена, если будут представлены доказательства его вины хотя бы в одном из тех преступлений, которые ему огульно приписывают.
Андерсон успел лишь бегло взглянуть на следующее письмо за подписью предводителя протестантской партии Расмуса Нильсена (рукописный отдел уже закрывался), однако ухватил его общий смысл, сводившийся к тому, что нынешним христианам римские епископы не указ и что епископский суд более не может и не должен служить надлежащей и компетентной инстанцией для разбирательства столь серьезного, столь тяжкого преступления.
Архив Андерсон покинул в сопровождении пожилого господина – директора этого достойного учреждения; по дороге они разговорились, и речь естественным образом зашла об упомянутых мной бумагах.
Герр Скавениус, главный архивариус Виборга, в общем и целом прекрасно осведомленный о вверенных его заботам документах, не был специалистом по периоду Реформации. Он с живейшим интересом выслушал рассказ Андерсона о его находках, заранее предвкушая удовольствие от грядущей научной публикации.
– Пресловутый дом епископа Фриса, – кстати заметил он, – большая загадка для меня. Ума не приложу, где он стоял. Я тщательно изучил топографию старого Виборга, но, на беду, в реестре епископских владений от тысяча пятьсот шестидесятого года, который сохранился в нашем архиве почти полностью, именно раздела с перечнем его городского имущества и недостает. Ну да ладно. Может быть, удача мне еще улыбнется.
Немного «размяв ноги» (я теперь уже не припомню где и как), Андерсон вернулся в гостиницу «Золотой лев» – поужинать, разложить пасьянс и лечь спать. По пути в свою комнату он вдруг сообразил, что так и не поговорил с хозяином про отсутствующий на доске номер 13 и что, прежде чем поднимать эту тему, неплохо было бы еще раз убедиться в наличии тринадцатого номера.
Исполнить задуманное было проще простого. Вот дверь, а вот и номер, все очевидно; больше того, внутри, за дверью, определенно что-то происходило: подойдя ближе, Андерсон услышал шаги и голоса – или голос. Правда, когда он на несколько секунд застыл на месте удостовериться в номере комнаты, шаги внутри замерли, явно у самой двери, и он невольно вздрогнул, услышав частое, с присвистом дыхание, – так дышит человек, пребывающий в крайнем возбуждении. Андерсон проследовал к себе в комнату и вновь изумился, насколько меньше она кажется теперь, чем тогда, когда он остановил на ней свой выбор. Он даже испытал легкий укол разочарования. Но в конце концов, успокоил он себя, номер всегда можно поменять. И тут ему понадобилось достать какую-то мелочь (носовой платок, если не ошибаюсь) из дорожного саквояжа, который растяпа-носильщик поставил в самом неудобном месте – на шаткий трехногий табурет у стены в противоположном от кровати углу. Поразительная вещь – саквояжа нигде не было. Не в меру расторопная прислуга куда-то его убрала; значит, все содержимое переложено в шкаф. Нет, и там ничего, хоть лопни с досады. Мысль о краже он тотчас же отмел. Такие случаи в Дании исключительно редки, дело скорее в недомыслии (это здесь как раз не редкость), надо будет поставить горничной на вид. Понадобившаяся ему вещица была не так уж важна для его комфортного существования, чтобы не подождать с этим до утра, поэтому он счел за лучшее не звонить и не беспокоить прислугу. Он подошел к окну – крайнему правому окну – и выглянул наружу, на притихшую улицу. Напротив высилось здание с большими участками голой, без окон, стены; ни одного прохожего, ночь, темень, почти ничего нельзя было различить.
Лампа в комнате горела у него за спиной, и на стене дома напротив он видел собственную тень. И тень бородатого господина из номера 11, слева по коридору. Бородач раз-другой прошел по комнате в рубашке без сюртука, расчесал волосы, потом снова ненадолго возник – теперь в ночной сорочке. И еще тень постояльца в номере 13, справа от Андерсона. Так-так, это уже кое-что поинтереснее, подумал мой кузен. Номер 13, как и он сам, облокотившись на подоконник, смотрел из окна на улицу. Похоже, это был высокий худой мужчина – или, может статься, женщина? Андерсон видел только голову, обмотанную материей, вероятно, взамен ночного колпака; и лампа у него или у нее была, судя по всему, с красным абажуром и непрерывно мерцала. На голой стене напротив красноватый отсвет то вспыхивал, то пропадал какими-то нервными вспышками. Андерсон немного высунулся из окна в надежде получше рассмотреть соседа, но углядел на подоконнике только ворох легкой, скорее всего, белой ткани, и больше ничего.
Вдалеке на улице послышались шаги, они быстро приближались, и номер 13, словно очнувшись и устыдившись своего непрезентабельного вида, молниеносно отпрянул от окна внутрь, и красный свет потух. Андерсон докурил сигарету, положил окурок на подоконник и лег в постель.
Его разбудила горничная, которая принесла ему горячую воду и прочее для утреннего туалета. Он приподнялся на кровати и, составив в уме нужную датскую фразу, произнес, отчетливо выговаривая каждое слово:
– Вы не должны трогать мой саквояж. Где он?
Как нередко бывает, горничная только рассмеялась и, не дав вразумительного ответа, вышла за дверь.
От возмущения Андерсон сел в постели с намерением окликнуть ее, да так и замер, неподвижно глядя перед собой. Его саквояж как ни в чем не бывало стоял на своей треноге ровнехонько там, где его в первый день оставил носильщик. Для человека, который гордится своей наблюдательностью, это был чувствительный удар. Каким образом он ухитрился не заметить саквояж накануне вечером, он просто отказывался понимать; так или иначе, пропажа нашлась.
Дневной свет не только возвратил из небытия саквояж, он вернул комнате в три окна ее истинные пропорции, и жилец с удовлетворением отметил, что в своем выборе все-таки не ошибся. Почти одевшись, он подошел к среднему из трех окон посмотреть, какая погода. И тут его постиг еще один удар. Определенно, прошлым вечером что-то стряслось с его наблюдательностью. Он готов был поклясться десять раз кряду, что перед сном курил у крайнего правого окна, и вот теперь он собственными глазами видел окурок сигареты на подоконнике среднего.
Пора было идти на завтрак. Он запаздывал, однако номер 13 припозднился и того больше: его башмаки все еще стояли за дверью, мужские башмаки. Значит, номер 13 – мужчина. И только сейчас Андерсон краем глаза заметил табличку над дверью: «14». Должно быть, он по рассеянности миновал дверь номера 13. Три глупейшие ошибки за двенадцать часов – это чересчур для методичного, ясно мыслящего человека. И он повернул назад проверить себя. Сразу за номером 14 оказался номер 12, его собственный. Номера 13 не было вовсе.
Перебрав в уме одно за другим все, что он ел и пил в течение суток, Андерсон решил на время забыть о странной загадке. Если его зрение или разум начали сдавать, он еще успеет в этом убедиться; если же дело в ином, тогда ему повезло столкнуться с прелюбопытным явлением. И в том и в другом случае дальнейший ход событий заслуживал самого пристального внимания.
В дневные часы он вновь углубился в корреспонденцию епископа, о которой я уже коротко рассказал. К его разочарованию, переписка оказалась неполной. Ему удалось обнаружить еще только одно письмо, относящееся к делу магистра Николаса Франкена. Епископ Йорген Фрис писал Расмусу Нильсену:
«Хотя мы ни в коей мере не согласны с Вашими измышлениями по поводу нашего суда и всегда готовы дать Вам решительный отпор, в настоящее время, поскольку наш любезный и досточтимый магистр Николас Франкен, супротив которого Вы смеете выдвигать насквозь лживые и злокозненные обвинения, внезапно покинул нас, сей предмет обсуждению не подлежит. Но ежели Вы и впредь посмеете клеветнически заявлять, будто бы святой апостол и евангелист Иоанн в своем боговдохновенном Откровении вывел Римско-католическую церковь в образе и символе вавилонской блудницы, тогда пеняйте на себя…» и т. д.
Как Андерсон ни искал, он так и не сумел найти продолжения этой полемики, ни единой подсказки о причине или характере таинственного исчезновения casus belli[10 - Повода к войне (лат.).], который столь внезапно покинул поле брани. Оставалось предположить, что Франкен неожиданно умер, и, поскольку последнее письмо Нильсена – написанное, несомненно, при жизни Франкена – от ответа епископа отделяло всего два дня, смерть явно наступила скоропостижно.
Ближе к вечеру Андерсон ненадолго наведался в Хальд и выпил чаю в Беккелуне; и за весь этот день, пребывая в довольно взвинченном состоянии, он не заметил, однако, никаких тревожных признаков надвигающейся слепоты или слабоумия, каковые всерьез опасался в себе обнаружить после утренней путаницы.
За ужином он оказался рядом с хозяином гостиницы.
– Объясните мне, – сказал он после дежурного обмена двумя-тремя незначащими фразами, – почему в большинстве датских гостиниц номер тринадцать исключен из перечня комнат? Вот и у вас его тоже нет.
Хозяин очень оживился:
– Кто бы мог подумать, что вы замечаете такие вещи! Признаюсь, я и сам задавал себе этот вопрос. Лично я считаю, что образованному человеку нет дела до глупых суеверий. Взять меня: еще когда я ходил в школу здесь, в Виборге, наш учитель и слышать не желал о подобной чепухе. Ну да его уж нет, давно умер… А какой человек был, просто золото, честный, принципиальный, и, между прочим, не только головой умел работать, но и руками. Помню, как мы, мальчишки, – зимой было дело, снегу намело…
И он ударился в воспоминания.
– Так, по-вашему, никаких веских причин исключать номер тринадцать не имеется?
– Нет, конечно. Но видите ли, в чем загвоздка… К примеру, меня к гостиничному делу приобщил мой отец. Сначала он держал гостиницу в Орхусе, а потом, когда родились дети, перебрался в Виборг, он ведь отсюда родом и до самой смерти держал «Феникс», до тысяча восемьсот семьдесят шестого года то есть. Тогда я и открыл свое дело в Силькеборге, а эту гостиницу купил всего в позапрошлом году.
Засим последовал обстоятельный рассказ о том, в каком состоянии ему достались дом и дела, когда он прибрал их к своим рукам.
– Так что же, когда вы здесь появились, был среди номеров тринадцатый?
– Нет, что вы. Я как раз к этому и веду. Видите ли, в гостиницах вроде нашей останавливаются в основном странствующие коммерсанты, у них вся жизнь на колесах. Попробуйте поселить эту публику в номер тринадцать! Да они скорее согласятся провести ночь на улице. Конечно, если вы спросите меня, то мне ровным счетом все равно, какой номер написан у меня над дверью, о чем я им так прямо и говорю; но они знай твердят, что это число несчастливое. У них всегда наготове сотни историй про то, как один их товарищ-коммивояжер заночевал в тринадцатом номере и с тех пор ходит сам не свой, а другой растерял всех своих клиентов, а третий… словом, что-нибудь да стрясется, не то, так это, – закруглил свою тираду хозяин, не припомнив иного выразительного примера.
– В таком случае для каких надобностей вы используете свой тринадцатый номер? – поинтересовался Андерсон, поймав себя на странном волнении, несоразмерном ничтожности вопроса.
– Мой тринадцатый номер? Но мы же с вами о том и толкуем, что здесь нет никакого тринадцатого номера. Мне казалось, вы это уже заметили. Ведь он был бы по соседству с вашим.
– Да, верно, только почему-то я думал… вернее, мне показалось, вчера вечером, что я видел в коридоре дверь с номером тринадцать. Честно говоря, я почти уверен, что не ошибся, потому что и в первую ночь я ее тоже видел.
Разумеется, как Андерсон и ожидал, герр Кристенсен от души посмеялся и снова, очень терпеливо и членораздельно, повторил, что в его гостинице номера 13 нет и никогда не было – ни при нем, ни до него.
Его уверенность несколько успокоила Андерсона, хотя и не вполне, и он подумал, что наилучшим способом выяснить раз и навсегда, действительно ли он поддался странной галлюцинации, было бы пригласить хозяина к себе в номер выкурить сигару перед сном, тем более что у него имелся вполне удобный предлог – фотографии с видами английских городов, которые он взял с собой в поездку.
Герр Кристенсен был польщен и с готовностью принял приглашение. Они условились встретиться около десяти, а прежде Андерсон хотел написать несколько писем. С тем они и расстались. Вопрос о существовании номера 13 начал до такой степени нервировать моего кузена, что он, втайне сгорая от стыда, предпочел идти к своей комнате со стороны номера 11, дабы избавить себя от необходимости миновать злосчастную дверь – или то место, где, по логике, эта дверь должна была находиться. Войдя к себе, он быстро, с опаской обвел взглядом комнату, но ничего подозрительного не заметил, если не считать смутного ощущения, что комната опять стала меньше. Саквояж – или его отсутствие – проблемы уже не представлял: Андерсон самолично вынул из саквояжа все содержимое и задвинул его под кровать. Сделав над собой усилие, он выкинул из головы все мысли о номере 13 и сел писать письма.
Соседи вели себя относительно тихо. Время от времени в коридор отворялась дверь и на пол со стуком падала пара обуви, или же мимо, мурлыкая что-то себе под нос, шествовал постоялец-коммивояжер, а то еще за окном протарахтит по разбитой булыжной мостовой телега или по каменной плитке тротуара простучат торопливые шаги.
Андерсон покончил с письмами, заказал в номер виски с содовой, подошел к окну и задумчиво уставился на стену напротив, наблюдая за движением теней.
Насколько он помнил, в номере 14 поселился адвокат, солидный немногословный господин – даже за общим столом он обыкновенно отмалчивался, уткнувшись в стопку бумаг рядом с тарелкой. Однако наедине с собой он, как видно, привык давать волю своим необузданным порывам. Иначе с чего бы ему пускаться в пляс? Тень из окна соседней комнаты не оставляла сомнений в характере его ужимок. Снова и снова его худосочная фигура вскачь неслась мимо оконного проема – он размахивал руками и с необычайным проворством вскидывал тощую ногу. Кажется, он был без сапог, и, вероятно, паркет в его комнате был подогнан идеально: наружу не прорывалось ни звука. Сагфёрер герр Андерс Йенсен, отплясывающий у себя в гостиничном номере в десять часов вечера, – сюжет, достойный эпического полотна большого стиля; и мысли Андерсона, подобно мыслям Эмилии из «Удольфских тайн», сами собой «сложились в следующие строки»:
Вечером, в десять часов,
Заявляюсь к себе в отель.
Швейцары шепчут:
– Он нездоров!
Да чихать я на них хотел.
Дверь на ключ – и тотчас
Скидываю башмаки
И до утра пускаюсь в пляс.
Соседи, бранясь, не смыкают глаз,
Но мне ваши жалобы не указ:
Закон я знаю и чту, но вас
Не надо мне – и ваших гримас…
Подите вон, дураки![11 - Перевод С. Сухарева.]
Стихотворение, предложенное вниманию читателя, несомненно, вышло бы много длиннее, если бы в эту минуту в дверь не постучал хозяин гостиницы. Судя по его удивленному виду, герр Кристенсен, точно так же как немногим ранее Андерсон, заметил в комнате какую-то перемену. Однако он ничего не сказал. Английские фотографии вызвали у него горячий отклик и дали обильную пищу для воспоминаний о случаях из собственной жизни. Остается гадать, каким образом Андерсон сумел бы направить беседу в желаемое русло загадочного тринадцатого номера, если бы адвокат вдруг не запел – да еще таким дурным голосом, что оставалось предположить одно из двух: он либо мертвецки пьян, либо вконец ополоумел. Голос, который они оба явственно слышали, был высокий, по-козлиному тонкий и надтреснутый, – вероятно, певец давно не практиковался. О словах и мелодии говорить не приходилось. Голос то взмывал к пронзительным верхам, то снова ухал вниз с протяжным завыванием холодного зимнего ветра в печной трубе – или церковного органа, у которого внезапно лопнули мехи. Звук был до того жуткий, что Андерсон, окажись он в тот миг совсем один, наверняка выскочил бы вон искать убежища и поддержки у любого соседа-коммивояжера.
Хозяин застыл с раскрытым ртом.
– Ничего не понимаю, – наконец вымолвил он, утирая пот со лба. – Какой кошмар! Однажды я слышал нечто подобное, но грешил на кошку и оказался прав.
– Он сумасшедший? – спросил Андерсон.
– Выходит, что так. Ах, как жаль! Такой хороший постоялец, и весьма преуспел в своем деле, как я слыхал, и у него ведь семья, детей надо поднимать…
В дверь нетерпеливо постучали и, не дожидаясь приглашения, вошли. Это был адвокат – в одном исподнем и страшно взлохмаченный. Он весь кипел от негодования:
– Простите за вторжение, сударь, но я покорнейше прошу вас прекратить…
Он оборвал себя на полуслове, ибо сам сообразил, что ни один из находившихся в комнате не повинен в безобразии; а между тем после минутной паузы дикий шум возобновился с новой силой.
– Бога ради, что здесь творится? – вскричал адвокат. – Где это? Кто это? Уж не рехнулся ли я?
– По всей видимости, герр Йенсен, звук доносится из соседнего, то есть вашего, номера. Может быть, там у вас кошка провалилась в дымоход или еще что-то?..
Ничего умнее Андерсону в голову не пришло, хотя он первый признал бы, что его догадка не выдерживает критики, но это было все же лучше, чем просто стоять и слушать истошные завывания и смотреть на толстое, бледное лицо хозяина – беднягу прошиб холодный пот, и он дрожал как в лихорадке, судорожно сжимая ручки кресла.
– Нет, исключено, – твердо сказал адвокат, – исключено. Никакого дымохода там нет. Я нагрянул к вам, поскольку не сомневался, что шум доносится отсюда, из соседнего номера.
– А между вами и мной нет еще одной двери? – быстро спросил Андерсон.
– Нет, сударь, – довольно резко ответил герр Йенсен. – Во всяком случае, нынче утром не было.
– Вот как! – не сдавался Андерсон. – А вечером?
– Не знаю, не уверен, – сказал адвокат после секундного колебания.
Внезапно пение – больше похожее на душераздирающие вопли – в соседней комнате прекратилось, и певец вдруг словно бы рассмеялся какой-то своей мысли тихим, вкрадчивым смехом. У троих слушателей мороз пробежал по коже. Потом все стихло.
– Ну-с, – язвительно начал адвокат, – что вы на это скажете, герр Кристенсен? Что все это значит?
– Боже мой, – запричитал Кристенсен, – да откуда мне знать? Я понимаю не больше вас, господа, и молю только об одном: никогда не слышать ничего подобного.
– Тут я с вами согласен, – буркнул герр Йенсен и что-то добавил вполголоса; Андерсону показалось, что он расслышал последние слова Псалтири – «omnis spiritus laudet Dominum»[12 - Всякое дыхание (Все дышащее) да хвалит Господа (лат.).]; впрочем, он мог ослышаться.
– Но нельзя же сидеть сложа руки, – заявил Андерсон, – нас трое, и мы все вместе должны что-то предпринять. Для начала давайте пойдем и осмотрим соседнюю комнату.
– Но это же номер герра Йенсена, – жалобно возразил хозяин. – Что проку туда идти, ведь он сам только что оттуда.
– Я теперь ни в чем не уверен, – сказал Йенсен. – Думаю, джентльмен прав: нужно пойти и проверить.
Из подручных средств обороны имелись трость и зонт. Вооружившись ими, отряд опасливо выступил в коридор. Там царила мертвая тишина, но из-под соседней двери пробивался свет. Андерсон и Йенсен приблизились к ней вплотную. Адвокат повернул ручку и резко толкнул дверь от себя. Бесполезно – дверь не поддалась.
– Герр Кристенсен, – обратился к хозяину Йенсен, – вам придется пойти разбудить кого-то из обслуги – мужчину, и покрепче. Приведите его, мы обязаны с этим разобраться.
Хозяин молча кивнул и засеменил прочь, рад-радехонек убраться подальше от места боевых действий. Йенсен и Андерсон остались возле двери.
– Вот видите, – сказал Андерсон, – номер тринадцать!
– Да, ваша дверь вон там, а моя там.
– У меня в комнате три окна… в дневное время, – подавив нервный смешок, с запинкой вымолвил Андерсон.
– Ну и ну – такая же картина и у меня! – изумился адвокат.
Он на секунду оторвал взгляд от двери и уставился на Андерсона. Теперь он стоял к двери спиной. Внезапно она отворилась, из щели выпросталась рука и вцепилась ему в плечо, точно клешня. На руке болтались ветхие, пожелтевшие лохмотья, а кожа была сплошь покрыта длинными седыми волосами.
Вскрикнув от ужаса и отвращения, Андерсон едва успел вырвать Йенсена из железной хватки, как дверь снова захлопнулась и за ней послышался утробный хохот.
Йенсен ничего не видел, но, когда Андерсон сбивчиво объяснил ему, какой опасности он чудом избегнул, спасенный адвокат так разволновался, что предложил отказаться от рискованного предприятия и поскорее запереться в одном из номеров – либо у него самого, либо у Андерсона.
Однако, пока он излагал свой план, к месту событий подоспел хозяин с двумя дюжими работниками; вид у этой троицы был серьезный и встревоженный. Йенсен встретил их бурным потоком описаний и объяснений, и нельзя сказать, что это возбудило в них желание поскорее ввязаться в бой.
Работники тотчас побросали предусмотрительно взятые с собой ломики и без обиняков заявили, что не собираются рисковать головой и лезть в лапы к дьяволу. На хозяина было жалко смотреть, он вконец растерялся и не понимал, как быть: если сейчас отступить перед опасностью, его гостинице крышка, но геройствовать и самому идти на штурм отчаянно не хотелось. По счастью, Андерсон в порыве вдохновения нашел способ поднять боевой дух деморализованного воинства.
– И это, – насмешливо сказал он, – хваленая датская доблесть, о которой я столь наслышан? Там, за дверью, даже не немец, а если бы и немец – нас пятеро против одного!
Расчет оказался верен – работники вместе с Йенсеном, крякнув, навалились на дверь.
– Погодите! – скомандовал Андерсон. – Нельзя терять голову. Вы, хозяин, станьте здесь с лампой, а из вас двоих один пусть ломает дверь, но когда дело будет сделано, сразу не входите!
Работники мрачно кивнули в знак согласия, и тот, что помоложе, шагнул вперед, поднял свой ломик и со всей силы обрушил его на верхнюю дверную панель. Вопреки ожиданиям ни треска, ни хруста расколовшегося дерева они не услышали – только глухое «бум», словно ударили в каменную стену. Испуганно вскрикнув, парень бросил свое орудие и схватился за локоть. Все глаза как по команде устремились на него, но уже в следующее мгновение Андерсон вновь перевел взгляд на дверь. Ее не было. Он в упор смотрел на оштукатуренную стену коридора с порядочной выбоиной в том месте, куда пришелся удар. Номер 13 исчез без следа.
Они стояли в оцепенении, молча глядя на стену. Внизу, во дворе, пропел первый петух, и, обернувшись на звук, Андерсон сквозь окошко в конце длинного коридора увидел, что небо на востоке уже бледнеет и, значит, скоро начнет светать.
– Быть может, – робко произнес хозяин гостиницы, – господам угодно провести остаток ночи в свободном номере? Там, правда, одна двуспальная кровать.
Ни Йенсена, ни Андерсона предложение не смутило. После всего пережитого оба предпочитали не разлучаться. И пока один у себя в номере собирал необходимые мелочи, которые могут понадобиться на время ночлега, второй держал свечу. Они мимоходом отметили, что в номере 12 и в номере 14 было по три окна.
На следующее утро вчерашняя компания в полном составе собралась в номере 12. Хозяин гостиницы, естественно, меньше всего желал бы привлекать стороннюю помощь, и в то же время требовалось безотлагательно выяснить, какая тайна сокрыта в этой части здания. В итоге на двух давешних молодцов из обслуги возложили обязанности плотников. От стены отодвинули мебель и, безвозвратно испортив изрядную часть паркета, подняли пол в той трети комнаты, которая примыкала к номеру 14.
Вы, конечно, приготовились услышать, что под полом обнаружили скелет – скажем, магистра Николаса Франкена. Отнюдь. Кое-что, впрочем, нашли: в углублении между половыми балками стоял небольшой медный ларец, а в нем лежал аккуратно сложенный лист пергамента с какими-то записями, всего строчек двадцать. Оба, Андерсон и Йенсен (палеограф-любитель, как выяснилось), пришли от находки в сильное возбуждение, ибо надеялись с ее помощью открыть ключ к разгадке необычных явлений, свидетелями которых им довелось стать.
У меня дома уже десять лет хранится фолиант с неким астрологическим сочинением; сам я прочесть его так и не удосужился. На фронтисписе гравюра Ганса Зебальда Бехама – мудрецы, сидящие вкруг стола. По этой детали знатоки, возможно, догадаются, о какой книге идет речь. Название ее я запамятовал, а книги у меня под рукой нет; но суть не в этом, а в том, что форзацы ее испещрены письменами и за все десять лет мне так и не удалось установить, где верх, а где низ, и уж подавно – на каком языке все это написано. Примерно в таком же положении оказались Йенсен с Андерсоном, бившиеся над документом из медного ларца.
Через два дня напрасных усилий Йенсен, обладавший из них двоих духом более дерзновенным, рискнул выдвинуть гипотезу, что язык документа либо латынь, либо древнедатский.
Андерсон от выводов воздержался и высказался за то, чтобы передать ларец с пергаментом музею виборгского Исторического общества.
О своем датском приключении он поведал мне несколько месяцев спустя, когда мы сели передохнуть, прогуливаясь по лесу в окрестностях Упсалы после визита в тамошнюю библиотеку, где наткнулись на старинный договор, по которому некто Даниэль Сальтениус (впоследствии профессор древнееврейского в Кёнигсберге) продал душу Сатане; я очень смеялся, но Андерсон никакого повода для веселья здесь не видел.
– Молодой дуралей! – сердито бросил он, имея в виду Сальтениуса, который был всего-навсего студентом, когда совершил сей опрометчивый шаг. – Да понимал ли он, с кем вздумал шутки шутить?
На все мои досужие резоны он только махнул рукой. Позже, на прогулке, он рассказал мне то, что вы сейчас прочли. Он не захотел признаться мне, какой урок извлек из этой истории, а моя точка зрения его не убедила.
Граф Магнус
Как попали в мои руки бумаги, из которых я вывел связный рассказ, читатель узнает в самую последнюю очередь. Однако мои выписки необходимо предварить сообщением о том, какого рода эти бумаги.
Итак, они представляют собой отчасти материалы для книги путешествий, какие во множестве выходили в сороковые и пятидесятые годы. Прекрасным образцом литературы, о которой я веду речь, служит «Дневник пребывания в Ютландии и на Датских островах» Хораса Марриэта. Обычно в этих книгах рассказывалось о каком-нибудь неизведанном месте на континенте. Они украшались гравюрами на дереве и на стальных пластинах. Они сообщали подробности о гостиничном номере и дорогах, каковые сведения мы теперь скорее найдем в любом хорошем путеводителе, и основное место в них отводилось записям бесед с умными иностранцами, колоритными трактирщиками и общительными крестьянами. Словом, это были книги-собеседники.
Начатые с целью доставить материал для такой книги, попавшие ко мне бумаги постепенно приняли форму отчета о единственном, коснувшемся только одного человека испытании, к завершению которого и подводил этот отчет.
Пишущим был некто мистер Рексолл. Я знаю о нем ровно столько, сколько позволяют узнать его собственные записи, и из них я заключаю, что это был пожилой человек с некоторым состоянием и один-одинешенек на целом свете. Своего угла в Англии у него, похоже, не было, он скитался по гостиницам и пансионам. Он, возможно, предполагал когда-нибудь обосноваться на одном месте, но так и не успел; сдается мне, пожар на мебельном складе «Пантекникон» в начале семидесятых годов уничтожил многое из того, что могло пролить свет на его прошлое, поскольку он раз-другой поминает имущество, сданное туда на хранение.
Выясняется также, что мистер Рексолл в свое время опубликовал книгу о вакациях в Бретани. Ничего более об этом труде я не могу сообщить, поскольку усердный библиографический поиск оставил меня в убеждении, что книга выходила без имени автора либо под псевдонимом.
Нетрудно составить приблизительное представление о его личности. Это был умный и развитый человек, без пяти минут член совета своего колледжа – Брейзноуза, как мне подсказывает оксфордский ежегодник. Безусловно, его искусительной слабостью было излишнее любопытство – в путешественнике, может быть, простительная слабость, однако наш путешественник в итоге дорого заплатил за нее.
Приготовлением к новой книге как раз и было путешествие, ставшее для него последним. Его вниманием завладела Скандинавия, о которой сорок лет назад в Англии знали не очень много. Возможно, он набрел на старые книги по истории Швеции или мемуары и осознал надобность в книге, где странствия по этой стране перемежались бы рассказами про знатные шведские фамилии. Запасшись, как водится, рекомендательными письмами к некоторым шведским аристократам, он отбыл туда в начале лета 1863 года.
Нет нужды пересказывать, как он разъезжал по Северу или несколько недель просидел в Стокгольме. Следует лишь упомянуть о том, что некий тамошний savant[13 - Ученый (фр.).] навел его на ценный семейный архив, принадлежавший владельцам старого поместья в Вестергётланде, и исхлопотал для него разрешение поработать с документами.
Упомянутое поместье, или herrg?rd, мы здесь назовем R?b?ck (по-английски это звучит примерно как «Робек») – в действительности у него другое название. В своем роде это одно из лучших сооружений в стране, и на гравюре 1694 года, помещенной в «Suecia antiqua et moderna»[14 - «Швеция древняя и современная» (лат.).] Даленберга, сегодняшний турист признает его сразу. Поместье было построено вскоре после 1600 года и в рассуждении материала близко тогдашнему домостроительству в Англии: красный кирпич, облицованный камнем. Воздвиг его отпрыск знатного рода Делагарди, чьи потомки и поныне владеют им. Когда случится говорить о них, я так и буду их называть: Делагарди.
Мистера Рексолла они приняли уважительно и тепло и настаивали, чтобы он жил у них, пока будут продолжаться его занятия. Оберегая свою независимость и стесняясь плохо говорить по-шведски, он, однако, обосновался в деревенской гостинице, и житье там оказалось вполне сносным, во всяком случае в летнюю пору. Такое решение повлекло за собой ежедневные прогулки в усадьбу и обратно – это меньше мили. Сам дом стоял в парке, укрытый или, лучше сказать, теснимый громадными вековыми деревьями. Неподалеку, за стеной, раскинулся сад, дальше вы попадали в густую рощу, за ней сразу озерцо, какими изобилует тот край. Там уже начиналась пограничная стена, вы взбирались по крутому холму, кремнистую кручу чуть покрывала земля, и на самой вершине стояла церковь в окружении высоких темных деревьев. На взгляд англичанина, это было курьезное сооружение. Низкие неф и приделы, много скамей, хоры. На западных хорах стоял старый, пестро раскрашенный орган с серебряными трубами. На плоском потолке церкви художник семнадцатого столетия изобразил причудливо-кошмарный Страшный суд, смешав в одно языки пламени, рушащиеся города, горящие корабли, стенающие души и смуглых скалящихся чертей. С потолка свисали красивые бронзовые паникадила; кафедру, как кукольный домик, покрывали резные раскрашенные фигурки херувимов и святых; к аналою крепилась подставка с тройкой песочных часов. Подобное убранство вы увидите во множестве шведских церквей, только эта церковь выделялась пристройкой к основному зданию. У восточного края северного придела основатель поместья выстроил для себя и своих родственников мавзолей. Это восьмиугольное здание с круглыми оконцами под куполом, увенчанное неким подобием тыквы, из которого вырастает шпиль, – шведские зодчие обожают эту деталь. Купол снаружи медный и выкрашен черной краской, а стены мавзолея, как и церкви, ослепительно-белые. Из церкви нет входа в усыпальницу. С северной стороны у нее есть приступок и своя дверь.
Дорожка мимо кладбища ведет в деревню, и через три-четыре минуты вы у порога гостиницы.
В первый день своего пребывания в Робеке мистер Рексолл нашел дверь церкви открытой и сделал то описание внутреннего убранства, которое я привел здесь. Однако в усыпальницу ему попасть не удалось. В замочную скважину он лишь разглядел прекрасные мраморные изваяния и медные саркофаги с богатым гербовым орнаментом, чрезвычайно раздразнившим его любопытство.
Документы, обнаруженные им в поместье, были как раз того рода, какие требовались для его книги: семейная переписка, дневники, счета прежних владельцев с подробными, разборчивыми записями, с забавными и живописными деталями. Первый Делагарди представал в них сильной и одаренной личностью. Вскоре после строительства дома в округе настала нищета, крестьяне взбунтовались, напали на несколько замков, что-то пожгли и порушили. Владелец Робека возглавил подавление мятежа, и в записях упоминались суровые кары против зачинщиков, которые он учинил недрогнувшей рукой.
Портрет Магнуса Делагарди был одним из лучших в доме, и мистер Рексолл изучал его с интересом, не ослабевшим после целого дня работы с бумагами. Он не дает подробного описания, но я догадываюсь, что это лицо подействовало на него скорее силою выражения, нежели правильностью черт либо добродушием; да он и сам пишет, что граф был на редкость безобразен.
В тот день мистер Рексолл ужинал в усадьбе и возвратился к себе хотя и поздно, но еще засветло. «Не забыть спросить церковного сторожа, – пишет он, – не пустит ли он меня в усыпальницу. Он, безусловно, имеет туда доступ; я видел его вечером на ступенях, он, по-видимому, отпирал или запирал дверь».
Я выяснил, что утром следующего дня мистер Рексолл беседовал со своим хозяином. То, что он подробнейше это расписал, сперва меня удивило; потом уже я сообразил, что бумаги, которые я читаю, были, во всяком случае вначале, материалами к задуманной книге, а задумана она была в псевдоочерковом духе, где вполне допустимы диалоги вперемешку с прочим.
Целью мистера Рексолла, как он сам говорит, было выяснить, сохранились ли какие-либо предания о графе Магнусе в связи с его деятельностью и пользовался ли этот господин любовью окружающих или нет. Он убедился в том, что графа определенно не любили. Если арендаторы опаздывали на работы, их драли на «кобыле» либо секли и клеймили во дворе замка. Были один-два случая, когда люди занимали земли, краем заходившие в графские владения, после чего их дома таинственным образом сгорали зимней ночью со всеми домочадцами. Но сильнее всего запало трактирщику Черное Паломничество графа – он заговаривал о нем несколько раз, – откуда тот либо что-то привез, либо вернулся не один.
Вслед за мистером Рексоллом вы, естественно, заинтересуетесь, что такое Черное Паломничество. Однако на сей счет вам придется потерпеть, как терпел и мистер Рексолл. Хозяин был явно не расположен распространяться и даже заикаться на эту тему и, когда его вызвали на минуту, вышел со всей поспешностью, через малое время заглянув в дверь сказать, что его требуют в Скару и вернется он только вечером.
Так, не удовлетворив своего любопытства, мистер Рексолл отправился в усадьбу разбирать бумаги. Те, что попались ему в тот день, скоро отвлекли его мысли в сторону: это была переписка между Софией Альбертиной из Стокгольма и ее замужней кузиной Ульрикой Леонорой из Робека с 1705 по 1710 год. Письма представляли исключительный интерес, давая яркую картину шведской культуры того времени, что подтвердит всякий, кто читал их полное издание в публикациях Шведской комиссии исторических рукописей.
К вечеру он закончил с письмами и, вернув коробку на полку, естественным образом взял несколько ближайших томов, дабы определить, какими он будет заниматься назавтра в первую очередь. На той полке помещались главным образом хозяйственные книги, заполненные первым графом Магнусом. Впрочем, стояла там и книга другого рода – трактаты по алхимии и иным предметам, также написанные почерком шестнадцатого века. Не будучи знатоком подобной литературы, мистер Рексолл, не жалея места, безо всякой нужды выписывает названия и первые строчки этих трактатов: «Книга Феникс», «Книга тридцати слов», «Книга жабы», «Книга Мириам», «Turba philosophorum»[15 - «Ассамблея философов» (лат.).] и тому подобное, а затем столь пространно изъявляет свой восторг, обнаружив на листке в середине тома, первоначально не исписанном, рукою графа Магнуса начертанные слова: «Liber nigr? peregrinationis»[16 - «Книга Черного Паломничества» (лат.).]. Правда, там было всего несколько строк, но этого было достаточно, чтобы отнести предание, утром помянутое хозяином, во всяком случае ко временам графа Магнуса, и, возможно, хозяин ему верил. Вот те слова в переводе: «Желающий обрести долгую жизнь да обретет верного гонца и увидит кровь врагов своих, а вперед этого пусть отправится в город Хоразин и поклонится князю…» – тут было подчищено одно слово, но не до конца, и мистер Рексолл был почти уверен, что он правильно читает «?ris» («воздуха»). Запись обрывалась латинской фразой: «Qu?re reliqua hujus materiei inter secretiora» («Прочее об этом смотри в личных бумагах»).
Нельзя отрицать, что все это бросало довольно мрачный свет на вкусы и верования графа; однако в глазах мистера Рексолла, отделенного от него почти тремя столетиями, граф вырастал в еще более яркую фигуру, добавив к своему могуществу знание алхимии и обретя с нею что-то вроде магии; и когда, вдоволь наглядевшись на портрет в холле, мистер Рексолл отправился к себе в гостиницу, его мыслями целиком владел граф Магнус. Он не глядел по сторонам, его не пронимали ни вечерние лесные запахи, ни картины заката на озере, и когда он неожиданно остановился, то он изумился тому, что дошел почти до ворот кладбища и в нескольких минутах пути его ждет обед. Взгляд мистера Рексолла упал на мавзолей.
– А, – сказал он, – вот и вы, граф Магнус. Очень хотелось бы увидеться с вами.
«Как многие одинокие люди, – пишет он, – я имею привычку говорить с самим собою вслух, не ожидая ответа. Естественно и к счастью для меня, в этот раз ни голоса, ни ответа не прозвучало; только женщина, я думаю, прибиравшая церковь, уронила на пол что-то металлическое, и от этого звука я вздрогнул. А граф Магнус, я полагаю, спит крепким сном».
В тот же вечер хозяин гостиницы, знавший о желании мистера Рексолла повидаться со служкой, или дьяконом (как он именуется в Швеции), познакомил их у себя. Быстро договорившись осмотреть на следующий день склеп Делагарди, они еще некоторое время беседовали. Памятуя, что среди прочего шведские дьяконы готовят конфирмантов, мистер Рексолл решил освежить свои познания в Библии.
– Не скажете ли мне что-нибудь о Хоразине? – спросил он.
Дьякон озадачился, но тут же вспомнил, что место это было проклято.
– Само собой разумеется, – сказал мистер Рексолл, – сейчас городок лежит в руинах?
– Скорее всего, да, – ответил дьякон. – Старики-священники говаривали, что там народится Антихрист; существуют всякие истории…
– А! Какие же истории? – поспешил спросить мистер Рексолл.
– Я как раз хотел сказать, что все их перезабыл, – сказал дьякон и вскоре после этого распрощался.
Оставшийся один хозяин был целиком в распоряжении мистера Рексолла, который не собирался щадить его.
– Герр Нильсен, – сказал он, – мне попало в руки кое-что о Черном Паломничестве. Не откажите рассказать, что вам известно. Что привез с собой граф по возвращении?
Может, шведы вообще не спешат с ответом, а может, это была отличительная черта трактирщика – не знаю. Только мистер Рексолл отмечает, что хозяин с минуту смотрел на него, прежде чем заговорил снова. Он приблизился к своему постояльцу и с видимым усилием сказал:
– Мистер Рексолл, я расскажу вам одну маленькую историю, но только одну, не больше, и ни о чем не расспрашивайте меня после. При жизни моего деда – это, значит, девяносто два года назад – некие два человека сказали: «Граф давно мертв, мы его не боимся. Сегодня ночью пойдем на охоту в его лес». Это та дубрава на холме, что видна за Робеком. А те, кто их слышал, сказали: «Не ходите. Там наверняка бродят люди, которым бродить не положено. Им положено лежать смирно, а не бродить». Но те двое рассмеялись. Лесничих там не было, потому что в тот лес никто не ходил. И здесь, в поместье, никого не было. Так что эта пара могла поступать, как ей заблагорассудится.
Ладно, той же ночью они ушли в лес. Мой дед сидел здесь, в этой комнате. Дело было летом, ночь стояла светлая; открыв окно, он видел лес и все слышал. И вот он сидел тут, и еще двое-трое с ним, и все слушали. Сначала они ничего не слышали. Потом слышат – а вы знаете, как это далеко, – слышат, кто-то завопил, да так, словно из него душу вырывали. Все, кто тут сидел, ухватились друг за друга и обмерли на три четверти часа. Потом еще слышат – сотнях в трех ярдов отсюда, – кто-то как захохочет! И это не из тех двоих, что ушли. Это вообще, говорят они, не человек хохотал. А потом услышали, как захлопнулась огромная дверь.
Когда взошло солнце, они все пошли к священнику. И говорят ему: «Облачайтесь, отче, и идемте хоронить их, Андерса Бьернсена и Ханса Торбьерна».
Они, понимаете, были уверены, что те двое уже покойники. И пошли они все в лес. Дед, сколько жил, помнил про это. Говорил, что они сами были как покойники. И священник был белый от страха. Когда они пришли к нему, он сказал: «Я слышал, как ночью один кричал. Слышал, как потом другой смеялся. Не будет мне больше сна, если я этого не забуду».
Итак, они пошли в лес и нашли тех двоих на опушке. Ханс Торбьерн стоял спиной к дереву и все отмахивался руками, словно отталкивал что-то невидимое. Он, выходит, остался живой. Они увели его, поместили в лечебницу в Нючёпинге, и к зиме он помер, а руками так и махал все время. И Андерса Бьернсена они нашли. Но этот был мертвый. И вот что я вам скажу про него, про Андерса Бьернсена: он был красивым мужчиной, а тут у него и лица не осталось, одни голые кости торчали. Представляете? Мой дед забыть этого не мог. Они положили его на носилки, которые были с ними, накрыли голову холстиной, и священник пошел впереди. И по пути они все запели, как могли, заупокойную молитву. Только пропели первый стих, один из тех, что шли впереди, вдруг упал, остальные оглянулись и видят: холстина съехала и на них во все глаза смотрит Андерс Бьернсен. Этого они вынести не смогли. Священник закрыл ему лицо, послал за лопатой, и они тут же, на этом месте, его и зарыли.
На следующий день, пишет дальше мистер Рексолл, дьякон прислал за ним после завтрака, и его повели к церкви и к усыпальнице. Он отметил, что ключ от мавзолея висит на гвоздике сбоку от кафедры, и тогда же подумал, что раз церковь, похоже, не запирается, то ему не составит труда одному наведаться к статуям раз и другой, если он сразу же не удовлетворит свой интерес. Помещение, куда он вошел, оказалось внушительным. Памятники большей частью представляли собой крупные изваяния семнадцатого-восемнадцатого веков, напыщенно-величавые, обильно украшенные эпитафиями и гербами. В центре сводчатого зальца стояли три медных саркофага, покрытые тонкой резьбы орнаментом. На крышках двух из них лежали, как это принято в Дании и Швеции, большие металлические распятия. На третьем же, где, как выяснилось, покоился граф Магнус, вместо распятия была вырезана его фигура в полный рост, а вокруг саркофага несколько рядов того же богатого орнамента представляли разные сцены. Один барельеф изображал сражение: пушка изрыгала клубы дыма, высились крепости, шли отряды копейщиков. На другом была представлена казнь. На третьем через лес бежал во всю мочь человек с развевающимися волосами и распростертыми руками. За ним двигалась странная фигура; художник будто намеревался изобразить человека, но ему не хватило на это умения, а может, его намерением было показать именно такое чудовище – трудно сказать. Признавая мастерство, с каким была выполнена вся сцена, мистер Рексолл склонялся ко второму предположению. Эта малорослая фигура была укутана в плащ с капюшоном, волочившийся по земле. Трудно было назвать рукой то, что торчало из этого куля. Вспомнив по этому поводу морского дьявола, то бишь осьминога, мистер Рексолл продолжает: «Увидев это, я сказал себе: если здесь представлена некая аллегория – например, дьявол преследует обреченную душу, – то это может быть навеяно историей графа Магнуса и его таинственного спутника. Посмотрим, каким-то предстанет охотник: это, несомненно, будет демон, дующий в свой рог». Однако этой тревожащей воображение фигуры не обнаружилось, лишь на холме, опершись на трость, стоял человек, закутанный в плащ, и наблюдал за охотой с явным интересом, который резчик попытался передать соответствующей позой.
Мистер Рексолл отметил также отличной работы массивные висячие замки – всего их было три, – оберегавшие покой саркофага. Один, он видел, разомкнулся и лежал на полу. Стесняясь задерживать дьякона и жалея тратить попусту рабочее время, он поспешил в усадьбу.
«Любопытно отметить, – пишет он, – что, возвращаясь знакомой дорогой, настолько уходишь в свои мысли, что абсолютно не замечаешь ничего вокруг. Сегодня вечером, уже во второй раз, я совершенно не отдавал себе отчета в том, куда иду (у меня было намерение одному зайти в гробницу и переписать эпитафии), и вдруг как бы пробудился и обнаружил, что снова стою перед воротами кладбища и, представьте себе, напеваю что-то вроде: „Вы не проснулись, граф Магнус?“, „Вы спите, граф Магнус“ – и уж не помню, что там еще. Похоже было, что этому нелепому времяпрепровождению я посвятил известное время».
Он нашел ключи от усыпальницы на месте, переписал многое из того, что хотел переписать, и, вообще говоря, работал, пока не стемнело.
«Я, должно быть, ошибся, – пишет он, – сказав, что разомкнулся один замок на саркофаге графа; вечером я увидел на полу два замка. Я поднял их и, не сумев закрепить, осторожно положил на подоконник. Оставшийся третий держался крепко, и, хотя, по всей видимости, это замок с пружиной, я не могу понять, как он открывается. Если бы мне удалось его отпереть, то, страшно сказать, я бы попытался открыть и саркофаг. Странно, как влечет меня к себе личность этого, боюсь, жестокого и мрачного дворянина».
Следующий день, как выяснилось, был последним днем пребывания Рексолла в Робеке. Он получил письма касательно своих капиталовложений, и выяснилось, что дела требуют его возвращения в Англию. Его работа с архивами практически завершилась, а путь предстоял долгий. Он решил нанести прощальные визиты, закончить свои записи и отправляться домой.
Визиты и завершение записей заняли больше времени, чем он предполагал. Гостеприимное семейство уговорило его отобедать с ними – они обедали в три часа, – и за железные ворота Робека мистер Рексолл вышел почти в половине седьмого. Сознавая, что в последний раз идет этой дорогой, он задумчиво шел берегом озера, стремясь сохранить в себе ощущение этого места и времени. Достигнув вершины кладбищенского холма, он долго стоял там, озирая бескрайнее море близких и дальних лесов, лежавших темной массой под бирюзовым небом. Когда он собрался уходить, ему неожиданно пришла мысль попрощаться и с графом Магнусом, и со всеми прочими Делагарди. Церковь находилась всего ярдах в двадцати, а где висит ключ от усыпальницы, ему было известно. Вскоре он стоял у большого медного надгробия, по обыкновению разговаривая с собою. «Может быть, в свое время вы были негодяем, Магнус, – говорил он, – но мне все равно хотелось бы вас увидеть или…»
«В этот самый миг, – пишет он, – я почувствовал удар по ноге. Я довольно проворно отдернул ее, и что-то со стуком упало на пол. Это разомкнулся на саркофаге последний, третий замок. Я нагнулся подобрать его, и – небеса свидетелем, что это истинная правда, – не успел я выпрямиться, как скрипнули металлические петли и я отчетливо увидел, что крышка поднимается. Может быть, я повел себя как трус, но я не смог оставаться там долее ни секунды. Я был за порогом этого страшного сооружения быстрее, чем сейчас записал или выговорил эти слова. И что страшит меня более всего, я не сумел запереть за собой дверь. Записывая сейчас у себя в комнате случившееся (не прошло и двадцати минут), я задаюсь вопросом, продолжился ли потом этот скрип металлических петель, и не могу ответить на этот вопрос. Знаю только, что меня встревожило что-то еще, чего я здесь не записал. Но был то звук или я что видел – не могу вспомнить. Что же такое я сделал?»
Бедный мистер Рексолл! На следующий день он, как и планировал, отправился обратно в Англию и благополучно добрался туда, но добрался человеком сломленным, как я могу судить по отрывочным записям и изменившемуся почерку. В одной из маленьких записных книжек, доставшихся мне вместе с его бумагами, содержится если не ключ, то намек на то, что он пережил. Большую часть пути он плыл на небольшом суденышке, и я отметил, что не менее шести раз он пытался пересчитать и описать своих спутников. Записи были примерно такого рода:
24. Деревенский пастор из Сконе. Обычное черное пальто и мягкая черная шляпа.
25. Коммерсант из Стокгольма. Направляется в Трольхеттан. Черный плащ, коричневая шляпа.
26. Мужчина в длинном черном плаще, в широкополой шляпе, очень старомодный.
Последняя запись вычеркнута, и сбоку приписано: «Возможно, тот же, что № 13. Пока не видел его лица». Найдя номер тринадцатый, я увидел, что это католический священник в сутане.
Итог всегда был одинаков. Двадцать восемь человек, из них один мужчина в длинном черном плаще и широкополой шляпе, а другой – «коротышка в темном плаще с капюшоном».
С другой стороны, неизменно отмечалось, что к обеду выходят только двадцать шесть пассажиров, и мужчина в плаще, скорее всего, отсутствует, а коротышка отсутствует определенно.
В Англии мистер Рексолл, как выясняется, высадился в Харидже и сразу же решил избавиться от одного или двух людей, в которых он, несомненно, видел своих преследователей, хотя и не распространялся на их счет. С этой целью, не доверяя железной дороге, он нанял крытый одноконный экипаж и отправился дальше в сельскую глушь, в деревню Белшем-Сент-Пол. Он добрался до места к десяти часам вечера. Августовская ночь была лунной. Он сидел впереди и смотрел в окно на пробегавшие мимо поля и рощи; ничего другого не было видно. И вот он подъехал к развилке дорог. Перед ним неподвижно стояли две фигуры, обе в темных плащах, на высоком была шляпа, на коротышке – капюшон. Он не успел разглядеть их лиц, и они даже не шелохнулись. Тем не менее лошадь дико прянула и сорвалась в галоп, а мистер Рексолл упал на подушки, близкий к отчаянью. Он уже видел их прежде.
В Белшем-Сент-Пол ему повезло, он нашел пристойно обставленную комнату и следующие двадцать четыре часа прожил сравнительно спокойно. В это время он сделал свои последние записи. Они слишком бессвязны, чтобы привести их здесь полностью, однако смысл их достаточно ясен. Мистер Рексолл ожидает прихода своих преследователей – каким образом и когда, ему неведомо – и постоянно повторяет: «Что же я сделал?» и «Есть ли надежда?». Врачи, он уверен, признают его сумасшедшим, полицейские высмеют. Священника поблизости нет. Остается только запереть дверь и взывать к Господу.
Еще в прошлом году жители Белшем-Сент-Пол вспоминали, как много лет назад августовским вечером к ним приехал странный господин, и как через сутки его нашли мертвым и было назначено следствие, и как присяжные, увидев тело, попадали в обморок, а было их семеро, но ни один потом не проговорился, что они увидели, и как вынесли приговор: «Кара Господня», и как владельцы того дома на той же неделе уехали в другие края. Они, я полагаю, так и не узнали, что на эту таинственную историю когда-нибудь может быть и будет пролит слабый свет. Так случилось, что в прошлом году их маленький дом перешел ко мне как часть наследства. Он пустовал с 1863 года, и не было никакой надежды его сдать; поэтому я пустил его на слом, а бумаги, из которых я тут сделал извлечения, были обнаружены в забытом шкафчике, под окном, в лучшей спальне.
«Ты свистни – тебя не заставлю я ждать»
– Теперь, когда семестр позади, вы, профессор, наверное, здесь не задержитесь? – спросил профессора онтографии некто, не имеющий отношения к нашей истории, после того как коллеги уселись рядом за праздничный стол в гостеприимном обеденном зале Сент-Джеймс-колледжа.
Профессор был молод, франтоват и тщательно следил за четкостью своей речи.
– Да, – кивнул он. – Друзья в последнее время частенько приглашали меня поиграть в гольф, вот я и задумал недельку-полторы провести на восточном побережье, а именно в Бёрнстоу (вам, несомненно, этот город знаком), – потренироваться. Завтра же и отправляюсь.
– О, Паркинс, – вмешался другой сосед профессора, – если вы действительно собрались в Бёрнстоу, я попрошу вас осмотреть место, где была приория ордена тамплиеров. Хочу знать ваше мнение, не затеять ли там раскопки нынешним летом.
Вы догадались, разумеется, что реплику эту вставил человек, интересующийся древностями, но, поскольку его участие в данном рассказе ограничивается описываемой сценой, я не стану обозначать подробней, кто он и что.
– Конечно, – согласился профессор Паркинс. – Скажите, где эта приория находится, и я, когда вернусь, сообщу все, что удастся выяснить на месте. Могу вам и написать, если вы дадите мне свой адрес.
– Спасибо, не затрудняйте себя. Просто я подумываю обосноваться с семьей поблизости, в Лонге, и мне пришло в голову: тамплиерские приории в Англии изучены мало, толковых планов зачастую нет, а потому воспользуюсь-ка я случаем и займусь в выходные дни чем-то полезным.
Идея такого рода полезной деятельности вызвала у профессора затаенный смешок. Сосед тем временем продолжал:
– Развалины – впрочем, на поверхности вряд ли что-то еще осталось – нужно теперь искать, наверное, на самом берегу. Вы ведь знаете, море там завладело порядочным куском суши. Сверившись с картой, я заключил предположительно, что это примерно в трех четвертях мили от гостиницы «Глобус», на северной окраине. Где вы собираетесь остановиться?
– Да, собственно говоря, в этом самом «Глобусе». Заказал там номер. Ничего другого было не найти: похоже, меблированные комнаты на зиму закрываются. В гостинице же единственная более или менее просторная комната рассчитана на две кровати, причем вторую вынести некуда. Зато будет вволю места для работы: я беру с собой кое-какие книги, чтобы заняться ими на досуге. Правда, кровать, а тем более две не украсят мой будущий кабинет, но с этим неудобством я уж как-нибудь смирюсь, благо терпеть придется недолго.
– Так ты, Паркинс, что-то имеешь против лишней кровати в номере? – с простоватой развязностью вмешался в разговор коллега, сидевший напротив. – Слушай-ка, прибереги ее для меня: я приеду и на пару деньков составлю тебе компанию.
Профессор вздрогнул, однако сумел прикрыть свое замешательство любезной улыбкой.
– Почему бы нет, Роджерс, буду очень рад. Но только как бы ты не заскучал: ты ведь в гольф не играешь?
– Слава богу, нет! – подтвердил невежа Роджерс.
– Видишь ли, я собираюсь часть времени проводить за писаниной, остальную же – на поле для гольфа. Так что, боюсь, не смогу тебя развлекать.
– Ну, не знаю! Не может быть, чтобы в городе не нашлось никого знакомых. Но конечно, если я буду некстати, так и скажи, Паркинс, я не обижусь. Ты же сам сколько раз нам твердил: на правду не обижаются.
Паркинсу в самом деле были свойственны безукоризненная вежливость и безусловная правдивость. Подозреваю, что мистер Роджерс был прекрасно осведомлен об особенностях его характера и порой этим знанием злоупотреблял. Паркинс ненадолго замолк: в его груди бушевали противоречивые чувства. Затем он промолвил:
– Что ж, если уж говорить начистоту, Роджерс, то я опасаюсь, не окажется ли комната маловата для нас двоих и еще – прости, ты сам толкаешь меня на откровенность – не пострадает ли моя работа.
Роджерс громко рассмеялся:
– Молодчина, Паркинс! Я не в обиде. Не беспокойся, обещаю не мешать твоей работе. То есть, если ты не хочешь, я, конечно, не приеду, но я подумал, что пригожусь – отпугивать привидений. – (Присмотревшись, можно было заметить, как Роджерс подмигнул своему соседу по столу и даже слегка подпихнул его локтем в бок. От внимательного наблюдателя не ускользнуло бы также, что щеки Паркинса порозовели.) – Прости, Паркинс, зря я это сказал. Совсем вылетело из головы: ты ведь не любишь, когда такие темы поминают всуе.
– Что ж, – отозвался Паркинс, – если уж ты об этом упомянул, я не стану скрывать: да, мне не нравятся легкомысленные разговоры о том, что ты разумеешь под «привидениями». Человеку в моем положении, – тут Паркинс слегка повысил голос, – следует быть осторожным. Ни у кого даже мысли не должно возникнуть, будто я разделяю подобного рода расхожие суеверия. Тебе известно, Роджерс, или должно быть известно, поскольку я как будто никогда не скрывал своих взглядов…
– Верно-верно, никогда не скрывал, старина, – ввернул Роджерс sotto voce[17 - Вполголоса (ит.).].
– По моему мнению, самомалейшая, даже кажущаяся уступка подобным взглядам была бы равносильна отречению от всего, что для меня свято. Но боюсь, мне не удалось привлечь твое внимание.
– Твое всецелое внимание – вот что на самом деле было сказано доктором Блимбером[18 - Мистер Роджерс допустил здесь ошибку: см. «Домби и сын», глава XII. – Примеч. автора.]. – Вставляя это замечание, Роджерс, очевидно, искренне заботился о точности цитирования. – Но прости, Паркинс, я тебя прервал.
– Ничего-ничего. Не помню никакого Блимбера: вероятно, я его уже не застал. Однако моя мысль не нуждается в дальнейших пояснениях. Ты, несомненно, понял, о чем я говорю.
– Да-да, – поспешил заверить Роджерс, – конечно. Мы обсудим это подробней в Бёрнстоу – или где-нибудь еще.
Пересказывая приведенный выше диалог, я старался передать впечатление, которое он на меня произвел. В свойственных Паркинсу маленьких слабостях я усматриваю нечто характерное для пожилых тетушек: абсолютное – увы! – отсутствие чувства юмора, но в то же время искренность убеждений и готовность бесстрашно их отстаивать, что, в общем, делало его весьма и весьма достойным человеком. Не знаю, удалось ли мне донести это до читателя, но Паркинс был именно таков.
На следующий день Паркинс, как и надеялся, покинул колледж и благополучно прибыл в Бёрнстоу. Он был приветливо встречен в гостинице «Глобус» и препровожден в уже упоминавшуюся большую комнату с двумя кроватями, где до отхода ко сну успел аккуратнейшим образом разложить свои рабочие материалы на просторном столе. Стол с трех сторон окружали окна, обращенные к морю, то есть прямо на море выходило центральное окно, левое же и правое смотрели на берег – первое на север, второе на юг. На юге виднелся городок Бёрнстоу. На севере домов не было, только взморье под обрывистым берегом. Сразу за окном тянулась неширокая травянистая полоса, усеянная ржавыми якорями, кабестанами и прочим судовым старьем, далее следовала широкая тропа и затем пляж. Каково бы ни было прежде расстояние между гостиницей «Глобус» и морем, нынче оно составляло не более шестидесяти ярдов.
Прочие постояльцы были, разумеется, сплошь игроки в гольф; некоторых из них стоит описать особо. Прежде всего бросался в глаза, пожалуй, ancien militaire[19 - Старый вояка (фр.).], глава одного из лондонских клубов, обладатель невероятно зычного голоса и протестантских воззрений самого строгого толка. Последние он обыкновенно обнародовал, побывав на богослужениях, – их отправлял местный викарий, достойный служитель церкви, питавший склонность к пышным ритуалам, каковую из уважения к традициям Восточной Англии старался держать под спудом.
Назавтра после своего прибытия в Бёрнстоу профессор Паркинс (одним из основополагающих свойств его характера было мужество) большую часть дня посвятил тому, что называл совершенствованием в гольфе; компанию ему составил упомянутый полковник Уилсон. Сам ли процесс совершенствования был тому виной, или вмешались иные факторы, но ближе к вечеру манеры полковника приобрели несколько устрашающий оттенок, так что даже Паркинс поостерегся возвращаться с поля для гольфа в гостиницу с таким попутчиком. Украдкой скользнув взглядом по ощетинившимся усам и багровому лицу полковника, он заключил, что самое разумное будет понадеяться на чай и табак, которые, вероятно, приведут его в чувство прежде, нежели партнеры вновь неизбежно сойдутся за обеденным столом.
«Сегодня я мог бы вернуться домой берегом, – размышлял Паркинс, – а заодно – благо еще светло – бросить взгляд на развалины, о которых говорил Дизни. Конечно, их точное местоположение мне неведомо, но где-нибудь я на них да наткнусь».
Что и исполнилось, надо сказать, в самом буквальном смысле: пробираясь от поля для гольфа к взморью, Паркинс споткнулся одновременно о корень дрока и крупный камень и упал. Поднявшись на ноги и оглядевшись, он заметил, что земля вокруг неровная, в небольших углублениях и бугорках. Он потрогал один бугор, другой: оказалось, они состоят из камней, скрепленных известью и поросших дерном. Совершенно справедливо Паркинс заключил, что это и есть приория тамплиеров, которую он обещал осмотреть. Судя по всему, исследователю с лопатой здесь было чем поживиться: от фундамента сохранилась немалая часть, причем у самой поверхности, поэтому изучить общий план будет нетрудно. Паркинсу смутно вспомнилось, что тамплиеры имели привычку строить круглые церкви, и он обратил внимание на соседний ряд холмиков или бугров, расположенных как будто по кругу. Немногие из нас откажут себе в удовольствии предпринять небольшое исследование в области, далекой от их собственных профессиональных интересов: приятно думать, что при серьезном подходе ты преуспел бы и в этом занятии. Но если в душу нашего профессора и закралось такое низменное желание, руководствовался он одним: оказать услугу мистеру Дизни. Он тщательно измерил шагами замеченную круглую площадку и занес в записную книжку ее приблизительные размеры. Потом Паркинс принялся изучать вытянутое возвышение, расположенное к востоку от центра круга, заподозрив, что это основание алтаря. На одном из его концов, а именно северном, дерн был сорван – вероятно, каким-нибудь мальчишкой или иными fer? natur?[20 - Дикими тварями (лат.).]. Решив, что не мешало бы поискать следы кладки, Паркинс вынул нож и стал отскабливать землю. Его ждало очередное открытие: ком земли упал внутрь, обнаружилось небольшое углубление. Пытаясь разглядеть, что там в глубине, Паркинс зажигал спичку за спичкой, но их гасил ветер. Однако, расковыривая края ножом, Паркинс смог установить, что углубление в каменной кладке было проделано искусственно. Оно было прямоугольное, верх, бока и дно неоштукатуренные, но гладкие и ровные. Внутри, конечно, было пусто. Хотя нет! Когда Паркинс вытаскивал нож, там что-то звякнуло. Сунув руку в отверстие, он наткнулся на какой-то цилиндрик. Естественно, Паркинс его вынул и в тускнеющем дневном свете убедился, что это тоже вещь рукотворная – металлическая трубка длиной приблизительно четыре дюйма, на вид весьма древняя.
К тому времени, когда Паркинс удостоверился, что в странном хранилище больше ничего нет, было уже слишком поздно, чтобы продолжать исследования. Занятие это оказалось настолько увлекательным, что он решил назавтра посвятить археологии изрядную часть светлого времени суток. Предмет, лежавший теперь в его кармане, наверняка представлял собой хоть какую-то ценность.
Прежде чем двинуться к дому, Паркинс обвел прощальным взглядом окружающий торжественный простор. На западе светилось слабым желтым светом поле для гольфа, небольшая процессия двигалась к зданию клуба, виднелись приземистая башня мартелло, огни деревни Олдси, по берегу тянулась бледная лента песка, там и сям пересеченная защитными ряжами из темного дерева, слабо поплескивало едва различимое море. Дул резкий северный ветер, но Паркинс, повернув к гостинице, подставил ему спину. Он быстро одолел полосу хрустевшей под ногами гальки и зашагал по песчаной полосе, вполне удобной, если бы каждые несколько ярдов там не попадались ряжи. Оглянувшись на прощание, чтобы прикинуть, насколько он удалился от церкви тамплиеров, Паркинс обнаружил, что у него, похоже, появился попутчик: едва видимый незнакомец явно поспешал изо всех сил, чтобы догнать Паркинса, однако его торопливость не давала результата. Я хочу сказать, что движения незнакомца напоминали бег, но расстояние между ним и Паркинсом, судя по всему, не сокращалось. Так, во всяком случае, показалось Паркинсу, рассудившему, что, раз он не знает этого человека, было бы глупо останавливаться и его поджидать. При всем том профессору стало казаться, что спутник на этом одиноком берегу был бы отнюдь не лишним, но только такой, которого бы он сам себе выбрал. Прежде, когда он не достиг еще высот просвещения, ему случалось читать о странных встречах в подобных местах – это были страшные рассказы, которые не хотелось вспоминать. Тем не менее Паркинс до самого дома вспоминал их снова и снова, в особенности один, который захватывает воображение большинства юных читателей. «И мне явилось во сне, что едва Христианин сделал шаг-другой, как завидел вдали нечистого, который шел по полю ему навстречу». «А что, если, – подумал он, – я оглянусь, а там, на фоне желтого неба, маячит черный силуэт с рогами и крыльями? И что тогда делать: остановиться или припустить во все лопатки? Счастье, что это не подобного рода джентльмен и вроде бы сейчас он не ближе, чем когда я его впервые заметил. Что ж, при такой скорости он не поспеет раньше меня к столу. Но бог ты мой, до обеда всего четверть часа. Нужно бежать!»
У Паркинса в самом деле почти не осталось времени, чтобы переодеться. Встретившись за обедом с полковником, он убедился, что в воинственной груди этого господина – насколько такое возможно – вновь воцарился мир, пребывавший с ним и позднее, за бриджем (этой игрой Паркинс владел очень прилично). Приблизительно в полночь удалившись к себе, Паркинс решил, что вечер прошел весьма сносно и при подобных условиях две, а то и все три недели жизни в «Глобусе» вполне можно выдержать. «Особенно, – подумал он, – если я и дальше буду совершенствоваться в гольфе».
По дороге в комнату Паркинсу встретился коридорный, который остановил его и сказал:
– Прошу прощения, сэр, но я тут чистил вашу куртку, и из кармана что-то выпало. Я сунул эту штуку в комод, сэр, в вашей комнате. Это вроде бы дудка, сэр. Благодарствую, сэр. Она у вас в комоде, сэр… да, сэр. Покойной ночи, сэр.
Это напомнило Паркинсу о нынешней находке. Не без любопытства он стал разглядывать предмет со всех сторон при свете свечи. Вещица, как он теперь увидел, была сделана из бронзы и по всему очень напоминала современный собачий свисток; собственно, это и было не что иное, как свисток. Паркинс собрался уже поднести его к губам, но увидел, что внутри полно то ли мелкого затвердевшего песка, то ли земли. Вытрясти землю не удалось, пришлось выковырять ее ножом. Со своей всегдашней аккуратностью Паркинс собрал землю на бумажку и подошел к окну, чтобы выбросить. Открыв створку, он убедился, что ночь стоит ясная, загляделся на морскую гладь и заметил на берегу перед гостиницей какого-то запоздалого путника. Немного удивленный тем, как поздно ложатся жители Бёрнстоу, он закрыл окно и снова поднес свисток к свету. На бронзе явно просматривались метки – нет, даже не метки, а буквы! Достаточно было слегка потереть свисток, как проступила глубоко процарапанная в металле надпись, однако профессор, поразмыслив, вынужден был признать, что находится в положении Валтасара, не способного постичь смысл надписи на стене. Буквы имелись и на передней, и на оборотной стороне свистка. На одной такие:
FLA.
FUR BIS
FLE
И на другой:
QUIS EST ISTE QUI UENIT
«Мне это должно бы быть по зубам, – подумал профессор, – но не иначе как я подзабыл латынь. Пожалуй, не вспомню даже, как по-латыни „свисток“. В длинной надписи как будто ничего сложного нет. Она значит: „Кто он – тот, кто грядет?“ Что ж, лучший способ узнать – это вызвать его свистком».
Паркинс на пробу дунул и тут же застыл: извлеченный звук поразил его, но поразил приятно. В этом тихом звуке словно слышалась бесконечность; казалось, он разносится на мили и мили вокруг. Он обладал способностью, присущей многим запахам, рисовать в мозгу картины. Паркинсу явилось на миг очень ясное видение: бескрайний темный простор ночи, порывы свежего ветра, а в середине одинокая фигура – к чему она здесь, он не понял. Может быть, он увидел бы что-нибудь еще, но картину разрушил ветер, внезапно стукнувший в раму окна. Ошеломленный, Паркинс поднял глаза и как раз успел заметить мелькнувшее за темным стеклом белое крыло морской птицы.
Звук так зачаровал профессора, что он не мог не дунуть в свисток снова, на сей раз смелее. Свист получился едва ли громче прежнего, причем повтор разрушил иллюзию: Паркинс смутно надеялся увидеть прежнюю картину, но она не вернулась. «Но что же это? Боже правый, пяти минут не прошло, а ветер уже набрал такую силу! Экий ураганный порыв! Ну вот! Я так и думал – от этой оконной задвижки никакого проку! Ох! Ну конечно – задуло обе свечи. Эдак еще всю комнату разнесет!»
Первым делом нужно было закрыть окно. Паркинс долго сражался со створкой: она напирала так отчаянно, словно в комнату упорно и неудержимо ломился грабитель. Но вдруг сопротивление разом прекратилось, рама со стуком захлопнулась, задвижка сама вернулась на место. Оставалось зажечь свечи и посмотреть, насколько пострадала обстановка. Но нет, разрушений как будто не было, и даже в окне уцелели все стекла. Правда, шум разбудил обитателей дома, по крайней мере одного из них: этажом выше послышалось ворчанье полковника и топот его необутых ног.
Ветер, поднявшийся мгновенно, улегся далеко не сразу. Он продолжал дуть, завывая под окнами иной раз так горестно, что, как сугубо объективно предположил Паркинс, мог бы нагнать страху на человека с живым воображением – и даже на того, у кого воображения нет вовсе (через четверть часа Паркинс признал и это).
Профессор сам не понимал, что мешало ему заснуть: ветер или нервы, возбужденные то ли игрой в гольф, то ли разысканиями в приории тамплиеров. Так или иначе, он долго лежал без сна и уже начал выискивать у себя симптомы всевозможных смертельных болезней (признаюсь, в подобных обстоятельствах я сам частенько веду себя точно так же): считал удары сердца – в полной уверенности, что вот-вот оно остановится, перебирал в уме самые мрачные подозрения по поводу своих легких, мозга, печени, ясно понимая, что дневной свет рассеет все эти мысли, но покуда не в силах от них избавиться. Паркинса немного утешало сознание, что у него есть товарищ по несчастью. Один из соседей (с какой стороны, было трудно определить в темноте) тоже переворачивался с боку на бок.
Наконец Паркинс закрыл глаза и вознамерился сделать все, чтобы поскорее заснуть. Но перевозбужденные нервы и тут дали о себе знать, на сей раз по-новому: рисуя образы. Experto crede[21 - Верь испытавшему (лат.).]: когда человек пытается уснуть, перед его закрытыми глазами возникают образы, зачастую столь малоприятные, что приходится снова размыкать веки, дабы от них отделаться.
С Паркинсом в данном случае произошло нечто совсем печальное. Он обнаружил, что представившаяся ему картина застряла у него в сознании. То есть, когда он открывал глаза, она, разумеется, исчезала, но когда он их опять закрывал, она рисовалась заново и разворачивалась точно так же, как прежде, не быстрей и не медленней. А увидел он следующее.
Длинная полоса берега: галька с песчаной каймой; поперек, на равных расстояниях, тянутся до самой воды ряжи. Сцена в точности напоминала ту, которую он видел этим вечером, тем более что какие-либо иные отличительные особенности местности отсутствовали. Освещение было сумрачное, судя по всему предгрозовое; дело происходило вечером, на исходе зимы, сыпал некрупный холодный дождь. На этом унылом фоне не виднелось вначале ни единой живой души. И тут вдали возникло и задергалось черное пятно; еще мгновение – и стало понятно, что это человек: он бежал вприпрыжку, карабкался на ряжи, то и дело тревожно оглядывался. Когда он приблизился, не осталось сомнений в том, что гонит его даже не тревога, а смертельный страх, хотя лицо бегущего рассмотреть не удавалось. Более того: силы его были на исходе. Человек бежал дальше, все с большим трудом одолевая очередные препятствия. «Переберется или нет? – подумал Паркинс. – Этот как будто чуть выше остальных». Да, человек наполовину перелез, наполовину перемахнул ряж и свалился кулем по другую его сторону (ближе к наблюдателю). Подняться на ноги он, очевидно, не мог и скорчился под деревянной стенкой, глядя вверх и всей своей позой выражая отчаяние.
Никаких признаков неведомой угрозы пока не было видно, но вот вдалеке замелькала светлая точка; двигалась она стремительно, но неравномерно и не по прямой. Быстро увеличившись в размере, она превратилась в нечетко обрисованную человеческую фигуру в бесцветном просторном одеянии, летящем по ветру. Приглядевшись к ее движениям, Паркинс ощутил, что ни в коем случае не желает видеть этого человека вблизи. Незнакомец останавливался, воздевал руки, склонялся до самого песка, в этой позе подбегал к воде, возвращался, выпрямлял плечи и со страшной, ошеломляющей скоростью вновь припускал вперед. Наконец преследователь, мечась туда-сюда, почти достиг ряжа, за которым затаился беглец. Кинувшись будто наугад в одну сторону, другую, третью, остановился, выпрямился, воздел руки к небу и прямиком направился к ряжу.
В этом месте Паркинс каждый раз понимал, что не способен более, как намеревался, держать глаза закрытыми. Перебрав в уме всевозможные пагубные последствия, как то: потерю зрения, перегрузку мозга, злоупотребление куревом и прочее, он смирился с необходимостью зажечь свечу, достать книгу и посвятить ей остаток ночи – все лучше, чем вновь и вновь наблюдать мучительное зрелище, порожденное, несомненно, сегодняшней прогулкой и неприятными мыслями.
Чирканье спички и вспыхнувший свет вспугнули, очевидно, каких-то ночных тварей – крыс или кого-то еще, – и они с громким шорохом кинулись врассыпную от кровати. Тьфу ты, спичка погасла! Вот незадача! Со второй, однако, дело пошло лучше, Паркинс сумел засветить огонек, раскрыл книгу и изучал ее, пока им не овладел-таки сон, на сей раз здоровый. Впервые за всю жизнь ему изменило благоразумие и любовь к порядку, и он забыл загасить свечу. Утром, в восемь, когда Паркинса разбудили, огонек все еще мерцал, а на столике высилась некрасивая кучка нагоревшего сала.
После завтрака Паркинс сидел у себя, приводя в порядок свой костюм для гольфа (в партнеры ему снова достался полковник), но тут в номер вошла горничная.
– Простите, сэр, – начала она, – не желаете ли еще одно одеяло?
– Спасибо, – кивнул Паркинс, – неплохо бы. На улице как будто холодает.
Вскоре горничная вернулась с одеялом.
– На какую кровать его положить, сэр?
– Что? Ах да, вот на эту, на которой я спал. – Паркинс указал на свою кровать.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68888136) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Обед (фр.).
2
Любитель старинных книг (фр.).
3
Теперь нам точно известно, что эти листы содержали значительный фрагмент, если не весь труд целиком.
4
Столовой (фр.).
5
Два раза я его видел, а ощущал тысячу раз (фр.).
6
Он умер этим летом; дочь вышла замуж и обосновалась в Сен-Папуле. Она никогда не знала в подробностях об «одержимости» отца.
7
Т. е. Спор Соломона с демоном ночи. Зарисовано Альбериком де Молеоном. Ектенья. Боже мой! поспеши на помощь мне. Псалом Живущий (91).
Святой Бертран, кто обращает в бегство дьявола, молись за меня, несчастного. Впервые я видел это ночью 12 декабря 1694 года; скоро увижу в последний раз. Я грешил и страдал и должен страдать еще. 29 декабря 1701 года.
Дату смерти каноника я нахожу в «Gallia Christiana»: 31 декабря 1701 года, «в постели, от внезапного припадка». Саммартани в своем великом труде редко сообщает такие подробности.
8
Последняя надежда рода (лат.).
9
1 Книга Моисеева, гл. 22 (дат.).
10
Повода к войне (лат.).
11
Перевод С. Сухарева.
12
Всякое дыхание (Все дышащее) да хвалит Господа (лат.).
13
Ученый (фр.).
14
«Швеция древняя и современная» (лат.).
15
«Ассамблея философов» (лат.).
16
«Книга Черного Паломничества» (лат.).
17
Вполголоса (ит.).
18
Мистер Роджерс допустил здесь ошибку: см. «Домби и сын», глава XII. – Примеч. автора.
19
Старый вояка (фр.).
20
Дикими тварями (лат.).
21
Верь испытавшему (лат.).
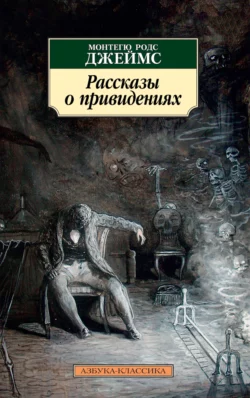
Монтегю Родс Джеймс
Тип: электронная книга
Жанр: Ужасы
Язык: на русском языке
Издательство: Азбука-Аттикус
Дата публикации: 13.09.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: «Рассказы о привидениях» («ghost stories») – литературный жанр, известный с древнейших времен. Истории о призраках можно найти в книгах античных писателей, в устных народных сказаниях и даже в свитках Древнего Египта. Вполне вероятно, что существование привидений смущало и увлекало человека во времена, когда письменность еще не была изобретена. Английский писатель и историк Монтегю Родс Джеймс посвятил этому жанру все свои художественные произведения, став крупнейшим мастером «рассказов о привидениях». Его творчеством восхищались Говард Филлипс Лавкрафт, Кларк Эштон Смит, Хорхе Луис Борхес и Стивен Кинг. Многие его рассказы были экранизированы, а имя автора неизменно появляется во всех списках наиболее значимых писателей, творивших в жанре мистики.