Вечный свет
Вечный свет
Фрэнсис Спаффорд
Loft. Букеровская коллекция
«Своего рода сияющая доброта, ощущение, что мир лучше, если в нем есть такие книги» Financial Times
Субботний день 1944 года. Магазин на юго-востоке Лондона получает партию алюминиевых сковородок. Толпа собирается, чтобы увидеть первую металлическую посуду за много лет – ведь все было переплавлено для военных нужд. Мгновением позже толпа исчезает. Немецкая бомба попадает точно в прилавок. Среди погибших были маленькие дети – Алек, Верн, Вэл, Бен и Джо.
Кто они и кем бы стали, проживи каждый из них свою жизнь в бурлящем Лондоне 60-х, 80-х и 90-х годов? Кондуктор или домовладелец, мошенник или учитель, а может – заключенный? Мы увидим их жизнь такой, какой она могла бы быть, если бы не тот страшный день.
Фрэнсис Спаффорд
Вечный свет
Francis Spufford
LIGHT PERPETUAL
Copyright © Francis Spufford, 2021
© Казарова К., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательствво «Эксмо», 2023
T + 0: 1944
Свет сер и мрачен. Тление. Язык пламени, поперхнувшийся собственной копотью, являющий лишь малую часть своей мощи в видимый спектр. Все остальное – жар и движение. Но линия горения пока еще только крадется под оболочкой боеголовки. Нитевидная линия перемен, расходящаяся от взрывателя сквозь плотную массу аммотола. Впереди желтовато-коричневое твердое вещество, гладкое и хрупкое, как карамель, позади – бурлящее кипение отдельных атомов, насильно освобожденных от всех связей, что соединяли их в тротил и аммиачную селитру, и готовых вот-вот распасться на простейшие молекулярные соединения. Вскоре они станут газами. Горячими газами, горячее расплавленного металла, намного горячее. И внезапно их станет так много, и они окажутся так неистово спрессованы в слишком маленьком пространстве, что неизбежно разорвут оболочку. Если к тому моменту оболочка еще будет на месте. Если она сама не превратится в стальной туман, как только ее коснется линия горения.
Мгновения. Это мгновение, перед тем как исчезнет стальная оболочка, длится всего одну десятитысячную секунды. Трещинка толщиной с волос в середине ноябрьской субботы 1944-го. Но присмотритесь. У этой трещины есть ширина. И длительность. Разве она сама не может разделиться надвое? И еще, и еще, и еще, и так до бесконечности? Разве эта трещинка не содержит в себе бездну? Ткань простого времени ничего под собой не прячет: пустота под пустотой, течение под течением. Каждый момент, который вы стремитесь определить, при ближайшем рассмотрении оказывается плотно утрамбованной пачкой более крошечных мгновений, и делению этому нет конца, а каждое последующее мгновение неизменно оказывается еще мимолетнее, хотя, казалось бы, дальше уже некуда. Материю можно разделить на мельчайшие составляющие, и все же этот процесс конечен. Время так не работает. Одна десятитысячная секунды представляет собой внушительный том с бесчисленным количеством тонких, почти прозрачных страниц. Таким же бесчисленным, как и количество страниц во всех книгах, написанных в нашей вселенной за всю прошедшую историю. И в этой книге времени страниц не меньше, чем во всех прочих, собранных вместе. Каждая из частей так же безгранична, как и целое, потому что бесконечности не делятся по размерам. Они все одинаково бесконечны. И все же из этого отсутствия пределов и рождается наша обыденная конечность, наши начала и завершения. Словно кто-то раскинул понтон над бездной, и мы идем по нему, сами того не замечая; словно из проживания этой секунды, потом этой, этой минуты, затем другой, здесь и сейчас – следующих друг за другом без остановки, неумолимо, и всегда недостаточных, пока и вовсе не иссякнувших – возникает некоторая (временная) коагуляция всего и ничего одновременно, незаметно растягивающаяся на все годы, все ноябри, все обеденные часы. Но идем ли мы? Движемся ли мы сквозь время или это оно двигает нас? Нет времени рассуждать. Тут бомба взрывается.
Именно в эту субботу в бексфордский «Вулвортс» на Ламберт-стрит завезли сковородки, которые теперь выставлены на верхнем этаже, начищенные до блеска. Никто не видел новых сковородок уже несколько лет, и теперь вокруг стола собралась взволнованная толпа женщин с кошельками наготове и детьми, слишком маленькими, чтобы оставлять их дома одних. Вот рядом с матерью стоят Джо и Валери в шотландских беретах, связанных из остатков пряжи. Вот Алек, с его тощими коленками, торчащими из-под шорт. Мать Бена крепко держит сына за руку, и тот, как всегда, выглядит слегка потерянно. Толстощекого Вернона привела бабушка – по сравнению с другими в их доме, казалось, никогда не испытывали большой нужды в предметах первой необходимости. Руки женщин тянутся к красивому алюминию, но человеческая рука не преодолеет большого расстояния за одну десятитысячную секунды, поэтому кажется, что они замерли. Дети застыли, как статуи во плоти. Палец Вернона замер у него в носу. Но все-таки некоторое движение можно уловить даже при таком замедлении. Позади стола, рядом с тележкой, полной пожелтевших схем для вязания, что-то продолговатое, гладкое и заостренное проходит сквозь потолок в медленно опадающем облаке штукатурки, кирпича и осколков черепицы. Среди этого мерцающего хаоса коническое острие боеголовки с геометрическим достоинством скользит по направлению к полу, а следом дюйм за дюймом в поле зрения просачивается темно-зеленое тело ракеты. Аммотол внутри боеголовки уже горит. Покупатели, сковородки, баллистическая ракета: что же здесь не так? Никто нам не скажет. Джо и Алек в этот момент смотрят в нужном направлении. Их взгляды прикованы к пространству между плечами миссис Джонс и миссис Кэнаган, где появляется ракета. Но они ее не видят. Никто не видит. Образ «Фау-2» отпечатался у них на радужке, но одной десятитысячной секунды недостаточно, чтобы человеческий глаз успел обработать информацию и передать сигнал в мозг. Прежде чем это случится, у детей уже не будет глаз. И мозга. Это мгновение, этот отрезок времени, крохотный и неизмеримо огромный, наступает незаметно, незаметно проходит и незаметно заканчивается. И все же это реальный момент. Он действительно наступает. Он на самом деле занимает отведенное ему место в цепочке мгновений, в результате которых девятьсот десять килограмм аммотола оказываются среди сковородок.
Затем линия горения добирается до металла. То, что происходит потом, называется бризантностью. Подвижная ниточка горения, когда все уже воспламенилось, превращается во взрывную волну, вырывающуюся в разные стороны под натиском голубоватого газа. Все, чего она касается, – разрушается. Судорога деформации и дислокации проходит через каждый твердый объект, дробя его на частицы, которые затем устремляются вперед на передовой взрывной волны. Вязальные схемы. Стойка. Свисающая на цепях стеклянная вывеска «ГАЛАНТЕРЕЯ». Деревянный стол. Сковородки. Толстое, изношенное, наследное зимнее пальтишко с роговыми пуговицами, в котором выросли три поколения. Кожа. Кости. Размер фрагментов определяется удаленностью от эпицентра взрыва. Ближе всего просто частицы, потом крупицы, обрывки, кусочки, ошметки, а дальше, в самом отдалении, там, где энергия волны расходится шире всего, – искореженные обломки стенной штукатурки, дверей и каменных плит или трамвайный знак, выдранный с корнем и отправленный в полет через улицу. Из-за формы боеголовки взрыв поначалу распространяется по направлению вниз, сквозь два этажа и подвальное помещение «Вулвортс», прямо в лондонскую глину, где, оставив неровный полукруглый кратер, устремляется вверх и наружу, таща за собой большую часть раздробленной материи здания. Купол разрушений разрастается. Магазины вдоль восходящих кривых купола слева и справа от «Вулвортс» вывернуты наизнанку. По Ламберт-стрит гуляет пурга металлических зубчиков и кирпичных хлопьев. Здания напротив вздымаются и проседают; оконные стекла засасываются внутрь и застревают в стенах поблескивающими копьями и щепками. В земле от дрожи лопаются газопроводы и разрываются водопроводные трубы. В воздухе, даже там, где нет абразивной пыли и кирпичного дождя, внезапно разражается невидимый заряд высокого давления и расходится широким кольцом. Трамвай, вдалеке сворачивающий из Левишема, встает на рельсах на дыбы и замирает, но сквозь него, от одного конца до другого, проходит рябь, тут же преображающая воздух. На периферии взрывной волны происходят маленькие, едва заметные изменения. Кухонные стулья преодолевают по полу расстояние в тридцать сантиметров. Открываются дверцы шкафчиков, и оттуда, как конфетти, выстреливают довоенные припасы. Тридцатиграммовая гирька из мясной лавки рядом с «Вулвортс» каким-то образом пересекает Ламберт-стрит и следующую улицу, чтобы аккуратно влететь в открытое окно на верхнем этаже дома и приземлиться на нетронутые клавиши «Ундервуда».
Теперь уже не нужно замедлять время. Нет ничего такого, чего нельзя увидеть с обычной скоростью человеческого восприятия. Пусть оно бежит секунда в секунду. Руины Ламберт-стрит подпрыгивают и, осев, замирают. Наконец доносится гулкий свист падающей ракеты, заглушаемый взрывом. Затем звенящая тишина. В «Вулвортс» не осталось никого, кто мог бы ее нарушить. Все покупатели и продавцы мертвы, на всех трех этажах; в мясной лавке по соседству тоже, и в отделении почты, за исключением одного сотрудника со сломанными ногами, которого угораздило в момент взрыва заглянуть в спасительный сейф; и в очереди на трамвай, собравшейся на тротуаре; все прохожие; все, стоявшие у окон противоположных домов; все пассажиры левишемского трамвая – еще сидящие на местах в шляпах и пальто, задохнувшиеся от удара воздуха. Только затем с дальних границ купола разрушения раздаются первые крики. И звуки сирен. И пожарной бригады. Члены группы противовоздушной обороны, мужчины и женщины с лопатами, карабкаются по обломкам каменной кладки; подростки и старики из волонтерской спасательной группы прибывают с носилками, которые практически не используют, и мешками, которые быстро заканчиваются. Начинаются попытки найти в развалинах «Вулвортс» крупицы, обрывки, кусочки и ошметки того, что когда-то было телами людей; людей, которых потеряли и отчаянно ищут те, кто собрался в бледнолицую толпу за ограждением в конце улицы.
* * *
Ни Джо, ни Валери, ни Алека, ни Бена, ни Верна больше нет. Исчезли так быстро, что даже не успели осознать, что случилось, и этим впоследствии утешатся (или нет) те, кто будет их оплакивать. Исчезли в промежутке между одной десятитысячной секунды и другой, исчезли так, словно растворились в этом обширном неизмеримом небытии, под ветхими подмостками часов и минут. Их роль во времени сыграна. Они больше не имеют отношения ни к чему из того, что вздымается, дышит, сжимается, поворачивается, усыхает, светлеет, темнеет; ни к одному изменению вещей. Ничто из того, что предполагает присутствие в потоке времени между мгновениями, теперь для них недоступно. Они ничего не могут сделать; с ними ничего нельзя сделать. Они никого не могу позвать, и их никто позвать не может. Они не существуют. А в это время все, из чего они состояли, осталось там, в кратере, без единой возможности хоть когда-нибудь восстановиться. Вот что для нас время. Оно ломает и рассеивает обломки. Его нельзя пустить вспять, нельзя призвать прах восстать, так же как нельзя отделить молоко обратно от чая. Разлученное остается разлученным. Рассеянное остается рассеянным. Это необратимо.
Но закончилось не только существование этих детей. Вернон не ковыляет домой, где на кухне висит сырокопченый свиной бок; Бен не пересекает парк у отца на плечах, удивляясь дождевым ноябрьским облакам; Алек не собирается в давно обещанную поездку в Кристал Пэлас; Джо и Вэл не корчат друг другу рожи над тарелками с куриным супом, заправленным луком. Все варианты их будущего тоже закончились, так и не начавшись. Десятилетия того, что было бы и что могло бы. Как можно измерить эту потерю, если не сопоставить эту пустоту с какой-нибудь другой версией колеса времени, где все, что было бы и могло бы быть еще, возможно? Версией, в которой в Голландии, откуда пустили ракету, случилось крошечное изменение траектории, и ракета упала чуть-чуть дальше, в бексфордский парк, убив разве что несколько голубей; или в которой из-за какого-нибудь сбоя в пусковом механизме, какие иногда случаются с такими чудовищными машинами, ракета канула в волны Северного моря; или вообще не взлетела – из-за перебоев с поставками топлива, отчего солдаты четыреста восемьдесят пятой батареи провели весь тот день под соснами, куря и нервно высматривая в небе британские бомбардировщики, пока в Вассенаре ждали танкер с этанолом.
Явись, другое будущее. Явись, милосердие, вовремя не проявленное. Явись, знание, вовремя не полученное. Явитесь, другие возможности. Явитесь, непотревоженные глубины. Явись, неделимый свет.
Явись, прах.
T + 5: 1949
Джо, Вэл, Верн, Алек
Мисс Тернбелл свистит в свисток, и наступает время пения. Джо любит пение больше всего и первая устремляется к нарисованной на асфальте черте, у которой всегда строится пятый класс, чтобы зайти внутрь, но остальные не торопятся прервать утреннюю перемену, несмотря на то что на улице накрапывает. Учительнице приходится свистнуть снова, а затем еще раз, прежде чем игры со скакалками, шуточные драки и футбольные матчи неохотно сойдут на нет и в мрачном каньоне между закопченной красной громадой начальной школы Холстед Роуд и окружающей ее высокой закопченной стеной устанавливается что-то вроде порядка. Малыши справа, классы со второго по седьмой один за другим выстроились в ряд слева – чем старше, тем выше и развязнее – до самой стены, где семиклассники, как миниатюрные мужчины, стоят в нарочито скучающих позах, втянув плечи, а семиклассницы с пренебрежением на лицах изображают упрощенные версии своих матерей. Среди пятиклашек такое тоже можно увидеть, но их подражания куда менее точные и куда менее постоянные. Девятилетки меньше притворяются, их чувство собственного достоинства все еще может внезапно уступить место дурачеству или восторгу. Сопливые носы, болячки, кожная сыпь. Грязные шеи и зудящие головы детей, у которых дома нет ванной. Бесплатные очки от новой системы здравоохранения в дешевых черепаховых и розовых оправах.
– Успокаивайтесь! – громыхает мисс Тернбелл, и над гудящей площадкой временно воцаряется затишье. У него темно-серый цвет, думает Джо, как у потускневшей ложки с яркими царапинами звуков, которые то и дело издают дети, неспособные стоять спокойно. Где-то на улице грузовик скрежещет коробкой передач, под мостом в конце улицы проносится поезд: ржаво-коричневые потертости, окаймляющие затишье, а поперек – длинная змеящаяся прожилка фиолетового. Эти мысли в голове Джо предстают не словами, а исключительно картинками. И эти картинки звуков, которые она слышит, не останавливаясь, проносятся у нее в голове все время, пока она бодрствует, и никогда не бывают оторваны от того, как она видит мир. Она еще не задумывается о том, видят ли эти картинки другие, она задумывается об этом не более чем о том, видят ли другие люди небо. «Первый класс, – зовет учительница. – Второй, третий». И они, разделившись на мальчиков и девочек, заходят внутрь, каждые через свою дверь, и воссоединяются уже в коридоре.
– Эй, дуреха, подожди меня, – говорит Вэл, привычным движением хватая сестру за руку.
Пение проходит в Большом зале, над которым, должно быть, когда-то была величественная скатная крыша. На стене под потолком в кирпиче высечены щиты со словами «Совет Лондонского Графства», по одной букве на щит. Джо смотрит на них, пока они поют «Когда рыцарь снискал славу», и думает о доспехах и драконах. Но теперь вместо величественных скатов над щитами лежит плоская крышка из необработанного дерева и рубероида, явно не рассчитаная на долгую службу. Из-за этого Большой зал в высоту оказывается короче, чем предполагается. Пространство комнаты сдавливается, как сдавливаются и раздающиеся там звуки. Должно быть, Большой зал был блицкригнут. (Такое определение Джо дает всему в Бексфорде, что выглядит разрушенным или сломанным.)
По всему коридору захлопываются двери классных комнат, и появляется мисс Тернбелл. Она закрывает за собой двойные двери зала и вздыхает. Она часто вздыхает. Вдобавок к сегодняшнему дежурству на перемене она их классная руководительница и одна из самых старых учителей в Холстед Роуд, из тех, кого еще мама Джо помнит по своим, давно минувшим, временам в школе. Ее металлически-серые волосы стянуты в тугой пучок, и когда она не разговаривает, всегда поджимает нижнюю губу под верхнюю, как будто у нее во рту лежит что-то, что она силится прожевать. Все говорят, что она наверняка очень страшная, когда вытаскивает на ночь зубы. Как-то раз смышленый Алек на уроке письма нарисовал ее без зубов и передал листок по рядам. И она его поймала! И его отправили к директору, но всего лишь за плохое поведение и безделье, потому что мисс Тернбелл не узнала себя на портрете. Джо успела увидеть рисунок, прежде чем его порвали, и сходства там было мало.
Мисс Тернбелл раздает им красные песенники и с глухим шарканьем усаживается за пианино.
– Тридцать семь, – говорит она. – Котсуолдс.
Она имеет в виду: откройте страницу тридцать семь, мы будем петь «Балладу о лондонской реке», которая начинается со слов «От Котсуолдса, от Чилтерна». Но она уже говорила это столько раз, что все ненужные слова выпали. Джо чувствует облегчение. Когда на уроке выбирают грустную песню, например «Мальчик Дэнни» или «Дева с северных земель», или трогательную «Счастлив, что живу я», мальчишки начинают кривляться. Раньше такого не было, но в этом году они, похоже, просто ничего не могут с собой поделать. Они начинают петь всякую чепуху, пока не получат нагоняй. «Баллада о лондонской реке», конечно, не самый лучший выбор, чтобы удержать внимание мальчишек, не такой как «Добрый меч и верная рука» или «Тот, кто будет храбр», но это песня о Лондоне, и пятый класс обычно поет ее с гордостью, даже несмотря на кучу сложных слов.
Мисс Тернбелл критически осматривает два ряда, в которые выстроился пятый класс: все, кто любит петь, – впереди, большинство мальчишек – сзади плюс те, кого туда сослали на прошлых занятиях за плохое пение. Джо, конечно же, стоит в первом ряду, и Вэл рядом с ней, хотя, по правде, сама она не очень этому рада. Она гораздо больше заинтересована в том, что творится сзади, и постоянно вертится. Их семья состоит из одних только женщин, и, сколько девочки себя помнят, так было всегда: они, мама, тетушка Кэй. Не вернувшийся с войны отец – просто абстрактное понятие, но не воспоминание. И если Джо в результате стала с настороженностью относиться ко всему мужскому роду, на Вэл это оказало совсем другой эффект. Мальчишки вызывают у нее восторг, любопытство, приковывают взгляд. Когда они играют, она вечно топчется где-то рядом, теребя волосы и пытаясь вклиниться в их веселье. Рядом с Джо ее удерживает лишь укоренившаяся привычка близняшки. В последнее время она стала сопротивляться: словно постоянно дергает связывающую их невидимую веревку, но никак не может отделиться. И все же. С другой стороны от Вэл в первом ряду, что ожидаемо, стоит противный Вернон Тейлор, которого смышленый Алек из заднего ряда окрестил Вредноном, но в лицо никогда его так не называл, о, нет. Верн очень сильный. Верн задира. Кулаки у него как розовые сосиски, которые мясник собрал в связку, перед тем как упаковать. А еще у Верна отвратительный голос. Во время пения он то хрипит, то взвизгивает. И все же пение его любимый урок, будто бы есть в этом что-то, чему он не в силах противостоять. Мисс Тернбелл постоянно отправляет его в задний ряд, но на каждом следующем уроке он раз за разом вылезает вперед. Демонстративно ссутулив плечи, он держит песенник большими розовыми руками и щурит маленькие противные глазки, глядя на слова и ноты. Мисс Тернбелл задерживает на нем взгляд. Вздыхает. Открывает рот. Закрывает и делает свое жующее лицо. Она не собирается утруждаться.
– Глубокий вдох, – произносит она. – Раскройте легкие, используйте грудную клетку. Пусть музыка идет из самой глубины. Рот всегда открыт. Поднимите головы и пойте. Стивен Дженкинс, вытри нос. Да платком же! И, раз, два, три, четыре… – Она начинает играть вступительные такты, тяжело и без всякого энтузиазма, но это неважно. Из пианино вырывается быстрая, ритмичная, расходящаяся волнами мелодия, предшествующая запеву. Она звучит несколько нелепо, как звучит перед утренним субботним сеансом в бексфордском кинотеатре национальный гимн – устало-помпезный и явно проигрывающий орущей толпе детей в партере. И все же сквозь позвякивание старых клавиш Джо слышит эти волны, решительные и чистые, говорящие: «Вот река, вот она», и представляет себе расходящиеся зеленые и бронзовые круги. Иногда неважно, если что-то нелепо. Затем музыка начинает кружиться на месте, что служит для них сигналом, – все делают вдох, а Алек при этом издает смешной звук, похожий на звук поднимающегося лифта, и пятый класс, открыв рты во всю ширь, начинает петь:
От Котсуолдса, от Чилтерна, от каждого истока
Беги до серебристых чаек,
В дальнее далеко.
Забудь ты имя старое –
Брент, Айзис или Тейм.
Забудь плотины, ивы и крутые берега.
Забудь, река, все те места,
Откуда ты текла.
Джо кое-чего не понимает в этой песне, например, что такое Котсуолдс и Чилтерн и зачем там слова «Айзис», «Брент» или «Тейм». Но кое-что она понимает. Она знает, что все это происходит в месте, где цвета ярче, чем обычно, где чайки серебристые, а не грязно-белые, как те, что пикируют из речного тумана, планируют над доками и охотятся за твоими сэндвичами. Она знает, что звуки произносимых слов соединяются друг с другом, как кусочки пазла, даже если она не знает значения этих слов. Она знает, что таким напыщенным, непостижимым многоцветным способом в песне говорится о том, что река течет из каких-то прекрасных мест, а затем превращается в грязный бурый поток, протекающий под городскими мостами, от берега до берега сотрясаемый гудками буксировщиков, настолько громких, что от них вздрагивают кирпичные стены и стекла автобуса, если в этот момент ты в нем пересекаешь мост. Когда проходят буксировщики, стекло под пальцами начинает вибрировать, отчего пальцы немеют. Темза – большая уродливая река. Уродливая и громкая, а не красивая. А в песне поется, что Лондон большой, громкий и уродливый и поэтому волнующий и что быть волнующим лучше, чем красивым.
И она точно знает, как надо петь эту песню. В самом начале она колотится, первая строка звучит, как марш, и только в конце, на последнем слове взвивается до более высокой ноты, чем ожидаешь, будто создавая платформу, с которой ты прыгнешь в следующую строку. В самом начале она сбегает вниз или скорее пикирует, как чайка, а затем, так же как и чайка, достигнув нижней точки, взмывает вверх и зависает в воздухе, а если быть точнее – ровно посередине между черными линиями, на которых живет музыка. А потом «Забудь ты имя старое – Брент, Айзис или Тейм» снова поднимают ее ввысь. Она взбирается наверх и на слове «Тейм» почти парит, и ты уже готовишься к тому, что на последней строчке тебе придется разинуть рот шире граммофонной трубы и лететь, лететь, лететь до самого конца. Но нет, и ты разочарован. Она разочаровывает тебя специально, опускаясь до глухого, хоть и чисто звучащего конца строки, для того чтобы снова взлететь выше прежнего, когда последняя строка неожиданно повторяется. И повтор. Ноты в отдельных словах настолько высокие, словно пытаются вырваться вверх с нотного стана, похожие на людей, выглядывающих в чердачное окно; настолько высокие, что Джо едва удается их взять, а затем строка летит вниз к своему истинному звучанию, где ноты такие долгие, что растягиваются на целый такт и на них уходит все дыхание. Даже Верн понимает, что нужно радостно воспарить. Джо слышит, как он визгливо силится взвиться, и его голос практически тонет в хриплом свистящем шуме. Но это не портит ей удовольствия от ее собственного, уверенного, звенящего движения по словам последней строчки. Высокие ноты одна за другой проносятся перед ее мысленным взором, как багряно-золотые лучи.
Они делают новый вдох, готовясь к следующему куплету – Алек уже позабыл веселиться и поет как следует, – но пальцы мисс Тернбелл замирают на клавишах. Позади пятого класса открываются двери Большого зала.
– Что-то случилось, мистер Харди? – спрашивает она.
Входит директор, лысый, с чернильно-черными усами. Пятый класс тут же вытягивается по струнке, потому что мистер Ха наводит на них ужас. У него в кабинете хранится Палка, и немалую часть пятого класса уже хотя бы раз отправляли навестить их обоих: Джо не из их числа, но страх заразен. Мистер Ха любит внезапно атаковать вопросами, и по нему никогда не поймешь, какой ответ его удовлетворит.
– Нет, нет, – отвечает он. – Не обращайте на меня внимания, я не буду вам мешать. – И затем тут же продолжает: – Читерна, Читерна… Вот что я расслышал на входе. Там есть «л», дети. Ну-ка, произнесите, пожалуйста, как надо.
– Чилтерна, – отвечает пятый класс нестройным хором.
– Громче, пожалуйста.
– Чилтерна!
– Вот, – говорит мистер Харди, но говорит так, словно он отнюдь не впечатлен. – Произношение важно, вы согласны, мисс Тернбелл?
– Разумеется, директор, – ровным голосом отвечает та. Мисс Тернбелл действительно часто поправляет их, когда они теряют согласные, часто вздыхает, когда они вставляют «в» в «солнце», но она не делает это так, будто пытается их подловить. Между взрослыми повисает какое-то напряжение, которого Джо не может понять. Она подмечает, что мистер Харди намного ниже мисс Тернбелл. Сейчас он стоит возле пианино, покачиваясь с пятки на носок, и недовольно разглядывает учеников, выпятив обтянутый жилетом живот, на котором поблескивает цепочка от часов.
– Продолжайте, мисс Тернбелл, – говорит он и никуда не уходит. Мисс Тернбелл снова проигрывает струящиеся вступительные аккорды, и пятый класс куда более неохотно и куда более сдержанно запевает второй куплет.
Стремились Датчанин с Саксонцем
Тщетно тебя покорить.
Ты видела замки и крепости,
Для тебя был недолог их век.
Ты будешь бежать не одну сотню лет,
А их давно уж и нет.
На этот раз долгие ноты в конце строк нервно обрываются гораздо раньше, чем нужно.
– Хмм. – Мистер Харди окидывает всех колючим взглядом. – Мисс Тернбелл, как по-вашему, пятый класс делает успехи?
Она убирает руки с клавиш и складывает на коленях.
– Да, – неожиданно отвечает она. – Они поют с чувством, и некоторые из них подают большие надежды.
Это самые одобрительные слова, которые Джо доводилось слышать от мисс Тернбелл, и ее это удивляет. На уроках пения она всегда воспринимала мисс Тернбелл как некий механизм для управления пианино, никак не связанный с ее собственным отношением к музыке. Пятый класс, неожиданно оказавшийся с мисс Тернбелл по одну сторону, взволнованно и осторожно опробует это новое чувство.
– Рад слышать, – бормочет мистер Харди, явно испытывающий что угодно, но только не радость. Тут его лицо озаряется. – Но они вообще-то понимают, о чем поют? Вот ты, мальчик в первом ряду, – он пальцем указывает на Вернона, – «Для тебя был недолог их век». Ты только что это пропел. Что это значит?
– Не знаю, сэр, – отвечает Верн.
– Что ж, упростим задачку. Ты, девочка. Девочка с косичками. Кто в этой песне «ты», м?
Джо чувствует, как голова мгновенно пустеет: все мысли разбежались кто куда в поисках укрытия, как мыши с кухни, когда открываешь дверь. У нее не получится передать то удовольствие от песни, что наполняло ее пять минут назад, не получится связать между собой слова и все те парящие, текучие формы.
– Ну?
Мистер Харди не сводит с нее глаз. Как и мисс Тернбелл, снова нацепившая свое жующее лицо.
– Оно красное, сэр, – дрожа делает попытку Джо. – Это слово. В голове, когда поешь.
– Что? – говорит мистер Харди. – Что? Оно красное? Да эта девочка отсталая.
Вернон начинает хихикать, но тут же резко замолкает. Это Алек из заднего ряда пнул его под колено. Джо чувствует, как тот распухает, раздувается, как воздушный шар, не сулящий кое-кому после урока ничего хорошего.
– Я понимаю, – мистер Харди с довольным видом обращается к мисс Тернбелл, – от них не стоит ждать многого, но все это несколько удручает, вы не находите?
Мисс Тернбелл вздыхает.
– Мистер Харди, – внезапно встревает Алек.
– Что такое, мальчик? – нетерпеливо спрашивает директор. Ему есть еще что сказать. Он только начал.
– Сэр, пожавуйста… вы не могли бы объяснить нам, сэр? Будьте так добры. Это было бы замечательно. Пожавуйста, сэр, мы все были бы очень рады, сэр.
Мистер Харди хмурится, сомневаясь в том, что ребенок не шутит. Джо не понимает, что затеял Алек, за исключением того, что это рискованно. Обычно он так не разговаривает. Ему реже всех делают замечания из-за гласных и согласных. И он может без ошибок написать что угодно. Его отец работает в типографии, и у них дома полно книг, целые шкафы.
– Что ж, – говорит директор. – «Ты» в этом куплете – это сама Темза…
– Не может быть! – восклицает Алек, будто ошеломленный.
– Вдоль берегов, которой… Мальчик, ты что, издеваешься?
Пятый класс начинает хихикать.
– Я, сэр? Нет, сэр, – отвечает Алек. – Я бы даже не подумав.
– А мне кажется, подумал, – говорит мистер Харди.
– Что вы, сэр, – говорит Алек. – Я просто так вам бвагодарен, что теперь понимаю песню, которую мы все время поем, сэр. У меня над гововой как будто вампочка зажглась, сэр, честно.
Смешки становятся громче, и даже мисс Тернбелл, стоящая позади мистера Харди, вздернула брови и сжала губы так, точно пытается удержать что-то во рту.
– Хватит, – говорит побагровевший мистер Харди. (Но не тем праздничным багряным цветом, который представляла Джо, а более грязным, неприятным оттенком.) – Вон! Я разберусь с тобой у себя в кабинете, мальчишка!
Он бросается в одну из своих внезапных атак, хватает Алека за ухо и устремляется с ним из Большого зала, нарочно держа руку так высоко, что Алек, которому приходится следовать за ним, болезненно приплясывая на носочках, начинает плакать еще до того, как доволакивает до двойных дверей ноги в болтающихся ботинках. Пятый класс таращится на них и уже не смеется.
Мисс Тернбелл откашливается и хлопает в ладоши.
– Внимание, пятый класс, – говорит она, и ее голос уже звучит не так устало. – Смотрим вперед, плечи назад. Давайте споем третий куплет. Раз, два, три, четыре…
Бен
– В первый раз, сынок? – спрашивает мужчина рядом с отцом. – Посади-ка его на плечи, приятель, я не против, ему так будет лучше видно.
Бен привык, что людям кажется, будто он младше, чем есть на самом деле, потому что он мелкий. Но с тех пор, когда он был настолько маленьким, чтобы его сажали на плечи, прошло уже много времени, много-много лет, поэтому он удивляется, когда отец согласно хмыкает, наклоняется и поднимает его. И вдруг вместо того, чтобы пытаться разглядеть хоть что-то сквозь темную массу пальто и курток, он оказывается в воздухе. Кепка отца упирается ему в живот, и сверху он видит тысячи таких же голов в кепках, шапках или шарфах. Покатое море выкриков, пальцев, тычущих в воздух, и сигарет, зажатых в уголках губ.
Они стоят на верхушке южной трибуны стадиона «Ден». Она представляет собой простой ступенчатый цементный склон. Здесь, на самом верху, так высоко, что видно железнодорожные пути, обрамляющие стадион с трех сторон. Поезда проходят один за другим. Лица в окнах грохочущих зеленых пассажирских вагонов похожи на белые горошинки. Лязгающие цепочки вагонов тянутся в доки или из них, увлекаемые локомотивами, хрипло откашливающими дым, как гигантские собаки. На противоположной стороне пепельные облака сливаются с постоянно висящей над рекой дымкой. Над доками, в густом, как суп, воздухе обычно виднеются подъемные краны, но недавно прошел дождь, и от влажности дымка опустилась ниже. Трава на поле снова запестрела зеленым. Мокрые крыши переливаются, отражая небо; влажный блестящий след крадется по краю рекламного стенда мыла «Санлайт». День преображается. В центре этого шумного открытого пространства преображается и Бен. Лондонский смог с такой высоты – просто подставка для ног. Над ним – удаляющийся дождь собрался изогнутой стеной, необъятной, грифельно-серой, серо-фиолетовой. Уплывающая наковальня. А в самом верху она пенится, как цветная капуста: сплошь выпуклости, вмятины и смазанные переходы – слишком замысловатые для глаз. Небо вдалеке светлеет. Полоска такая же ослепительно-белая, как летние облака. Хоть сейчас и дождливая осень.
– Закрывай его, закрывай! – радостно вопит мужчина рядом с отцом. – Вперед, Львы! Вперед, вы, сонные ублюдки! Вы что, слепые?
На зеленом прямоугольнике ярко-голубые игроки «Миллуолла» бросаются вправо. Внезапно вырывается сине-бордовая лавина «Кристал Пэлас». Ярко-голубые разбегаются, собираются и блокируют острие атаки. На острие путаница, подножка, глухой стук, падение. Двое мужчин свалились в кучу. Противоположная трибуна стонет, но мяч катится дальше, катится свободно. Он кажется крошечным. Такая крошечная точка, а все вокруг нее бегают. Кто-то пинает его влево. Все сине-бордовые приходят в движение, ярко-голубые приходят в движение, все бегут назад к левому краю, цвета сливаются и разделяются. Кружат друг вокруг друга, каждую секунду меняют направление.
– Пасуй! – орет мужчина.
Рты у всех остальных тоже открыты. Открываются и закрываются. Выкрикивают разные слова.
– Вперед, Львы… – пробует себя Бен.
– Вперед, Львы! – кричит отец и сжимает лодыжки Бена.
– Шевели задницей, Джимми! – кричит мужчина. – Джимми Константин, шевели своей задницей!
– А кто из них Джимми Константин? – спрашивает Бен.
– Восьмой номер, – отвечает отец.
– Тот, что с гребаным мячом, сынок, – говорит мужчина.
Отец поворачивает голову.
– Прости, – говорит мужчина и пожимает плечами.
– Да ничего, – отвечает отец. – Но дома мы так не говорим, сынок.
– Хорошо, пап, – начинает было Бен, но его голос тонет, – из каждой глотки на домашней трибуне вырывается оглушительное, низкое «У-у-у-у-у», словно они все превратились в одно гигантское разочарованное или злое животное. Злое, оттого что разочарованное. Возвращается мяч, от сильного удара летит высоко вверх и далеко на половину «Миллуолла».
– Надо было отдать, – бормочет мужчина, качая головой. – Надо было отдать. Безмозглый сукин сын. Вперед, Львы!
Мяч летит вправо, влево, вправо, влево. Бордовый сливается с ярко-голубым, ярко-голубой вспыхивает среди бордового. Волны на пляже. Прошлым летом Бен ездил в Бродстэрс с семьей тетушки Джоан, где его сажали возле рваной дорожки из водорослей на песке, укутав от холода, и он смотрел, как волны набегали, не зная усталости и никогда его не достигая. Когда мяч справа, отец, мужчина рядом с ним и все остальные втягивают воздух и задерживают дыхание. Когда он слева, они издают глубокие, низкие звуки, которые постепенно становятся все выше, выше и выше, пока «У-у-у-у-у» – волна не разбивается и не откатывается обратно. Бен тихонько присоединяется. Он чувствует, как игра сжимает ему грудь, точно гармошку. Тебе не надо ни о чем думать, все происходит само собой. Вдох, выдох, «У-у-у-у-у». Вперед, Львы!
Верхушка капустного небесного царства сейчас горит бело-золотым. Пробивается солнце. Вокруг снуют тени. На северо-западе сияет так, что в ту сторону больно смотреть.
– По флангу! – ревет мужчина.
Бордовые снова пробиваются направо, но в этот раз, когда ярко-голубые отбирают мяч, кто-то отправляет его далеко на сторону «Кристал Пэлас». Точка взмывает вверх. Она точно оставляет позади эту ревущую, неистовствующую землю и устремляется к тонущему в сиянии краю цветной капусты. Она медленно перелетает над стрелами торчащих из дымки подъемных кранов, будто перед тем, как приземлиться, у нее в распоряжении все время мира. Будто в этот раз она может и вовсе не приземлиться. Будто небо может поймать ее, и тогда игрокам «Миллуолла» и «Кристал Пэлас» придется сказать небу: «А можно нам наш мяч назад?» Вдруг точку подхватывает пробившийся луч солнца, и она превращается в жидкое золото, неистово яркое. Разум Бена ошеломленно замирает. Где-то там мяч падает, его искусно перехватывает ярко-голубой нападающий, перекатывая вправо-влево, проводит мимо защитника «Кристал Пэлас» и мощным ударом точно передает ярко-голубому восьмому номеру, который только что достиг идеальной точки, откуда он сможет под острым, почти невероятным углом послать мяч мимо вратаря в угол ворот. «О-о-о! О-О-О-О!» – кричат тысячи мужчин вокруг Бена, их голоса взволнованно взбираются вверх, к восторгу. Но у Бена перед глазами все еще горит застывшая в воздухе золотая пылинка. Она сияла так, словно кто-то проткнул мир насквозь. Он не заметил гол.
– Я люблю тебя, Джимми Константин! – орет их сосед. – Гребаный красавчик-макаронник, я тебя люблю!
– Ну, как тебе? – говорит отец, повернув голову, чтобы взглянуть на Бена. – Красотища, а?
– Что? – медленно отвечает Бен, будто спросонья. – Что, пап?
В автобусе по дороге домой отец огорченно говорит:
– «Я думал, что тебе больше понравится».
– Это было потрясающе, пап, – отвечает Бен.
T + 20: 1964
Алек
Уже перевалило за час, а Алек только-только успел вылезти из комбинезона, натянуть костюм и убежать: через погрузочную площадку, вокруг здания лондонской «Газеты» и вверх по Маршалл-стрит к «Хэр энд Хаундс». Как обычно, после металлического бряцания станков прямо под ухом воздух на улице кажется мягким и просторным. Шум машин накатывает и стихает легкими волнами, точно шум всех коробок передач и разгоняющихся автобусов слился воедино в мягкий прилив. Небо очень высокое, ветерок, который встречает его за углом молочной лавки, словно спешит рассказать ему, как огромен мир. Куда огромнее, чем наборный цех «Газеты». Он бросает быстрый взгляд на свое отражение в окне, приглаживает волосы, поправляет галстук и заходит в дорогой бар. Они уже там – курят, демонстративно сложив руки на столе, словно подчеркивая отсутствие напитков. Да, по традиции сегодня платит он, но все равно, какие же скряги.
– Мистер Хобсон! – Алек подается вперед и протягивает руку.
– А, – отвечает Хобсон, – вот и вы. Клайв, это Алек Торренс, о котором я рассказывал. Алек, это Клайв Бёрнхем из типографии «Таймс».
Хобсон здорово помог Алеку, когда умер его отец и они с матерью лишились дома. Он пристроил его в обучение, а потом замолвил за него словечко в «Газете», и вот он снова старается изо всех сил, чтобы пробить Алеку дорогу на Флит-стрит, где за смену платят больше, чем в любой местной газете. Короче говоря, заменяет ему отца, и все во имя того, что случилось между Хобсоном и его отцом задолго до войны; того, что, как и любая рабочая дружба, рождающаяся из химии ежедневного пребывания бок о бок, окутано завесой тайны. Но что бы там ни произошло, для Хобсона этого оказалось достаточно, чтобы следующие восемь лет приглядывать за мальчишкой Рэя Торренса. Скрипучий, ржавый, угловатый старикан с гнездом седых волос на голове, в костюме гробовщика, на плечах слегка припорошенном перхотью. Зовут его Хротгар, что уже впечатляет. Х-р-о-т-г-а-р. Алек набирает буквы на воображаемых клавишах, точно так же, как он, не задумываясь, набирает в голове каждое необычное имя собственное, которое ему попадается. Миссис Эрминтруда Миггз, 61 год. Подсудимый Дэфидд Клеусон. Сотрудник фирмы «Сильверштейн энд Рул, Мэнор-роуд, Хокли-ин-зе-Хоул». Каждое из них – уникальный медный каскад. Хобсон и выглядит как настоящий Хротгар. Он похож на какого-нибудь размытого второстепенного персонажа Диккенса, выглядывающего из тени на старых иллюстрациях. Но сегодня Алеку нужно понравиться Бёрнхему, а это совсем другая птица – гладкий, чуть полноватый, упакованный в один из тех костюмов с отливом, в итальянском стиле, с загаром человека, только что вернувшегося с побережья.
– Чего желаете, джентльмены? – спрашивает Алек.
– Мне стаканчик виски, благодарю, – скрипит Хобсон.
– Пинту пива и шот виски, – говорит Бёрнхем, не утруждая себя вежливыми оборотами. – И яйцо по-шотландски, если здесь подают. – Он со скучающим видом осматривает бар, давая понять, что видал и получше. Сдерживает зевоту.
– Заказать вам сэндвич, мистер Хобсон? – спрашивает Алек. – Я, пожалуй, возьму себе.
– Нет-нет, благодарю, – отвечает Хобсон. – Сегодня что-то не хочется. Поем попозже, дома.
Алек приносит поднос с напитками. Себе он взял пинту пива, и хорошо бы ему тем и ограничиться, ведь ему еще полдня шевелить мозгами. Не говоря уже про эту встречу.
– Садись, садись, – говорит Хобсон. – Я решил вас свести, потому что Алек очень хороший парень, очень добросовестный и надежный. Его семья входит в лондонский профсоюз уже бог знает сколько лет.
– Да, вы упоминали, – говорит Бёрнхем.
– Может, помните, его отец Рэй набирал небольшие статейки для «Джорнал». Шахматные задачки, заметки для велосипедистов, раздел с юмором.
– Простите, не припоминаю. Я сам не состою в лондонском профсоюзе, я член национального. – Провинциальные и лондонские наборщики объединились около года назад и формально составляли один профсоюз, но разграничение, существовавшее еще со времен юности королевы Виктории, так никуда и не делось, особенно в Лондоне.
– А как вам удалось подняться? – вежливо спрашивает Алек.
– «Бирмингем Пост». Но это неважно. А важно вот что. Не пойми меня неправильно, я уверен, что ты тут отлично справляешься, но у вас еженедельник, и ты привык работать спокойно и размеренно, ведь, если где-то напортачить, всегда есть время все поправить, так?
– Я не портачу, – отвечает Алек, и Хобсон бросает на него выразительный взгляд.
– Ты этого не знаешь, – говорит Бёрнхем. – Ты не можешь этого знать до тех пор, пока это не случится. Пока не наступит момент, когда после сдачи номера в печать прошло уже полчаса, тебе в спину дышит какой-нибудь говнюк из союза печатников, кто-то из начальства жужжит над ухом про переработки и задержки, а к тебе подходит ассистент и говорит: «Ой, а что-то у нас вторая полоса совсем не сходится из-за этой колонки нашего корреспондента из Хренландии с кучей потрясающих подробностей о Хренландской ситуации, о которой в жизни никто не слышал, в том числе ты сам, и которая вышла на сто пять слов длиннее, чем надо. Сократи ее, а? Выбрось оттуда ровно сто пять слов, да так, чтобы репортаж о Хренландии не превратился в полную ересь. И на это задание у тебя нет «бог знает сколько лет». У тебя вообще времени нет. Полторы минуты, что по сути то же самое. И что ты будешь делать?
Бёрнхем ухмыляется, обнажив зубы – ровные и мелкие, как будто пластмассовые.
– Думаю, я справлюсь, – отвечает Алек. – Я даже думаю, что мне понравится. Правда.
– Вот как?
– Вообще-то «у нас тут» не все спят на ходу. Не то чтобы вы переехали мост Ватерлоо и сразу попадали в сонное царство.
– Вот как? А он всегда такой языкастый? – Бёрнхем спрашивает Хобсона.
– Алек не стесняется иметь свое мнение, – отвечает Хобсон. – Но вообще он очень спокойный, если его не заводить.
Бёрнхем смеется.
– А как же мне тогда понять, как он ведет себя, если на него поднажать? Послушайте, вы представляете себе, сколько людей стремятся заполучить работу на Флит-стрит? Это же золотая жила. Это джек-пот. И вы представляете, как много значит то, что работников выбираем мы, а не начальники. Горячие головы мне не нужны.
– Это не про меня, – говорит Алек.
– Да неужели? Я тебя взвинтил за тридцать секунд.
– Я думаю, – вклинивается Хобсон, – стоит взять Клайву еще выпить.
Алек совершает рейс до бара и обратно, на ходу напоминая себе, как сильно ему нужны эти смены, и, вернувшись к столику, видит, что Хобсон каким-то образом сумел рассмешить Бёрнхема и сам смеется вместе с ним пружинящим, булькающим смехом, будто кто-то сворачивает и разворачивает грелку.
– Что такое? – спрашивает Алек.
– Да ничего, – отвечает Бёрнхем и протягивает ему блестящую пачку сигарет с фильтром, что само по себе, наверное, хороший знак. Зажигалка у него тоже блестит. Хобсон же отказывается от сигареты и сообщает, что ему нужно в уборную. Они наблюдают, как он ковыляет прочь походкой огородного пугала.
– Конечно, тот еще персонаж, – говорит Бёрнхем. – А он всегда одевается так, словно только что закончил кого-то бальзамировать?
– Почти, – отвечает Алек и тут же захлопывает рот.
Бёрнхем вздыхает.
– Мне кажется, мы не с того начали. Послушай, я тут не для того, чтобы над тобой поиздеваться. Старикан очень хорошо о тебе отзывается, это очень мило, и то, что ты ему предан, – тоже. Делает тебе честь. Но это очень большой шаг вперед, и я хочу понять, готов ли ты к нему. Как ни странно, иногда полезно, чтобы в наборной был кто-то горластый, кто сможет дать отпор, выступить, провести границы там, где они должны быть. Но тут нужен человек с холодной головой, а не тот, у кого язык с головой не дружит. Я не знаю, читал ли ты доклад Королевской комиссии. Если в двух словах, они пишут, что у нас перебор людей и мы катимся в пропасть. Пока до этого еще не дошло, но в печати сейчас работает куда больше людей, чем когда-либо, и следить стоит – вопрос щекотливый. Так вот скажи мне, что в тебе есть надежного, спокойного и непоколебимого, такого, чтобы я мог спать спокойно.
Алек не знает, что на это ответить.
– Ну, мне нужны смены. В смысле они мне правда очень нужны.
– Не пойдет, – отвечает Бёрнхем. – Посмотри на себя, ты молод. Дай тебе четыре лишних фунта, и ты их промотаешь. Выпивка, девицы, дрянная музыка и все такое.
Алек глядит на Бёрнхема и видит, что тот хочет свести к шутке все трудности, которые успели выпасть на его долю. Но, пожалуй, так надо.
– Нет, – говорит он. – Я имею в виду, я ведь женат, так?
– Ну тут уж тебе виднее, – отвечает Бёрнхем. – Так женат или нет?
– Да что б вас! Да, я женат. У меня маленький сын, еще один ребенок на подходе, и деньги мне бы очень пригодились, потому что мы живем с матерью моей Сандры, и моя мать тоже живет с нами.
– Вот оно что, – настороженно говорит Бёрнхем. Похоже, такая резкая смена настроения беседы застала его врасплох. – Ясно. И всех это немного напрягает?
– Еще бы.
Здесь ему стоило бы ввернуть какую-нибудь шутку, что-то наподобие «Международный кризис в Хренландии рядом не стоял». Бёрнхему бы понравилось такое. Алек бы словно вернул ему его же шутку, украшенную вишенкой и ленточкой, – такое все любят. Теща, свекровь, молодые супруги, стремящиеся улучить момент, чтобы заняться сексом, пока остальные трое их не слышат, это ведь так комично. Но вот что совсем не комично, так это глубочайшая, непоколебимая неприязнь, которую мать Сандры питает к нему и всему, что с ним связано. Не может он посмеиваться над тем, как угасает его мать. Чем дольше они живут в одной квартире, чем сильнее сжимается, съеживается его мать, точно она не до конца уверена, что имеет право занимать место на краешке дивана. Мать Сандры не пожелала иметь в своем драгоценном жилище ничего из их старой квартиры: ни мебели, ни книжных шкафов, которые отец сделал сам, ни книг. От всего пришлось избавиться. Или почти от всего. В сыром чулане под лестницей осталась лишь одна коробка с книгами. Когда он заглянул в нее, то увидел, что все обложки покрылись черной плесенью. «Социализм и Грибок», автор Уолтер Грибок. Уолтер Цитрин, вообще-то. Ц-и-т-р-и-н.
– Оки-доки, – говорит Бёрнхем. – Думаю, картина мне ясна. – Он замолкает, смотрит на кончик сигареты и вскидывает брови с выражением болезненной деликатности. – И ты хочешь вырваться оттуда? Хочешь свой угол, да?
Какая проницательность, думает Алек.
– Да, хочу. В следующем месяце освобождается один дом, и агент сказал, что мы можем заехать. Нам нужны три спальни, если мы не хотим друг друга… В общем, чтобы нам всем было комфортно.
Лицо Бёрнхема светлеет.
– Не нужно тебе это, – говорит он приободрившись.
– Что? – спрашивает Алек.
– Не нужно тебе это. Аренда жилья – это как игра в наперстки, – объясняет Бёрнхем, вернувшись на безопасную территорию барных разговоров. – Мысли шире, тебе надо приобрести что-то. И мой тебе совет – не здесь. Без обид. Все это викторианское дерьмо – сплошь протекающие крыши, крохотные комнатки и никакого ремонта… Да еще и цветных становится больше с каждым днем. Лучше уехать из Лондона в какое-нибудь новое местечко, чистое. Вот у нас, например, смежный дом в Уэлвине. Новенький, никакой паутины по углам, есть небольшой садик, газон, чтобы дети играли, подъездная дорожка. И готов поспорить, что я даже на электричке до работы добираюсь быстрее, чем ты. И он наш.
– Звучит отлично, – сухо отвечает Алек. – Правда, здорово, но, знаете, я родился и вырос в лондонском смоге, и я, пожалуй, предпочел бы остаться на старом месте.
– Ты не понимаешь, что теряешь, – говорит Бёрнхем.
– Судя по всему, возможность поболеть за «Лутон Таун» и стать счастливым владельцем живой изгороди, – не может сдержаться Алек.
– Наглый мелкий говнюк, – говорит Бёрнхем, но без злости. – Наглый. Мелкий. Говнюк. Как я и говорил, да? Язык бежит впереди мозгов. Ну, что ж, дело твое.
Черт, черт, черт, думает Алек.
– Послушайте, Клайв…
– Для тебя мистер Бёрнхем.
– Мистер Бёрнхем, простите. Клянусь вам, я обычно хорошо лажу с людьми. Понимаете, у малыша колики, и мы не то чтобы хорошо высыпаемся. Уверен, вы и сами помните, что это такое.
– Да, да… Знаешь, что я делаю, когда у нас такое случается? Оставляю жену разбираться с этим и иду спать в другую комнату. Досадно, что у тебя такой нет, правда?
– Touchе, – отвечает Алек.
– Ту-ше? – передразнивает его Бёрнхем. Белоснежные плиточки зубов снова сияют. – Ту-ше?
– Мой отец любил «Трех мушкетеров».
– Не сомневаюсь. Ох, как бы ты вписался в «Таймс», иногда там такое нужно.
Бёрнхем смотрит на него, явно что-то обдумывая.
– Ай, да и черт с ним, – говорит он. – Попытка не пытка, но предупреждаю – не все сразу. Начнем с одной-двух смен, и если все пойдет нормально, то отлично. Но если ты не сможешь, когда надо, держать язык за зубами, вернешься обратно в эту дыру быстрее, чем сможешь сказать ту-ше. Договорились?
– Да, мистер Бёрнхем. Спасибо.
– И сразу забудь про международные новости и всякое такое. В ближайшие несколько лет тебя и близко не подпустят к полосам, которые приходится менять в последнюю минуту. Ты начнешь с придворного циркуляра, судебных отчетов, объявлений и писем. «Невеста блистала в неожиданном наряде из вишневой тафты» – в таком духе. Но даже там тебе нужно будет держать себя в руках. Во всех смыслах. Это тебе не тихое местечко, вот что я хочу сказать. И тебе придется со всем этим справляться.
– Я справлюсь.
– И не дай мне пожалеть об этом, Д’Артаньян.
– Никогда, мистер Бёрнхем. Один за всех и все за одного, мистер Бёрнхем.
– Тогда первая смена в следующий четверг, – говорит Бёрнхем, а затем, повысив голос, бросает: – Можете возвращаться, мистер Хобсон.
Хобсон выходит из-за угла, за которым тактично прятался все это время, и подагрической походкой огибает барную стойку.
– Уже договорились? – спрашивает он.
– Да, – отвечает Бёрнхем. – А теперь я, пожалуй, вернусь в цивилизацию. Спасибо за напитки, спасибо, что показали этого вашего языкастого парня.
Он осушает стакан, берет со скамейки фетровую шляпу и удаляется.
– Отлично, Алек, – говорит Хобсон. – Просто замечательно. Не так гладко, как я ожидал, но все равно замечательно. Отличный результат, я за тебя рад.
– Я вам очень обязан, мистер Хобсон, – отвечает Алек. – Сами знаете. Вы так много для меня сделали за все это время, я этого не забуду. Мне тоже пора возвращаться, надо быть на месте через десять минут. Сами скажете в «Газете», что возьмете кого-то еще?
– Да, да, но подожди-ка. Задержись на секундочку, я хочу тебе кое-что сказать.
– Что? – спрашивает Алек, предположив, что его отец, возможно, просил на такой случай передать ему какие-то слова или что-то в этом роде.
– Эм-м… – Хобсон сводит кончики длинных белых пальцев: большими подпирает выдающийся подбородок, а указательными принимается постукивать по носу. – Я хочу тебе сказать вот что…
– Я слушаю.
– Я хочу сказать, в печати тебя ждет большое будущее, и это прекрасно. Вы с Сандрой хорошо устроитесь, я помог тебе всем, чем мог. Но ты смышленый парень, и я хочу сказать, то есть я, по меньшей мере, просто должен тебя спросить: ты действительно этого хочешь?
– Хочу ли я? – переспрашивает Алек, мысленно находясь уже где-то в конце Маршалл-стрит.
– Знаю, я давно должен был спросить. И я понимаю, менять что-то сейчас было бы рискованно. Но ты еще молод. А печатные станки уже нет. Я не могу отделаться от этой мысли.
– Простите, не улавливаю, – отвечает Алек, глядя на часы.
Может, он пьян? – думает он. С одного виски вряд ли.
– Линотипы. Они не менялись, сколько я себя помню. Они старые. Они древние. И тебе придется сидеть за ними. Может статься, ты просидишь за ними всю жизнь, как я.
– Не самая плохая жизнь, – как можно деликатнее отвечает Алек.
– Вовсе нет! Нет! Но, господи боже, приятель, у тебя же такой умище, как у твоего отца. По крайней мере, насколько я могу судить. Ты мог бы заняться чем угодно, мог бы сделать что-то новое.
Алек едва сдерживает раздражение. Шесть лет в учениках, четыре года в «Газете» – десять лет он погружался в это дело все глубже и глубже, а старый дурак решил завести этот разговор только сейчас? Во всех его «мог бы» Алеку слышатся отголоски вымышленного мира, в котором этих десяти лет просто не было. В котором нет Сандры, нет малыша Гэри, нет уже принятых решений, пройденных путей, нет удушающей нужды, когда надо покупать продукты. Какую такую другую жизнь ему пытается нарисовать Хобсон? Теория, иллюзия, фантом, ради которых нужно отбросить все настоящее. Старый дурак. Но он не будет огрызаться на него, не будет. Не сегодня. Сегодня ему есть за что быть благодарным.
– Все прекрасно, – говорит он. – Вы же знаете, мне это все нравится.
И это правда. Вернувшись в «Газету», он включает машину, и, пока горит красная лампочка, показывающая, что типографский сплав еще не достиг точки плавления, он просматривает тексты: отчеты мирового суда, а следом за ними небольшие рекламные объявления.
– Ну что, Лен… – обращается он ко второму наборщику, который уже барабанит по клавишам.
– Что, получил работу? – спрашивает Лен.
– Да.
– Молодца, – говорит Лен умиротворенно.
Алек ждет, он знает, что вот-вот впадет в состояние, в котором будет пребывать весь остаток дня, когда минуты то бегут, то растягиваются, но часы при этом незаметно ускользают. На мгновение он вспоминает слова Хобсона и ловит себя на мысли, что просто сидит и ждет. Он внимательно вглядывается в линотип – махину размером с пианино, только сделанную не из гладкого блестящего дерева, а из множества смазанных, замысловатых, металлических деталей, выдыхающую дым и пар. И она его восхищает. Тысячи соединенных между собой частей, множество импульсов, отзывающихся на прикосновения его пальцев, и место наборщика, которое можно сравнить с троном, ни больше ни меньше. Он возведен на престол. (Зеленая лампочка.) Он король машины. Его взгляд сужается до строчки текста и клавиатуры с девятью десятками черно-сине-белых клавиш. Каждая клавиша, которую он нажимает, выталкивает бронзовую буквенную матрицу из магазина наверху, где остальные ждут, собравшись в столбики – длинные, как струны пианино. Щелчок, скрежет – и медная матрица падает на свое место в наборном отделении, которое располагается на уровне его глаз. Но, прежде чем она падает, успевает пройти короткий, но значительный отрезок времени, так что к тому моменту, когда она попадает на место, он успевает нажать следующую клавишу и отправить следующую матрицу в путь. Когда он разгоняется – левой рукой перебирая строчные, правой – выделяя заглавные, прыгая обеими в центр за знаками препинания и цифрами, – машина выдает ему матрицы с ощутимой задержкой, в безукоризненно точном порядке, но на две-три буквы отставая от его стремительных пальцев. А это значит, что если он разогнался, то не может проверить, докуда дошел, глядя на выстраивающийся перед ним медный ряд. Ему нужно держать это в уме, переключать внимание, как курсор, с-о-д-н-о-й-б-у-к-в-ы-н-а-д-р-у-г-у-ю. В конце строки шириной с колонку он прислушивается к скрежету металлического снегопада, и, когда тот заканчивается, он нажимает на кнопку окончания строки, которая приводит остальные части машины в нарастающее, возвратно-поступательное движение. Матрицы прижимаются друг к другу и фиксируются. Первый подъемник опускает их в жидкий сплав (пш-ш-ш) и вытаскивает (клац). Второй подъемник доставляет их в верхнюю часть машины и отправляет на транспортер, который отгружает их к нужному месту в магазине, и они падают, каждая в свою колонну, готовые к повторному использованию (дзинь). Но он не обращает внимания. Он уже давно набрал следующую строку, и за ней еще одну. Он замечает лишь неизменную сложную симфонию, которую исполняет работающий в полную мощь линотип. Щелк-тррр-клац-клац-кххх-пшшш-ффить-жжж-дзинь. Непрекращающийся, синкопированный ритм, в котором звуки почти всегда накладываются один на другой. За этими механическими звуками нужно неустанно следить, не теряя при этом концентрации, потому что любое отклонение или пауза может означать, что Папаша Линотип вот-вот может плюнуть тебе на ноги расплавленным металлом. Не считая этой задачи, его внимание следует за пальцами, танцующими над ОЕНАИ СТМВ – самыми крайними и самыми часто используемыми буквами на клавиатуре, а слева от него собираются первозданные, блестящие ярче серебра раскаленные металлические строки, слова, которые мгновение назад были лишь смазанным следом пишущей машинки или чернил, пока Алек, король и алхимик, не преобразил их.
Вэл
«Я слишком стара для такого», – думает Вэл, опасливо цепляясь за Алана. Мопед гудит, как гигантский улей, в воздухе воняет бензином, у нее раскалывается голова, а по бокам мелькают вишневые сады, коровы и прочие сельские атрибуты, пока они несутся по какому-то шоссе в плотном потоке выходного дня.
– Все нормально? – кричит Алан, ухмыляясь через плечо.
– Да, все классно, – отвечает она.
Стоило настоять на поезде. И не стоило надевать розовый мохеровый свитер с этими широченными рукавами, который собирает на себя дорожную пыль и на который Алан пролил чай, когда они два часа назад остановились перекусить. И вообще не надо было соглашаться на эту поездку в Маргейт. Да, он милый парень, и, да, они несколько недель улыбались друг другу в магазине, но ему всего девятнадцать. А когда утром она, как договаривались, подошла к гаражу под железнодорожными арками, выяснилось, что он самый старший в этой компании мальчиков с мопедами и девочек с начесами, собравшихся в Маргейт. Рядом с этими куклами она чувствует себя теткой, и, надо сказать, не только она. Они оказалась в компании восторженного юного племени, но она одета не так, как нужно, и все глядят на нее, как на чью-нибудь приставучую тетушку.
Алан что-то говорит, но в этот момент их обгоняет грузовик, и его слова тонут в грохоте и шуме.
– Что? – практически визжит она.
– Говорю, почти приехали! Еще пару миль! Но тут есть потрясное кафе, мы всегда там останавливаемся. Заедем?
– Хорошо.
– Что?
– Да! Супер! Если хочешь, давай!
Вообще-то в этот момент они уже сворачивают с дороги в компании остального выводка и заезжают на парковку, которая сплошь заставлена мопедами. Ну, а как же еще. Кафе представляет собой небольшое здание из красного кирпича с высокими окнами. За стойкой – супружеская пара, на чьих лицах явно читается, что они не совсем понимают современную молодежь. Но, несмотря на это, они весьма бойко продают им всем яйца с жареной картошкой, тосты с печеной фасолью, апельсиновый лимонад и молочный «Нескафе» в прозрачных стаканчиках, едва успевая при этом открывать и закрывать кассу, – принимая полукроны и десятишиллинговые купюры от этой слегка устрашающей банды, они, как-никак, зарабатывают себе на жизнь. Она могла бы привлечь их внимание, но не будет. Вместо этого она уходит в туалет, пока Алан и его компашка вихрем врываются в другую кучку таких же детей. В туалете девчонки, разбившись на небольшие группки, жмутся друг к дружке, смеются, что-то щебечут, и, чтобы поправить помаду, ей приходится силой протискиваться к зеркалу, где уже стоит какая-то сопливая мадам, явно переборщившая с тенями, отчего сильно напоминает енота.
На обратном пути она видит, что Алан стоит у музыкального автомата, и замечает, что к компании присоединился еще один парень. Он сидит на пластиковом стуле, широко разведя колени, словно его вообще не беспокоит, сколько пространства он занимает в мире, а между тем кафе настолько переполнено людьми, что вот-вот лопнет, и все остальные вынуждены тесниться. Что бы ему ни говорили, он лишь кивает головой или издает неопределенные «угу» и «м-м-м», не разжимая темных, припухших губ. Смотрит прямо перед собой так, словно ему невыносимо скучно. Глаза у него большие и темные. И он красиво одет. Правда, красиво: на нем костюм переливчатого синего цвета с узкими лацканами и зауженными брюками. Должно быть, он стоил ему пару зарплат, потому что явно сшит по меркам. У него острые скулы, гладкие черные волосы и презрительный взгляд – никого красивее она не видела примерно никогда. Даже козлина Невилл не был так хорош. По сравнению с ним образ прощелыги, который разыгрывал Невилл, внезапно показался ей очень натянутым и второсортным, хоть он и помог ему в свое время залезть к ней в трусики. Рядом с этим парнем бедолага Алан, розовый взмокший добрячок в хлопковой рубашке, кажется не привлекательнее куска консервированной ветчины.
– А, вот ты где, – говорит Алан. – Взял тебе сэндвич с беконом. Это Майк. Оказывается, он тоже из Бексфорда.
– М-м-м, – протягивает Майк, глядя на нее.
– Забавно, что мы ни разу не пересекались, да? – говорит Алан.
– М-м-м, – повторяет Майк, не сводя с нее глаз.
– Да, – отвечает Вэл, глядя на Майка в ответ. – Я бы запомнила.
– М-м-м.
Одна из девчонок с начесом начинает хихикать.
– Ну, что, – говорит Алан, глядя то на Вэл, то на Майка. – Нам, наверное, пора ехать, да, пупсик? Ты не против доесть на ходу?
– Я не голодная, – отвечает Вэл.
– Она не похожа на пупсика, – внезапно произносит Майк. – Мне так кажется, приятель.
Он говорит в нос, как истинный уроженец южного Лондона, его голос вибрирует, как пила, словно идет откуда-то из полости между темных бровей. Закончив фразу, он поджимает губы и кривит их в усмешке.
– Э-э, ну, неважно… – говорит Алан.
– А ты что скажешь? – спрашивает Майк. – Ты его пупсик? Типа птичка? Или маленькая собачка?
– Нет, – отвечает Вэл.
– М-м-м.
– У меня голова болит, – говорит Вэл. – Раскалывается, правда.
– Да? – спрашивает Майк.
– Да. – Она бы с радостью вытянула эту гадкую боль спиралью из головы и сунула ему в лоб, в то место, где резонируют его слова, чтобы разделить с ним это противное ощущение пустоты. Чтобы их головы превратились в смежные, тошнотворно пустые комнаты.
– Жаль, – говорит Майк, вздернув брови. Внезапно он встает, плавно и грациозно, точно марионетка, и протягивает руку к ее лицу. На секунду кажется, будто он прочел ее мысли и, не дождавшись, пока она отдаст ему свою боль, тянется большим и указательным пальцем, чтобы забрать ее самому. Но нет, вместо этого он протягивает ей голубую треугольную таблетку. – Вот, возьми, полегчает. Может быть.
– О-у, – неуверенно произносит Алан.
Но она берет таблетку и, не задумываясь, глотает, не запивая, чувствуя в глотке меловой вкус оболочки. Майк, не оборачиваясь, поднимает другую руку и качает пальцем – и жест этот обращен к стоящему у него за спиной Алану. Не-а.
– Увидимся, – говорит он и решительным шагом направляется к выходу.
Снова сидя на мопеде, упираясь в напряженную, взмокшую спину Алана, Вэл пытается быстренько собраться с мыслями. Она не то чтобы очень хорошо знает Алана. Она не его подружка. Нет. Она не… Но сейчас они несутся по склону, вокруг вырастают белые домики Маргейта, впереди блестит море, и неизвестная таблетка начинает действовать, моментально растворившись в пустом желудке. О да, головная боль проходит, словно туча, оставшаяся позади. Тревога тоже давным-давно исчезла из поля зрения. Сегодня не день для тревог. Солнце сияет. Припаркованные машины блестят, словно их только-только покрасили и отполировали. Куда бы она ни посмотрела, ее взгляд постоянно цепляется за что-то поразительное, что-то новое, что-то выдающееся. От этого мысли у нее в голове пускаются вскачь, и стоит ей, вздрогнув, очнуться от них, как ее привлекает что-то другое – промелькнувшая вывеска химчистки или пестрый цветок у кого-то на подоконнике. Мир вокруг словно пинбольный автомат – ее мысли прыгают, мечутся, сталкиваются, рикошетят туда-сюда-туда-сюда-туда-сюда. Или…
Алан останавливает мопед на пятачке, где уже жмутся все остальные. Она никогда прежде не замечала, как в боковых зеркалах мелькает свет, мозаика маленьких отражений всего, что вокруг, – раздробленный океан, искусно пойманный овальными блюдечками на ножках.
– Как пинбол, скажи ведь, – говорит она.
– Чего говоришь? – спрашивает Алан.
– Ты похож на ветчину, – отвечает она. – На отличную ветчину. Да, мы встретились в магазине, но ты был не в мясном отделе, а в хозяйственном. Какая жалость. Но, если честно, только не обижайся, я бы все равно на тебя не позарилась.
– Эй, что с тобой? – Алан краснеет.
– Она декседрин съела, что ли? – спрашивает одна из начесанных.
– Я просто веселюсь, – говорит Вэл. – Первый раз за день, если честно. Знаешь что, Алан? Алан, Алан, старина, знаешь, что? Тебе надо встряхнуться! Смотри на жизнь с этим, как же его… Что же это за слово, на языке вертится… Тебя не бесит, когда такое случается? Как будто дырка в голове, да? Ха-ха! Мозг дырявый, как сыр. Или как решето.
– Вот черт, – ёмко заключает Алан.
– Ты лучше усади ее куда-нибудь. Дай ей чаю или еще чего-нибудь. С ней такое явно в первый раз.
– Да мы же только приехали, – говорит Алан. – Я ей не нянька. Я хочу спуститься к воде. Девчонки, может, вы присмотрите за ней, а?
– Ну ты и наглец. Сам ее притащил, сам с ней и возись.
– Ну, пожалуйста. Всего пару минут. Ну, вы чего?
Главная начесанная бросает на Алана презрительный взгляд и выплевывает жвачку на палец с ногтем цвета телефонной будки, а затем демонстративно прилепляет ее на сиденье мопеда.
– Эй, полегче, – говорит Алан. – Поосторожней с обивкой.
– С обивкой! – верещит начесанная и вместе с приятелями разражается хохотом.
– Эй, – встревает Вэл, которая немыслимо долго ждала окончания этого чрезвычайно нудного диалога. – Эй, эй, эй, эй. Эй! Знаете, что? Идите на хрен!
– Само очарование.
– Вэл… – начинает Алан.
Но Вэл, широко улыбаясь, отступает на запруженный людьми тротуар, и больше ей ничего делать не нужно. Ее подхватывает поток отдыхающих, и обеспокоенное лицо Алана, как и недовольная гримаса девчонки, в мгновение ока отдаляются, усыхают до розовых крошек, а затем и вовсе исчезают – с глаз долой, из сердца вон. Тут же у нее перед глазами снова возникают разные предметы, в то время как толпа уверенно подталкивает ее вперед, точно сам океан взял ее под локти, поднял над галькой и покачивает на волнах.
Здесь есть и настоящий океан. С боковых улочек на главную, бегущую вдоль берега, потоками стекаются люди. И когда она сворачивает – когда сворачивает толпа, – вдали уже виднеется пирс, врезающийся в горячую голубую воду, и все изгибы длинного маргейтского пляжа, усеянного телами людей. По пути туда поток движется бодро, слегка покачиваясь, но удерживая ряды, а ближе к воде распадается на отдельные сгустки купающихся, детей с резиновыми кругами и бабушек, придерживающих платья и растирающих косточки на ногах. Между ними люди тесно спрессованы и едва двигаются, как зубчики на расческе. Три разные плотности, три разных вида движения. Она наблюдает за всем этим с некоторым приятным нетерпением. На что бы она ни взглянула, ей кажется, что она смотрит на это уже очень долго, слишком долго. Тогда она переводит взгляд дальше, но как только он за что-то цепляется, ей кажется, что прошла вечность. Но ей не хочется ничего делать, хочется лишь впитать как можно больше растянутых мгновений этого дня.
Она видит, как в кукольной будке на конце пирса блестит щека Джуди из папье-маше, по которой лупит палкой мистер Панч, а голосящие дети, сбившись в толпу, со страхом хватаются за головы. Она видит женщин, старше ее на пять, десять, двадцать или ноль лет, которые натирают детей кремом, вытирают носы, подсушивают полотенцами волосы и передают сэндвичи. Она видит задремавших отцов; злых отцов; спокойных отцов; отцов, читающих новости о скачках. Она видит целые лагеря семей, разбитые на шезлонгах.
Она видит, как по асфальту из-под вафельного рожка, торчащего вверх, словно тонущий Титаник, растекается ярко-желтый шлепок ванильного мороженого, выпавшего из липкой, растопыренной пятерни ребенка. Она видит покачивающийся саржево-синий сгусток наглухо застегнутых полицейских, тяжело вышагивающих вдоль дороги. Она видит голубые рубашки и сине-серебристые, блестящие на солнце шлемы полицейских, вызванных для подкрепления и ждущих своего часа у фургонов. Она видит щетину на розовых шеях мужчин за сорок, которые приехали к морю при галстуках и теперь, зажав в пальцах сигареты, крутятся вокруг полицейских фургонов, как группа поддержки в ожидании какого-нибудь вопиющего беспорядка, чтобы можно было бурно возрадоваться, когда порядок будет восстановлен.
А между всем этим – значительно проигрывающие числом мелкодисперсной массе людей, густой, как куст кресс-салата, растущего на подоконнике, – неуклюже, неуверенно движутся маленькие ручейки парней и девушек, ищущих друг друга и ждущих. Чего? Внимания? Когда на них не направлено внимание, они сконфуженно ухмыляются, толкаются плечами, протирают солнечные очки, передают друг другу чипсы, роняют их, поднимают и пытаются сдуть налипшие песчинки. Но когда на них смотрят – когда семьи или мужчины в галстуках поворачивают к ним головы, когда полицейские двигаются в их направлении, они, кажется, точно знают, что делать. Подпитываясь неодобрением, они разыгрывают потасовки в отдельных маленьких группках и кластерах. Толкаются, нерешительно начиная заварушку. Сбивают друг друга с ног, сцепившись, катаются по земле, задевая лежаки и силясь высвободить руки, чтобы нанести следующий неуклюжий удар. То тут, то там кому-то разбивают нос. Мамочки возмущенно вскакивают, мужчины в галстуках тяжело качают головами, взопревшие полицейские врываются и растаскивают парней за воротники, пока те машут руками и ботинками оставляют борозды на песке. Зрелище не захватывает. Похоже на размеренное волнение закипающей в кастрюле овсяной каши. Закипающая каша происшествия.
Но затем ее взгляд выхватывает какое-то иное движение в одной из борющихся групп: кто-то в костюме переливчатого синего цвета, кто находится в центре заварушки, но не задавлен ей, двигается легко, взвешенно и грациозно. На конце изысканного синего рукава блестит что-то похожее на металлическую расческу, и в какую бы сторону она ни направилась, она рассекает, расщепляет, разделяет толпу. Перегнувшись через ограждение набережной, Вэл видит Майка. А он в ту же секунду замирает, аккуратно придерживая кончиками пальцев свободной от расчески руки подбородок какого-то сонного вихрастого парня. Он видит, что она видит. Он ухмыляется. У нее под ребрами что-то сжимается и перекручивается, а в промежности – пульсирует и расслабляется. Внезапно время приходит в себя и, вместо того чтобы с опозданием прыгать с кадра на кадр, снова соглашается вернуться в привычный ритм. В этом ритме Майк кружится, качается из стороны в сторону и припечатывает заторможенного парня в челюсть заостренным носком ботинка. Как будто что-то хрустит, как будто мелькает кровь, но до них далеко, и сила удара отбрасывает парня в гущу драки, и он растворяется, словно его никогда и не было, и теперь все ее внимание занято изящным и точным движением ноги, и Майк поворачивается к ней, как танцор, театрально раскинув руки, словно говоря: «Ну что, понравился тебе мой трюк?»
Она не знает. Она об этом не задумывается. Ей нравится он. Это, должно быть, написано на ее восхищенном лице, потому что он отделяется от дерущейся толпы и непринужденно направляется к ней, на ходу засовывая расческу в нагрудный карман, стряхивая пыль с переливчатых синих лацканов и игнорируя крики за спиной, словно драка больше не имеет к нему никакого отношения. Он все еще ухмыляется.
– Ты как, в порядке? – спрашивает он.
– Да, спасибо, – отвечает она. – Голова прошла.
– И от своего парнишки ты тоже избавилась, я смотрю.
– Он не мой парнишка, – говорит Вэл.
– А он знает?
– Да. Определенно.
– Ну, тогда… – Майк собирается с мыслями. – Тогда…
– Что?
– Тогда, миледи…
– Что? – смеется Вэл.
– Не желаете ли чипсов?
– Может быть, – отвечает Вэл.
– Недотрога, да? – спрашивает он.
– Нет, – отвечает она, глядя в его огромные глаза. – Совсем нет.
Майк, который до этого шел рядом с ней, театрально сгибая и разгибая запястья и шею, что выглядело достаточно угрожающе, останавливается.
– Как тебя зовут? – спрашивает он. Она называет свое имя. – Мне нравится. Такое старое, доброе. Не то что вся эта американская хрень.
Его длинная рука с аккуратно подстриженными ногтями тянется к ее лицу. Он легонько касается ее лба, потом кончика носа, а затем – губ.
– А что была за таблетка? – спрашивает Вэл и, произнося эти слова, открывает рот и пускает его теплую сухую кожу, ноготь и кутикулу чуточку глубже, позволяя пальцу устроиться на подушечке нижней губы. Мимо проезжает полицейский фургон.
Чайки, тележки с мороженым, болтающие семьи, кряхтящий автобус.
– Я поднял на тебя руку, – говорит Майк.
Кончиком языка она касается кончика его пальца. Майк моргает.
– Тогда пошли, – говорит он и присваивает ее. Но не обнимает за талию, не целует и не берет под руку. Он совершенно недвусмысленно хватает ее за локоть и ведет – совершенно недвусмысленно – прочь с шумной набережной, на первую же боковую улицу и дальше, на улочку поменьше, полную маленьких магазинчиков, и еще дальше – в переулок, зажатый между стенами с каменной крошкой, где нет ничего, кроме пары мусорных баков.
– Что? – Она задыхается, посмеиваясь. – Что мы…
Но он совершенно недвусмысленно кладет руки ей на плечи и опускает ее на колени, на землю рядом с мусорными баками.
– Давай? – спрашивает он.
Она не знает, на что он спрашивает согласия. Это совсем не похоже на то, как ведут себя парни, которые тебя хотят. Они всегда хотели потрогать, распустить руки, прижаться и скользнуть мокрыми нервными ладошками к ней под одежду. Козлина Невилл чуть ухо ей не ошпарил своим дыханием. Но Майк с его «давай», которое могло в своей жадности сравниться с ладошками любого парня, отклоняется назад, подальше от нее. Синие плечи откидываются на щербатую штукатурку, красивое лицо смотрит в сторону, а ноги расставлены, словно он не желает приближать к ней никаких других частей тела, кроме единственной точки соприкосновения, возбужденной радостями праздничного выходного дня и приведшей его к ней навстречу. Он выставляет вперед бедра, кладет руку ей на затылок и… ох. Хочет втолкнуть что-то прямо ей в голову.
Ждать приходится недолго. Солоноватый вкус, как кровь, но с пресным привкусом железа.
Майк протягивает ей носовой платок в тон костюму и застегивает брюки.
– Спасибо, прелесть, – говорит он. – Так что насчет чипсов?
Верн
Может, стоило остановиться на кафе «Роял»? Когда дверь такси открывается, путь до ступенек «Тоноцци» кажется Верну таким долгим, что он почти готов дать заднюю. Да и непонятно, оценит ли Маклиш это малоизвестное, жутко дорогое место, где бывала сама королева? Про кафе «Роял» футболисты знают. Их приглашают туда вместе с женами, когда они выигрывают кубок. Там позолота, бутылки игристого, делающие ф-фух, снимки для газеты. Пожалуй, именно так выглядит их представление о «классе», о высших кругах. Да, стоило пригласить его туда. Или в какой-нибудь ночной клуб, где собираются аристократы и мафиози. Не считая, конечно, того, что, если бы Маклиш в Сохо взялся играть в баккара, это могло бы закончиться бог знает чем, да еще обойтись в сумму, которую Верн определенно не может себе позволить. Здесь же все точно подсчитано, точно спланировано, а нужная сумма уже наскреблась заранее. Это его единственный шанс произвести впечатление невозмутимого, беспечного богача. Уже слишком поздно придумывать что-то другое. Просто не облажайся, говорит он себе. Неловко двигаясь в бледно-голубом костюме с ослепительно-белыми манжетами, он спешит к дверям в окружении концентрированного облака лосьона после бритья с Маклишем на хвосте.
– Бронь на час дня. На имя Тейлор, – обращается он к метрдотелю, трущемуся чуть ли не в проходе. Он не пытается придать лоска голосу, замаскировать сквозящий в нем южный Лондон. Нет, скорее, наоборот. Верн может изобразить представителя офицерского класса, если захочет. Неочевидное преимущество службы в армии – из кухни очень хорошо слышно, как всякие Руперты и Хьюго снова и снова произносят гласные так, как они звучат у них в богатых графствах. Но сейчас не время демонстрировать чудеса дикции. Что сейчас нужно, так это обезоруживающая простота выскочки, беспардонно врывающегося в святилище, растопырив локти. Вы только посмотрите на него! Он мог бы быть уличным фотографом, шокирующим модный мир! Молодым и деятельным гением из мира рекламы! Парнем из звукозаписывающей компании, который одним пальцем управляет ритмом! Молодым продюсером, прорвавшимся на Вэст-Энд из бэкингемширской кинокомпании! Большой шишкой в коммерческом телевидении! Это все не про него, но, в конце концов, они-то этого не знают, напоминает себе Верн.
– Разумеется, мистер Тейлор, – отвечает человечек на побегушках, как только находит имя в книге бронирований, похожей на фотоальбом, который мог бы быть у кого-нибудь с фамилией Чамли или Фэншоу. – Марио вас проводит. Наслаждайтесь ланчем, джентльмены.
– Превосходно, – невозмутимо бросает Верн и устремляется в сторону винтовой лестницы вслед за другим лакеем, но, сделав всего пару шагов, понимает, что где-то потерял Маклиша. Он останавливается у лестницы и, глядя из роскошного полумрака на главный вход, обрамленный силуэтами лепестков, свисающих из цветочных корзин, сквозь который проглядывает яркий сент-джеймский день, видит, что его гость колеблется возле дверей, не решаясь войти. Маклиш смотрит на фасад, ссутулив плечи, и крутит пуговицу пиджака, что всегда означает тревогу. Раз он оценил это место настолько, что оно его напугало, может статься, что Верн и не прогадал, и теперь может великодушно освободить его от этого страха.
– Давай, Джо! – кричит он через плечо. – Никто тебя не съест!
И Маклиш, слегка втянув голову, преодолевает ледяное силовое поле метрдотеля с едва заметной, почти извиняющейся улыбкой.
В бывшем подземном хранилище под «Тоноцци» все еще сохранились следы джаз-клуба в стиле ар-деко, коим он был до войны, когда аристократы и чернорубашечники Муссолини и аристократы, которые были чернорубашечниками Муссолини, танцевали чарльстон на до блеска натертом паркете. Но с тех пор над этим местом возобладал добродетельный мэйфейрский вкус, накрыв все пресной цветочной волной. Теперь тут везде сплошь белый лен, а на круглых столиках стоят маленькие букетики фрезий. Официант усаживает их на маленькие позолоченные стулья неподалеку от лестницы, и Верн чувствует себя великаном. Но он чувствует себя великаном везде, это факт. Он так долго ждал, когда вырастет и превратится в одного из тех изящных молодых ребят с длинными ногами, но сколько бы он ни прибавлял в росте, а сейчас он был уже под шесть футов, он пропорционально увеличивался и в ширину. При любом росте он останется огромным, квадратным куском мяса с маленькими острыми глазками на лице шириной со щит. Он ходит в старый бексфордский спортзал не столько для того, чтобы поупражняться в спарринге, от которого он лишь потеет и задыхается, сколько чтобы часами зависать у груши для спидбола. На улице он никого не догонит, но если кто-нибудь добровольно окажется в зоне досягаемости его кулака, он сможет его уложить. А его габариты придают ему значимости, даже авторитета, что в целом компенсирует его возраст. В глазах окружающих он не двадцатитрехлетний, в их глазах он – немаленький.
Официант приносит красные меню, тоже напоминающие какие-то фамильные реликвии Чамли-Фэншоу. Маклиш, вцепившись в свое, выказывает новые тревожные знаки. Меню, разумеется, на французском. И снова, боже храни Армейский корпус общественного питания. Спасибо тебе за возможность наблюдать за сержантами-поварами, усердно печатающими потными пальчиками меню для офицерской столовой в лимассольской духоте. M-i-l-l-e-f-e-u-i-l-l-e-s.
– Так они выделываются в этих местах, скажи? – подчеркнуто серьезно говорит Верн. – В самом верху печень, потом стейк, потом палтус, а потом лобстер.
– Ага, – говорит Маклиш. Он расслабляет запястья, а темные глаза перестают тревожно метаться по сторонам. – Ага…
– Почему нельзя просто так и написать?
– Точно, – говорит Маклиш. – Знаешь, я ни разу не ел лобстера.
«Черт», – думает Верн, остро осознавая исчерпаемость содержимого своего бумажника в левом кармане брюк.
– Ну, так давай, – говорит он. – Вот тебе и возможность. Они тут прекрасно его готовят, подают со всеми специальными французскими соусами и особыми приборами, чтобы вскрывать панцирь. – Верн задерживает дыхание.
– Не, – отвечает Маклиш. – Знаешь, я просто возьму стейк.
– Отличная идея. Я тоже, – говорит Верн. Он подзывает официанта. – Два антрекота медиум, пожалуйста, и бутылку «Кот-дю-Рон» шестьдесят второго. Ты не против, Джо?
– Нет, отлично, – говорит Маклиш. Теперь, когда кризис миновал, официант удалился и опасность оказаться разоблаченным в том, что он не понял ни слова, осталась позади, он откидывается на спинку маленького золотого трона, раскидывает широченные ноги, похрустывает шеей и, вытянув вперед длинный подбородок, приготавливается к тому, что сейчас его будут развлекать. Симпатичный парень: черная копна волос и голубовато-белая кожа истинного шотландца. – Вот это местечко, а?
– Это точно, – говорит Верн. – Одни графы и графини. Сплошные титулы, куда ни плюнь. И знаменитости всякие приходят.
– Правда? – спрашивает Маклиш. – Кто, например?
– Ну, например, ты, – скалится Верн.
– Да иди ты, – говорит Маклиш, и он, конечно, прав. У него нет и толики известности, которая хоть как-то могла бы оправдать его пребывание в этом месте. Запасной нападающий клуба четвертого дивизиона – «Миллуолл» подписал с ним контракт всего десять месяцев назад. За это время он успел ощутить ту строго местечковую славу, распространявшуюся на Бексфорд, Нью-Кросс и Бермондси, где работяги из доков покупали ему пинты, а он в ответ был вынужден выслушивать подробные рассказы о том, где и как именно в этом сезоне налажала команда, а потом по субботам дочери этих самых работяг строили ему глазки. Но ему по душе эти подколки Верна, присыпанные комплиментами. По нему видно, что он привык к некоторому избытку женского внимания, – он и здесь оглядывается по сторонам, скорее всего, просто машинально, чтобы проверить, не встрепенулась ли какая-нибудь барышня. Не тут-то было. Самыми молодыми дамами из тех, что обедали сегодня в «Тоноцци», были прилизанные мэйфейрские барышни лет за тридцать в туфлях-лодочках и жакетах без воротника, которые, смеясь, сдвигали на бок породистые, плотно сжатые колени. В ответ на свой воодушевленный взгляд Маклиш получал в лучшем случае вздернутый нос. Вернее, не совсем. Парочка женоподобных, точно полусонных, пареньков по другую сторону от лестницы разглядывали его с нескрываемым удовольствием, но на этом лучше не заострять внимание.
– Ну ладно. Например, тут бывает королева.
– Серьезно?
– Ага. Серьезная и величественная.
– Вот это да, – говорит Маклиш.
– И ты. Ее величество и ты!
– Иди ты! – отвечает Маклиш. Ему девятнадцать. – Мать удар хватит, когда я ей расскажу.
– Хорошо, – благодушно говорит Верн, даритель похвалы, достойной маминых ушей, – главный на этом празднике жизни.
Тут, как раз вовремя, возвращается официант с бутылкой вина, наливает немного на пробу в бокал, стоящий рядом с Верном, и после выразительного кивка следует церемония разлития и наполнения бокалов для воды – ритуал хрустального звона и бульканья, перед лицом которых Маклиш снова умолкает.
– Твое здоровье, – решительно говорит Верн. Они чокаются бокалами.
Пока Маклиш осторожно делает первый глоток, Верн, подавшись вперед, тихо произносит:
– Может быть, она сидела на этом самом стуле. Вполне может быть, что ты сейчас сидишь на отпечатке монаршего зада.
Маклиш закашливается и втягивает голову в плечи.
– Полегче, – говорит Верн, – винишко-то не выплевывай. Фунт за бутылку, в конце концов.
– Черт побери, нельзя так говорить, – шипит Маклиш. – Не здесь… – Он определенно покраснел и озирается по сторонам, словно из тени вот-вот неминуемо появится полиция снобов и его схватят.
– Можно, черт побери, – отвечает Верн, хотя и сам строго следит за своим голосом и наблюдает за обстановкой. – И даже, черт побери, нужно.
– Что ты имеешь в виду?
– Я имею в виду, – говорит Верн, откидываясь на стуле так, чтобы его светло-голубые лацканы, ослепительная нейлоновая рубашка размера XXXL и шелковый бирюзовый галстук заполнили всю картинку перед глазами Маклиша своей несокрушимой надежностью. – Эти люди, это место – всё это очень мило, но их время прошло. Это вчерашний день. А меня не интересует вчерашний день. Я смотрю в будущее. Оглянись! За кем тут будущее, м? А я тебе скажу: не за ними, черт побери. За нами! Кто здесь будущее? Мы.
Он бросает на Маклиша исполненный решимости взгляд. Такой же, какого в спортзале удостаивается груша для спидбола. Парень ежится, но при этом его распирают эмоции. Он впечатлен.
Появляются стейки. Их подали с круглыми, упругими шампиньонами, но после неудачной попытки наколоть один из них на вилку, когда гриб просто выскользнул из тарелки, испачкав скатерть, Маклиш оставил идею их попробовать. Но нежное мясо легко покоряется ножу, и он, воодушевленный речью Верна, игнорирует грибы, жует, глотает вино и перехватывает инициативу.
– Так ты собираешься открывать рестораны, Верн?
– Определенно, – говорит Верн. – И уж точно что-нибудь посовременнее. Чтобы было светло, просторно и никаких вот этих старомодных штучек, ну ты понимаешь.
Маклиш с ухмылкой кивает.
– Но это второй этап, до него надо дойти. Идея в том, чтобы завоевывать мир постепенно. Сначала идут здания. Например, жилые дома – с ними не прогадаешь, жилье же всем нужно.
Он достает бумажник и протягивает Маклишу крупную визитку кремового цвета. «Гровенор Инвестментс» – самое солидное имя, которое он только мог придумать для компании, располагающейся над забегаловкой в восточном Бексфорде.
– Ты будешь строить дома? – спрашивает Маклиш.
– Пока нет. Я планирую их покупать и сдавать в аренду.
– Хочешь сказать, что будешь домовладельцем? – говорит Маклиш разочарованно и даже с некоторым неодобрением. – Отец говорит, что все домовладельцы – троглодиты. Как тот тип, Рахман. Читал в газетах, как он натравил на детишек здоровенных собак.
– Нет-нет-нет, – тут же парирует Верн. – С этим покончено. Новый закон, который только что приняли, положит всему этому конец. Вырвет с корнем.
К слову сказать, новый закон об аренде положил конец и всем строительным фирмам-однодневкам, с помощью которых такие люди, как Верн, не имеющие никакого капитала, могли легко наложить лапы на ипотечные ссуды. Но он об этом не заикается.
– Это мой шанс, понимаешь? Все эти жулики и троглодиты теперь вне игры, потому что на этом больше не наживешься.
– Но разве ты не хочешь на этом заработать?
– Я хочу заработать, – отвечает Верн. – И я заработаю. Потому что знаю как. Смотри, есть бексфордская Хай-стрит, есть Нью-кросс-роуд, есть центр Депфорда и Левишема. Сколько там домов с магазинами на первом этаже и квартирами на втором? А я тебе скажу: тысячи. Буквально тысячи. И купить их можно за бесценок. А кто получает арендную плату с владельцев магазинов? Тот же, кому платят жильцы, – домовладелец. Бог с ним, что старушка сверху платит гроши, потому что закон об аренде не распространяется на нижние этажи, не затрагивает магазины. Там-то и кроется маленькая золотая жила. Деньги с аренды первых этажей покрывают все расходы на приобретение дома, и этого, и следующего, и так далее, пока в один прекрасный момент тебе не будет принадлежать вся чертова улица.
– Ну, не знаю, – неуверенно отвечает Маклиш. Верн практически видит его мысли. Тот представляет вереницу бексфордских мясных лавок, захудалых овощных магазинчиков, сомнительных торговцев подержанной мебелью и заплесневелых газетных киосков, и ему явно сложно поверить, что где-то там может прятаться хоть какое-то подобие золотой жилы. – Я думал, это будет что-то… Ну, поновее. Ты же сам сказал…
– Будет, – наседает Верн. – С этого все начнется. С обычной улочки, с обычного магазина, потенциала которого никто не разглядел. А потом – да. Потом начнется все веселье. Потом пойдут торговые центры, офисные кварталы, гребаные катки и казино. И небоскребы!
– В Бексфорде? – спрашивает Маклиш. – Ты хочешь построить небоскребы в Бексфорде?
– А хрен ли нет? – говорит Верн, и они оба разражаются хохотом, добрым, воодушевленным, а рядом витают призрачные силуэты небоскребов над рекой.
Является незваный официант и разливает по бокалам остатки вина. Не торопится, затейливо поворачивает бутылку, чтобы с горлышка не падали капли, размахивая у них под носом белым ручником. Маклиш как будто сдувается и снова начинает ерзать.
– Не желаете еще бутылочку, джентльмены? – спрашивает официант.
Нет, вали отсюда.
– Нет, спасибо, – отвечает Верн, отмахиваясь от него большой розовой рукой, и продолжает наступление: – Так что видишь, все начинается с малого, с повседневного, но это действительно будущее. Мое будущее. Возможно, твое. Потому что такой парень, как ты, должен спрашивать себя «А что дальше?», так?
– Отец постоянно так говорит.
– Похоже, он мудрый человек, – вкрадчиво говорит Верн, готовясь призвать в свидетели семейную мудрость. Но Маклиш, отложив вилку с ножом, ссутулил плечи и скорчил гримасу, стараясь, хоть Верн и не сразу это понял, кого-то изобразить.
– Ох, подумай о своем будущем, Джо, – сказал Маклиш, резко перевоплотившись в карикатурного уроженца Глазго со старческим хриплым, прокуренным баритоном, потрескивающим, как обезумевший счетчик Гейгера. – Футбол неплохое дельце, когда ты молодой, а чего ты будешь делать, когда колени откажут? Когда тебе стукнет двадцать пять и твои начальники решат, что ты уже старый, э? Откуда тогда деньги брать на блестящие костюмчики и галстуки?
Перевоплощение оказалось таким точным, Верну и в голову бы не пришло, что парень на такое способен, а еще он совершенно не мог определить, сколько неприязни на самом деле кроется в этой пародии.
– А он у тебя оптимистичный, да? – Он решает не рисковать и прибегает к старой доброй иронии.
– Да нет, он не то чтобы неправ, – вздыхает Маклиш. – Но он говорит это с таким гребаным самодовольством.
– И чем же он предлагает тебе заняться потом?
– Пойти на железную дорогу, как он. Остепениться. «Это хорошая работа. Если, конечно, ты не думаешь, что слишком хорош для нее».
– А сам ты не в восторге от этой идеи? – Теперь он на безопасной территории. Кто же в девятнадцать лет, в самом начале своего пути, своего полета порадуется мысли о падении на землю?
– Не очень.
– Что ж, ты определенно способен на большее.
– Да?
– Да! Конечно способен. Позволь спросить, сколько они тебе сейчас платят? – Разумеется, Верн знает сколько, до последнего пенни. Выяснить это было одним из ключевых моментов в подготовке к сегодняшней встрече.
Как он и предполагал, вопрос настораживает Маклиша.
– Почему вы спрашиваете?
– Это так, для примера. Не подумай, я не допытываюсь. Дай-ка угадаю. Я бы сказал… Фунтов тридцать в неделю?
Лесть. После забастовки, которую игроки устроили три года назад, – еще один ценный ключик к их разговору – ограничение заработной платы, действовавшее десятилетиями, сняли. Но «Миллуолл» далеко не самый богатый клуб, а Маклиш еще далеко не звезда, к тому же они прикрываются тем, что он молод, поэтому сейчас он получает двадцать шесть фунтов и десять шиллингов.
– Около того, – говорит Маклиш.
– Неплохо, – говорит Верн. – Молодец. Но знаешь что? На самом-то деле, если подумать, в конечном счете это просто гроши, сынок.
– Чего? – спрашивает Маклиш, не понимая, смеяться ему или обижаться.
– Нет, конечно, в сравнении с Британской железной дорогой просто превосходно. Но в сравнении с тем, что ты мог бы иметь, в сравнении с миром, – он обводит пальцем окружающий их аттракцион роскоши, – миром, который настолько «созрел», что стоит лишь нажать, главное знать – как и куда, – так вот в сравнении с этим ты просто нищий, приятель. Считай, ничего за душой нет.
– И все же у меня достаточно денег, чтобы вы мной заинтересовались, – говорит Маклиш.
– Прости? – переспрашивает Верн, позволив морщинке смущения рассечь свой массивный лоб.
– У меня достаточно денег, чтобы вы попросили меня вложить их в это… – Маклиш стучит пальцем по визитке на скатерти.
– Что? Ты думаешь, я хочу, чтобы ты инвестировал в это?
– А разве нет?
– О господи, – говорит Верн, силясь изобразить, что это предположение его одновременно смутило и развеселило (но не слишком, чтобы не вышло оскорбительно). – Нет! Боже, приятель, у меня совершенно противоположные цели. Нет-нет-нет. В этом смысле у меня все в порядке. Деньги есть, и по правде сказать, из карманов поглубже, чем твои. Без обид.
– Так вы не хотите от меня денег?
– Нет. Прошу прощения, видимо, я не вполне ясно выразился.
– Тогда чего вы хотите? – спрашивает Маклиш.
Верн цокает языком и смущенно опускает взгляд.
– Ну, – тянет он, потирая указательным пальцем несуществующее пятно на скатерти. – Я собирался подвести к этому, знаешь, чтобы не прямо в лоб, но раз так… Все, что мне нужно…
Он поднимает глаза, чтобы одарить Маклиша заранее подготовленным, исполненным искренности взглядом, который вместо этого цепляется за кое-что у парня за спиной. Там, у подножья винтовой лестницы, в окружении набриолиненных кавалеров с континента он замечает лицо, которое в последний раз видел с высоты пятидесяти футов на сцене Ковент-Гарден. Песня, которая тогда звучала, вознеслась до шестишиллинговых мест на галерке и попала ему в самое сердце, вывернула наизнанку. Без своего трагического облачения она выглядит старше, а светское лицо кажется незнакомым. Но это она! Вот здесь, в паре футов. Эта женщина – ключ к тем чувствам, которые он надежно прячет внутри, даже от самого себя. Когда он покупает билет в оперу, левая рука его не знает, что делает правая[1 - Евангелие от Матфея 6:3: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне».]. Он действует у себя же за спиной. Втихаря проскальзывает на Вест-Энд, отвернув внутренний взор от осознания того, что чуть позже он будет промакивать глаза носовым платком, будет сидеть под золоченым потолком Ковент-Гарден, а по щекам будут беззвучно струиться слезы. Теперь у него щиплет глаза.
Ему следовало бы сейчас нанести тщательно спланированный, решающий удар этого дня. Все льстивые, алчные и унизительные ловушки уже сработали. Пора заканчивать. И где-то там он все еще говорит, а Маклиш кивает, но Верн как будто раздвоился. Верн, который заперт внутри, Верн, который преклоняется перед красотой, Верн, который не представляет, чего хочет и как это получить, мягкотелый Верн появился в самое неподходящее время, чтобы отвлечь внимание Верна, которому сейчас следует со всей возможной твердостью довести дело до предопределенного финала. Из кокона вместе с ним обычным вылез этот, который только и хочет, что глазеть. Открыть рот и таращить глаза. Который не хочет произносить слова, придуманные убедительным толстым человеком в голубом костюме. Которого, по правде говоря, возмущает эта мелкая грязная схема. Тем временем тот Верн, который так упорно трудился, начинает ощущать пустоту. Силы иссякают, энергия испаряется. Финальный аккорд его пламенного выступления становится водянистым. Где убедительность? Где азарт, которым он должен заразить Маклиша? Дезертирован. Растерянно медлит при виде дивы на другом конце зала, которой только что подали консоме[2 - Consommе (фр.) – блюдо французской ресторанной кухни, представляющее собой концентрированный прозрачный бульон из мяса и дичи.].
– Что я хотел бы одолжить, так это твое имя, – говорит он. – Люди тебя знают, и я хочу использовать его, чтобы повысить авторитет фирмы, добавить немножко шика, пока я буду ее поднимать. Если ты позволишь мне это сделать, я возьму тебя в долю. И со временем это может принести тебе немало денег. Когда я дойду до небоскребов… – Даже несмотря на эту полушутку в конце, это все равно будет самая неубедительная попытка заключить сделку в истории. Ни один дурак не поведется на такое. Без шансов, Верн. Без шансов. Его блуждающий взгляд скользит мимо Маклиша. Настолько очевидно мимо, что Маклиш не может этого не заметить.
– Твою мать, – выдыхает Верн, скорее, от отчаяния, нежели от восхищения.
Маклиш оборачивается, чтобы посмотреть, что же такое привлекло его внимание, но видит лишь худощавую темноволосую женщину лет сорока, судя по всему, иностранку. Повернувшись, он видит, что Верн закрыл лицо рукой и смотрит на мир сквозь щели между толстыми розовыми пальцами.
– Что такое? – спрашивает Маклиш, почему-то решивший понизить голос до церковного шепота.
– Я же говорил, что сюда заходят известные люди, – очень тихо произносит Верн. – Вот как раз одна из них. Мария Каллас.
– Простите, но я не знаю, кто это.
– Она певица. Она… Как бы объяснить…
Он мог бы сказать: «Ее голосовые связки, как ноги Бобби Чарльтона[3 - Сэр Роберт Чарльтон (р. 1937) – английский футболист, чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель «Золотого мяча».]» или что-нибудь в этом роде, что-нибудь меткое и смешное, чтобы Маклишу было понятнее. Но ему не хочется. Не хочется смешивать эти два мира, не хочется возводить даже шуточный мостик между тем, что он чувствует, когда поет Каллас, и тем, что он сегодня делает. Они несочетаемы. Он не хочет их сочетать.
– Она потрясающая, – неубедительно бормочет Верн.
– Так вы фанат? – спрашивает Маклиш. Мальчишка улыбается. Без насмешки, доброжелательно. Ободрительно. Верну приходит мысль, что Маклишу, должно быть, доводилось наблюдать, как незнакомые люди теряли дар речи и смущались, когда встречали его самого. – Знаете что? Я думаю, вам стоит пойти и поздороваться. Идите, это же такая возможность! Она не будет против.
– Нет.
– Да идите же! – уговаривает он.
– Нет.
Маклиш шутливо вскидывает руки, с видом одновременно снисходительным и озадаченным.
– Дело ваше, дело ваше. Никто вас не заставляет.
Он смотрит на свои массивные стальные часы.
– Верн, мне пора идти. Так вам нужно только мое имя? Никаких денег?
– Ни пенса.
– И вы не будете, как этот Ракман или как его там? Ничего сомнительного?
– Нет.
– Тогда ладно. Думаю, я ничего не теряю.
– Великолепно, – говорит Верн. – Это… великолепно. Тогда нужно подписать кое-какие бумаги.
– Оки-доки, – отвечает Маклиш. – Ручка есть?
У Верна есть ручка. Он передает ее Маклишу, и тот послушно подписывает здесь, здесь и вот здесь, не глядя, точно как Верн и должен был подтолкнуть его сделать, если бы не был так ослаблен. Так, совершенно не обратив внимания на то, что написано на третьей странице, Маклиш подписывает ипотечное поручительство.
– Ну вот! – говорит Маклиш. – Будем надеяться, что вы спасете меня от железной дороги. Было приятно, Верн.
Верн оплачивает счет, и теперь Маклиш возглавляет шествие вверх по лестнице, мимо снующих туда-сюда лакеев, через таинственный портал богачей обратно к слепящему свету лондонского дня. Верн не оборачивается взглянуть на мисс Каллас. Он отдает последний фунт, чтобы посадить Маклиша на такси. Взмах рукой.
Затем он бредет к автобусной остановке. Он очень устал. У него осталось шесть пенсов на автобус до Бексфорда. Ехать целую вечность, но где-то в районе Ватерлоу до него начинает доходить, что его план сработал. Еще утром он не был никаким застройщиком. Но не теперь. Он перестает дрожать. На Элефант энд Касл[4 - Элефант энд Касл – район в южном Лондоне, где находится крупнейшая лондонская дорожная развязка. Район был назван в честь паба, который до сих пор располагается на одном из перекрестков. В 1960-х в рамках послевоенной реконструкции район был значительно перестроен.] в автобус врывается толпа школьников. Мальчишки устремляются на второй этаж, к месту, где сидит Верн, но, наткнувшись на взгляд, предназначенный для спидбольной груши, отступают. Где-то на полпути по Уолуорт-роуд он начинает насвистывать мелодии из оперы «Тоска». Тихо и не попадая в ноты.
Бен
Туман над кочковатым полем рассеялся. Теперь вместо неторопливых белых завихрений, из которых вырастают голые деревья, Бен видит из высокого окна палаты неровные круги опавших листьев, как желтые нижние юбки, которые сбросило лето. Последние оставшиеся листочки размером не больше полупенса или свечного пламени льнут к веточкам под порывами ветра. «Ларгактил» много на что влияет, но только не на его зрение. Он за сотню ярдов видит этих трепещущих протестующих так же ясно, как мог бы разглядеть отдельные песчинки в горстке прибрежного песка. (Говорят, что они все одинаковые, но на самом деле нет. Там попадаются оранжевые и шоколадно-коричневые, а иногда мелькают бутылочно-зеленые.) Он бы остался у окна посмотреть, как ветер сорвет хотя бы один – потратит полпенса, задует свечу, закрутит желтую крапинку и отправит на землю, где в тени голого дерева она станет неразличимой.
Он постоянно отказывается от предложений Сида-почтальона поиграть в пинг-понг.
– Нет, с-с-с-с-спасибо, – говорит он каждый раз, отпуская левую руку, которую придерживает правой, чтобы показать, как та дрожит. – С-с-слишком т-т-тр-трясусь.
И слишком м-м-м-медленный. Как-то раз они попробовали. Сидни скакал с одной стороны стола, а он на своей половине силился дотянуться до мячика трясущейся ракеткой со скоростью айсберга с болезнью Паркинсона. Это сложно было назвать удачной попыткой.
– Ах, точно! – отвечает Сид, каждый раз удивляясь, как в первый. – Точно, точно, точно… Есть сигаретка, братишка?
– М-м, – тянет Бен. Есть. Он запускает два пальца в нагрудный карман и ухватывает помятую сигарету «Голд Лиф». – В-в-вот, д-д-держи.
– Спасибо! – говорит Сид. – Ты настоящий друг. – Он сует сигарету в рот, передумывает, кладет ее за ухо, передумывает, засовывает в рот, передумывает, кладет сигарету на стол у окна, за которым сидит Бен. Отходит к мистеру Ниву, в надежде уломать его на партию в пинг-понг.
Бен наклоняется, чтобы взять лежащую перед ним сигарету, тянет в ее сторону терпеливую руку, словно трясущийся зонд, и чем дальше удаляется его ладонь, тем сильнее кажется, что она не принадлежит его телу. Но с помощью некоторых корректировок и поправок он дотягивается до сигареты и захватывает ее пальцами. Возвращает руку и роняет сигарету в карман, до следующего раза, когда Сид о ней попросит.
Много ли времени это отнимает? Сложно сказать. Едва ли у него теперь будет меньше времени, чтобы разглядывать деревья. Не меньше, чем когда его созерцание прерывает мистер Нив, похлопывая его по коленке и раскладывая на столе свои документы. Вечно он все разжевывает, этот мистер Нив, напоминает со снисходительной улыбочкой, что он-то образованный человек, дипломированный юрист и, разумеется, понимает побольше, чем автобусный кондуктор типа Бена. «Без обид? Я ничего плохого не имел в виду, друг мой». Бену и правда не удается уследить за тем, как именно мистер Нив связывает между собой письмо от его жены и ответ директора лечебницы на его обращение в рамках нового закона о защите психического здоровья[5 - Закон о защите психического здоровья 1959 года стал первым подобным законом в Великобритании. Он был призван определить случаи, в которых лечение должно быть принудительным. Во всех остальных случаях лечение должно было стать добровольным и по возможности осуществляться без помещения пациентов в лечебницы.]. Не вполне понимает он, и зачем мистер Нив раскладывает по кругу постоянно меняющийся набор бумажек, включающий библиотечные штрафы, старые обеденные меню с доски объявлений и наградные дипломы клуба садоводов. Но, по правде говоря, Бен не очень-то и старается. Мистеру Ниву всего-то и надо, чтобы ты кивал и периодически хмурил брови, и можешь дальше глядеть на свои деревья.
«Ларгактил» сгущает время. С одной стороны, все как будто замедляется, а с другой – огромные пласты времени протекают с такой неразличимой одинаковостью, что однажды ты выглядываешь в окно и выясняется, что лето вдруг закончилось. Бен не знает, сколько времени он здесь провел. Много дней, это уж точно. И он не помнит, чтобы ему доводилось видеть опадающие листья. Но думать об этом сложно, потому что под «Ларгактилом» вообще сложно думать. Он обволакивает мысли, заглушает, укутывает их, точно мебель в пустой комнате. Они все еще там, под покровом, но их грани и очертания скрыты, а добраться до них можно, разве что приложив усилия.
Да и зачем это может понадобиться? Ведь в одном из этих тяжелых, бесформенных коконов сидит Проблема. Она никуда не делась. Когда Бен не спит, он все еще слышит ее приглушенное, но, к счастью, неразборчивое бормотание. Бен уверен, что, если ее выпустить, она тут же снова превратится в чудовищный, беспрерывный круговорот мыслей, захвативших его разум перед тем, как он попал сюда. Гнусные звенья гнусной цепочки, снова и снова без остановки бегущие по кругу. И от них никуда не деться, потому что куда можно деться от собственной головы? От них не отвернуться, потому что как можно повернуться спиной к чему-то настолько пугающему? Опасно поворачиваться спиной к темноте, которая следует за тобой по дороге. Только ты и есть дорога, ты и есть темнота. Это сложно. Лучше об этом не думать. И не присматриваться, иначе бормотание станет громче. Назови что-то по имени, и оно явится. Так что не упоминай, не смотри, не думай. И «Ларгактил» в этом помогает.
Бену не все здесь по душе. Ему не нравится спать в общей комнате, где в кровати слева тревожно мяукает мистер Нив, а из соседней палаты периодически прибегает Дерек. В поисках чего-то, что одолжил мистер Нив, он с грохотом опрокидывает все его заимствования на пол.
– Верни мне мой шампунь, сукин ты сын!
– Нет-нет, убери руки! Да как ты… Он мне нужен. Он мне нужен! Примроуз, они никак не оставят меня в покое!
На кровати справа яростно дышит мистер Коркоран. Он никогда не бывает не зол, даже во сне. Мистер Нив никогда у него ничего не одалживает. Мистера Коркорана перевели к ним из Бродмура, медбрат Фредерикс читал о нем в «Дэйли Миррор». Его постоянно накачивают, днем и ночью. Под щетиной на его лице вяло перекатываются красновато-синие волны ярости.
Но оно того стоит. Все это определенно стоит того, чтобы удержать Проблему в ее коконе. «Ларгактил» – это своего рода благословение, за которое Бен неизменно благодарен. Нетвердым шагом он ходит в комнату трудотерапии и плетет там корзинки из рафии и неустойчивые горшки. Он ест обеденную свинину с печеной фасолью, после которых дают бланманже. Когда день выдается солнечный, он выходит на улицу. Он старается не думать о дальних палатах, которые видит по пути к выходу, где заблудшие души в слишком коротких пижамах дрейфуют в пучине безумия глубиной в несколько десятилетий – «Ларгактил» ему в этом помогает. Он сидит у окна и смотрит на деревья.
Смотри: каждое стоит в неровном круге опавших листьев, как в желтых нижних юбках, которые сбросило лето.
Но есть вещи, которых он не может избежать.
– Пошли, Бен. Обход, – говорит брат Фредерикс, крупный, добродушный, усталый мужчина, который раздает всем свитеры, связанные женой, и который едва ли хоть раз поднимал на кого-то руку без крайней на то нужды.
– М-м?
Во время обходов врачи по большей части просто обсуждают с медбратьями и медсестрами, что прописали тому или иному пациенту и как те себя ведут. Сами пациенты участвуют лишь изредка.
– Тебя ждут в третьем кабинете.
– М-м?
– Я не знаю зачем. Давай, парень, поднимайся. Топ-топ.
Третий кабинет располагается сразу за комнатой трудотерапии. Добравшись туда, Бен замечает, что внутри полно людей, и его медленно охватывает беспокойство. Стулья в кабинете расставлены полукругом, а в центре рядом с пустым местом, оживленно улыбаясь, сидит доктор Армстронг. В теории она его лечащий врач, но он едва ли хоть раз разговаривал с ней. Остальные места заняты студентами-медиками – безошибочно узнаваемый строй белохалатных мальчиков (и нескольких девочек) с блокнотами и шариковыми ручками. На вид им столько же лет, сколько и Бену, но они разглядывают его так, точно он представитель другого вида. Единственное обнадеживающее лицо в комнате принадлежит медбрату Фредериксу, который входит следом за Беном и, обнаружив, что для него кресло не приготовили, облокачивается на дверь. На фоне армированного стеклянного окошка его силуэт напоминает диаграмму.
– Итак, – радостно начинает доктор Армстронг, пока Бен шаркает по линолеуму. – Это мистер Холкомб. Мистер Холкомб находится здесь добровольно. Двадцать два года, после школы работал посудомойщиком, а потом устроился автобусным кондуктором. Шесть, или нет, семь месяцев назад он пришел к своему терапевту в состоянии крайнего возбуждения и попросил, цитирую: «усыпить его». Депрессии в анамнезе нет, но пациент жаловался на навязчивые мысли, возможно, переходящие в слуховые галлюцинации. Диагноз? – спрашивает она аудиторию.
Его используют как учебное пособие.
– Шизофрения, – уверенно отвечает парнишка с бакенбардами.
– Верно, – говорит доктор Армстронг. – Но с обычными оговорками, да? Нельзя установить масштаб заболевания или точно классифицировать определенные состояния.
Все строчат в блокнотах.
– Поступил восьмого июня 1964 года. Начальная дозировка хлорпромазина – четыреста миллиграммов. Торговое название?
– «Ларгактил», – отвечает девушка с каштановой косой.
– Или «Торазил». Затем дозировку увеличили до пятисот миллиграммов, так как возбужденное состояние сохранялось, а потом выровняли до трехсот миллиграммов в день. Поведение?
Последний вопрос обращен к медбрату Фредериксу.
– С Беном вообще никаких проблем нет, – говорит он. – Золото, а не пациент.
– Рада слышать, – отвечает доктор. – Как вы себя чувствуете, мистер Холкомб?
– Х-х-хо-хорошо, – выдавливает из себя Бен.
– Превосходно, – говорит доктор. – Но вопрос, леди и джентльмены, что вы можете заметить? Вы видели, как мистер Холкомб ходит, слышали, как он разговаривает, видите, как он сидит. Есть какие-нибудь соображения?
Они все таращатся на него. Девушка с косой постукивает кончиком ручки по зубам. Мелкий, щуплый студент-индус – опрятный, смуглый, бровастый, похожий на воробья, которого легко можно спрятать в карман, – откашливается и произносит:
– Тик правой руки. Достаточно выраженный.
– Верно, – говорит доктор Армстронг, и после этого все остальные студенты, словно получив одобрение, тоже начинают высказываться.
– Нарушение координации?
– Паркинсонизм?
– Он постоянно высовывает язык?
– Частое моргание?
– П-п-по…
Это уже Бен, пытается произнести «поздняя дискинезия». Он видел эти слова в своей медицинской карте, когда ее оставили лежать на сестринском посту. Он не знает, что это значит, и знает, что ему не положено вмешиваться, но ему так хочется их всех удивить. Но он не может выговорить слова, и все они слышат лишь очередной симптом.
– Затрудненная речь! – победоносно восклицает девушка-косичка.
– Угу, – соглашается доктор Армстронг. – И если бы мы не знали историю болезни мистера Холкомба, из этих симптомов можно было бы заключить, что это…
– Церебральный паралич, – высказывает догадку студент-индус.
– Да, или болезнь Хантингтона. Мы бы проверили оба эти варианта, явись мистер Холкомб в таком состоянии на первичный прием. Но я хочу, чтобы вы все обратили на это внимание, – физически у мистера Холкомба все в порядке. Каждый из этих симптомов является побочным эффектом нейролептиков. Мистер Холкомб здоровый молодой человек. А это все из-за хлорпромазина. Так, мистер Патель?
Студент-индус поднимает руку.
– В таком случае, думаю, ему не повезло. Эти побочные эффекты обычно проявляются гораздо позже и чаще всего у пожилых пациентов.
– Верно. Такие реакции наблюдаются лишь у тридцати процентов, а мистеру Холкомбу не повезло вдвойне, потому что у него эти реакции проявляются очень сильно. – Она поднимает палец. – Запомните, пожалуйста, это совершенно обычная вещь. Редкие – не значит не случающиеся. Такие реакции постоянно проявляются у небольшого количества людей. И мы, как медики, неизбежно сталкиваемся с такими пациентами и должны быть готовы им помочь.
Со всех сторон ручки царапают страницы блокнотов.
– Итак, как мы можем помочь мистеру Холкомбу? Тик, двигательные и речевые затруднения. Как я уже сказала, у него не было никаких нарушений. Не считая, конечно, шизофрении. Или, если точнее, у него пока не было никаких нарушений. Кто скажет почему?
– Потому что эти симптомы могут стать постоянными.
– Спасибо, мистер Патель. И как же нам следует поступить с мистером Холкомбом? Есть идеи?
– Можно заменить препарат.
– На какой, например, мисс Эдвардс?
Девушка-косичка опускает глаза. Она не знает.
– Да, – говорит доктор Армстронг. – Мы могли бы перевести его на «Флуфеназин» или «Ацепромазин», но они относятся к той же группе лекарств и вызывают те же побочные эффекты, к которым мистер Холкомб оказался так восприимчив. Еще варианты?
Патель вопросительно откашливается, но высказываться больше никто не хочет.
– Нужно резко снизить дозировку препарата, – говорит он.
– Н-н! – возражает Бен. – Н-н-н!
Звук, который он издает, больше похож на стон, чем на слово. Доктор бросает на него хмурый взгляд, но, похлопав его по руке, продолжает.
– Я тоже так думаю, – говорит она. – Не очень резко, но оперативно. Для начала надо сильно снизить поддерживающую дозу и, возможно, добавить стандартные седативные средства, если вдруг появятся какие-то признаки психоза. У вас ведь было пару хороших, спокойных месяцев, да, мистер Холкомб? – дружелюбно говорит она, повысив голос, точно обращается к глухому. – Пора возвращаться домой. Вам не место здесь.
Бен обнаруживает, что под «Ларгактилом» можно чувствовать страх. И злость. Если эмоции достаточно сильны, они начинают, как ветер, носиться по комнате с задрапированной мебелью, снося ее и вздымая наброшенные простыни, а сердце начинает неистово стучать. Он спихивает руку доктора Армстронг и поднимается со стула. Она бы так не улыбалась, если бы знала, что ему шепнула Проблема.
– Нет! – хрипло ревет он. Язык во рту мешается, точно застрявший в горле ком. – Не-е-ет!
Студенты отводят от него взгляды. Армстронг вздыхает. Она не так планировала закончить свою маленькую презентацию.
– Фредерикс? – обращается она к медбрату, который уверенно выступает вперед и кладет широкую руку Бену на загривок.
– Не надо, сынок, не надо, – говорит он. – Теперь успокойся. Успокойся.
– Пожалуй, стоит дать ему следующую дозу сейчас и начать уменьшать завтра, – распоряжается она. Фредерикс кивает и за считаные секунды выводит Бена за дверь.
– Чесслово! – говорит медбрат. – На тебя это непохоже.
Бен привык принимать «Ларгактил» в виде противного сиропа в мерном стаканчике. Но в этот раз препарат вводят внутривенно, и от того места, где входит игла, поразительно быстро разливается покой, глухое оцепенение, которое замораживает дребезжащее содержимое его головы и стирает, пусть и на время, будущие кошмары – всё, с чем ему позже придется справляться самому.
– Посиди-ка в кресле, а я принесу тебе чашечку чая, – говорит медбрат Фредерикс.
Смотри: каждое дерево стоит в неровном круге опавших листьев, как в желтой нижней юбке, которую сбросило лето.
Джо
Крыло клуба «Пеликан». Так называемый служебный вход для артистов располагается в переулке Сохо, пропитанном запахами мочи и не поддающихся определению гниющих отходов, зажатом между итальянским магазинчиком, где продают спагетти в длинных синих бумажных пакетах, и дверью с кучей звонков, в которую стыдливо проскальзывают мужчины, стараясь не встретиться ни с кем взглядом. Вход ведет вниз по лестнице в лабиринт маленьких закулисных помещений, где по полу змеятся связки черных кабелей. Джо переодевается в костюм для выступления «Хулиганок» в узком пространстве между гримеркой и коридором: с одной стороны стоят зеркала в обрамлении ярких лампочек, а с другой – не оставляя ни единого шанса на уединение, снуют люди. А крыло – просто еще один закуток: Г-образное пространство, приткнувшееся рядом со сценой, где артисты ждут своего выхода, заставленное ненужными усилителями и коробками с флаерами прошедших и грядущих концертов. Часть крыши в крыле сделана из тех же стеклянных зеленых блоков, что и над сценой. Сквозь них днем с тротуара у входа в «Пеликан» струится водянистый аквариумный свет. А если летом прийти в «Пеликан» пораньше, падающий с потолка свет будет переливаться на волосах и плечах, как капли дождя из драгоценных камней.
Но сейчас там темно, и, приткнувшись в углу Г-образного крыла, Джо видит сцену такой, какой та выглядит во время вечерних выступлений. Из светильников, закрепленных над просцениумом, в то место, где ты находишься, бьют столпы яркого света. Не считая танцующих ног в первом ряду в узких штанах и обтягивающих юбках или всполохов тлеющих сигарет в руках, зал со сцены не видно. Можно лишь услышать его ухающее, ликующее, вздыхающее, покачивающееся присутствие сразу за пределами твоего светового шатра.
Сейчас в световом шатре Вилли Ривз из Чикаго. Стучит ногой по деревянному блоку, чтобы задать ритм, и прыгает пальцами по грифу гитары с металлическими струнами, извлекая звуки одновременно и тяжеловесные, и легкие. Тяжеловесные, как что-то неотвратимое, как блюзовый путь домой через все препятствия, как уверенность, с которой защелкивается сейфовый замок. Легкие, как что-то игривое, как танцующие пальцы, то приближающиеся, то отдаляющиеся от неизбежного, словно в их распоряжении все время мира, а железобетонный финал может оказаться лишь легким толчком. «Я едва ли… – поет мистер Ривз. – Скажи мне, детка». За кулисами он мелкий похотливый извращенец цвета грецкого ореха, воняющий виски и вечно путающийся под ногами. Но на сцене, где демократия тесного пространства больше не действует и все распадаются на аристократов и простолюдинов, хедлайнеров и бэк-музыкантов, там он, конечно, – аристократ. Над той частью незримой аудитории, которая знает, зачем пришла, витает благоговейная, внимательная тишина, обрамленная нетерпеливым бормотанием другой части зрителей. В этом году настоящий чикагский блюз не пользуется таким спросом, как обычно в Лондоне. Теперь его можно послушать в исполнении смазливых белых бой-бэндов, а не черных стариков. Теперь блюз моднее, привлекательнее и – растворенный в рок-н-ролле – куда танцевальнее. Большая часть зрителей стремится стать частью представления.
Но Джо из тех, кто благоговейно молчит. Она слушает, навострив уши, жаждая разгадать секрет Ривза, узнать, как он это делает. Она столько раз говорила мне, каждое утро… Ей бы сейчас вернуться в облако лака для волос и поправлять черный енотовый макияж вместе с другими девочками. Она ведь новенькая, ее взяли на место забеременевшей девушки, и ей бы надо болтать с Вив и Лиззи, цементируя прическу. Но такой шанс никак нельзя упустить. Аккорды Ривза звучат у нее в голове свинцово-серым и черно-коричневым, как шоколад «Борнвилл». Она все еще слышит звуки, как цвета, хоть теперь и знает, что большинство людей так не может. Ее пальцы порхают в воздухе на уровне талии.
Кто-то толкает ее. Потеряв концентрацию, она оборачивается и видит – кого бы вы думали – смазливых белых гитаристов бойз-бэнда, который должен выступать следующим, высунувшихся из-за угла, чтобы поглядеть на Вилли Ривза. Они выглядят несколько разношерстно (замшевые куртки, рубашки-поло, джинсы и ремни с массивными пряжками), словно они сами не определились, какой стиль выбрать, ведь мягкий и задорный уже присвоили «Битлз», а грубый и жесткий застолбили «Роллинг Стоунз». Их группа называется The Blue Birds, если ей не изменяет память. Немного жалкое название само по себе. «Синие птицы» так старательно пытались дотянуться до The Yardbirds[6 - TheYardbirds (англ. птенцы) – британская рок-группа, основанная в 1963 году.], но в итоге дотянулись только до Уолта Диснея, который отправил их кружиться и чирикать над головой Белоснежки. «Да ладно, – думает Джо. – «Битлз» выбрали худшее название за всю историю музыки, но кого теперь это волнует?» Она сама почти не обращает на него внимания.
Я рискнул. Разыграл свои карты.
Стоит ли говорить, что ее саму никто не удостаивает даже того придирчивого взгляда, которым она окидывает «Синих птиц». Она знает, что прекрасно выглядит сегодня. «Хулиганки» наряжаются под Онор Блэкман из «Мстителей»[7 - Британский шпионский телесериал, выходивший в эфир с 1961 по 1969 год.]: узкие черные свитера, узкие черные брюки и ботинки на высоком каблуке. Стоя втроем у микрофона и покачиваясь в такт, они выглядят соблазнительно и феерично. Но для этих перешептывающихся в оцепенении мальчиков она – мебель. Они с головой погружены в серьезное дело – сугубо мужское музыкальное любование. Один из них, тот что с бакенбардами, даже не заметив, оттеснил ее к составленным один на другой усилителям. Другой, с тоненькими жабьими губами, загородил ей обзор. Тощий и носатый наступил ей на ногу, спутав с кабелем. Ее, даже не придавая тому особого значения, отпихнули за стену мужских тел.
– Потрясающе, – на выдохе произносят Бакенбарды. – Просто охренительно.
– Слышишь, вот этот типа удар на шестом аккорде?
– Как на пластинке.
– Нам тоже надо так научиться.
– Ага, тебе надо так научиться.
– И научусь, – говорят Бакенбарды. – Научусь. Он так быстро это делает, скажите? Вы гляньте. Я не могу даже… Я просто не могу. М-н-да-а-а…
– Что за слово «м-н-да»?
– Что за слово?
– Здесь же дамы, – говорит Жабий Рот, не сводя взгляда с Ривза.
– Ты свинья.
– Ты грязная свинья, – скандируют они, приглушенно пародируя голос персонажа из телепередачи[8 - The Goon Show – юмористическая передача BBC, выходившая в 1950-х. Программа оказала заметное влияние на развитие британской и американской комедии. В шоу у одного из персонажей Питера Селлерса была сквозная фраза: «Ты грязная, вонючая свинья! Ты меня умертвил!»].
«Да заткнитесь уже», – думает Джо.
Очевидно, что в той холостяцкой дыре, где обитают эти идиоты, устраиваются ритуалы коленопреклоненного прослушивания песен Ривза. Сине-белое яблоко «Чесс Рекордз» крутится на проигрывателе, игла погружается в желоб на три-четыре такта, а затем поднимается снова. Пальцы на грифе пытаются выудить хоть что-нибудь, хоть отдаленно похожий звук, но оригинальная мелодия ускользает из памяти и в итоге теряется совсем. Еще раз. Разгневанные соседи стучат из-за стены.
– Эй, сейчас будет «Идущие на север».
– Да-а…
– Обожаю эту песню.
– Ага, но не можешь ее сыграть.
– Могу. Практически всю, не считая…
– Вот-вот, начинается…
– Да-а…
– Вот! Что это было? Вот этот пятый аккорд? Печальный такой. Я смотрю прямо на его пальцы, и все равно не понимаю. Как будто В7, но не В7. Что это?
Она понимает, что лучше не стоит. Она знает по опыту, что даже малейшее замечание по теме, которую мужчины считают исключительно своей вотчиной, не приведет ни к чему хорошему. Быть может, если бы она проводила в компании мужчин больше времени, такие порывы давно бы вытравились из нее, но годы ухода за матерью на пару с тетушкой Кей, пока Вэл шлялась где-то с гребаным Невиллом и его предшественниками, подарили ей множество одиноких вечеров. Она возвращалась домой после смены в обувном магазине, принимала пост, делала чай и уговаривала мать его выпить, сидела рядом с ней, отмеряя лекарства, и еще лекарства, и еще. А потом в одиночестве играла на пианино в гостиной причудливый набор мелодий по довоенным нотам отца или наверху вытаскивала из конвертов сокровища фонотеки на Харпер-стрит, погружала собственную иглу в черное море винила и сама предпринимала попытки воспроизвести звучащие мелодии. «Ты как старая дева», – говорила Вэл. (Спасибо, Вэл.) По меркам Вэл она и в самом деле запоздала с погружением в мужской мир лет на шесть. (И кто же в этом виноват, Вэл? Кто бросил на меня все дела, а себе забрал потеху?) Но время, проведенное в одиночестве, учит тебя доверять собственным суждениям, коль скоро ничьих других поблизости нет. Преимущество ли это? Скорее, нет. Во всех журналах пишут, что нет; все жены, с которыми ей доводилось общаться, говорят «нет»; гребаная Вэл, раздавая пространные советы, говорит «нет». Нельзя показывать мужчинам, что ты знаешь что-то лучше них. Даже если это и так. Особенно если это так.
Но у нее болит нога. И мамы уже нет. И вообще она и так слишком долго терпела.
– Это открытый А, а третья струна зажата на седьмом ладу, – говорит она.
Повисает почти неуловимая пауза, и они продолжают разговор, словно она вообще не раскрывала рта.
– Просто загадка, – говорят Бакенбарды. – Магия блюза, вот что это.
– Блюзовый бермудский треугольник.
– Потерянный город блюза.
– Блюзовая эниг-ма, – говорит Жабий Рот голосом старомодного новостного диктора.
– Можно у него самого спросить, когда он закончит? – говорит Тощий.
– Не-е.
Они снова замолкают. Идущие на север, на северную сторону. Красные и белые.
– И что вот это значит, тоже не понимаю.
– А может, – говорят Бакенбарды. – Может… – У него такой вид, точно он вот-вот разразится каким-то открытием.
– Что?
– Может, это вообще не В? Может это какая-то комбинация аккордов?
Джо в темноте закатывает глаза, но, к ее удивлению, Жабий Рот начинает хихикать.
– Да ты гений! Только дошло?
Он неуклюже отодвигается в сторону, чтобы повернуться и взглянуть на Джо.
– И откуда же ты это знаешь? – спрашивает он. В отличие от остальных, в чьих голосах отчетливо слышится лондонская гимназия где-нибудь в Хендоне, Илинге или Сиденхеме, где, несмотря на общую демографическую картину города, главенствует средний класс, в его голосе есть какая-то нездешняя теплота. Западная теплота, из мест гораздо западнее, чем Илинг. Он слегка картавит. Возможно, он из Бристоля. Он на голову выше нее. У него лицо дерзкого выскочки, но сейчас он не скалится, а заинтересованно наклоняется в ее сторону.
– Подобрала, – отвечает она, пожимая плечами.
– Ты играешь?
– Немного.
– И тебе нравится?
Пожимает плечами.
– Почему? Это ведь не девчачье занятие.
Разумеется, он имеет в виду, что блюз – это мужская музыка. Песни о мужских страданиях, мужском разочаровании и о мужском пьянстве, исполняемые мужчинами нарочито агрессивно, вывернуты наизнанку, так что в самой музыке, даже без слов звучит сокрушенная сила. Конечно, блюз не только об этом, но только это в нем хотят видеть парни. И все же по сравнению с тяжелым бренчанием, которое в этот момент выдает Вилли Ривз, музыка, которую она позже исполнит с Вив и Лиззи, будет звучать подчеркнуто легко, слащаво и по-девчачьи, словно сотканная из сладкой ваты, где все нутро и жилы надежно спрятаны от глаз. Но почему? Почему, если ей нравится одно, она делает другое? У нее есть ответы на этот вопрос, но она точно не поделится ими здесь. А возможно, не поделится нигде. Во-первых, она не понимает, почему ей вообще нужно выбирать. Вилли Ривз, исполняющий «Идущих на север», прекрасен, и «Кристалз»[9 - The Crystals – американская женская вокальная группа из Нью-Йорка, очень популярная в 1960-е годы.], исполняющие «Да-ду-рон-рон», тоже по-своему прекрасны, но, по правде говоря, ни то ни другое ей не нравится, это не та музыка, которую она могла бы исполнять сама. Будет исполнять когда-нибудь. Но есть еще одна, более серьезная причина, кроющаяся в тишине. Связанная с тем, что их дом всегда был самым тихим на улице. Всего лишь двое детей, ни одного мужчины и больничная тишина, становящаяся все глуше и глуше. Она хотела заполнить ее и заполняла, жадно слушая все, что попадалось в руки, упорно учась по ходу дела. Подбирала мелодии снова и снова, зная, что большая часть музыки все равно будет ей недоступна, пока она не сможет заниматься ею с людьми. И так было до тех пор, пока не умерла мать и Джо не увидела объявление о прослушивании в группу. Тогда она решилась.
Пожимает плечами.
Но интерес парня не угас. Он продолжает оглядывать ее сверху вниз и делает пробную попытку положить руку ей на задницу. Она стряхивает ее.
– Отвали, я слушаю.
– В самом деле? – отвечает он с улыбкой.
Но слушает она недолго. Программа Вилли Ривза заканчивается, и ее зовут. Толпа отпихивает «Синих птиц» в сторону, чтобы «Хулиганки» могли выйти на сцену. А это не только три вокалистки. Чтобы вживую добиться спекторовской стены звука[10 - Стена звука – название техники звукозаписи и аранжировки поп- и рок-музыки, разработанной и впервые примененной продюсером и звукоинженером Филом Спектором.], им нужны гитары, ударные и духовые, на которых в качестве одолжения играют знакомые парни из студии, согласившиеся помочь, чтобы посмотреть, смогут ли «Хулиганки» – такие же второразрядные исполнительницы, как и они сами, – выбиться в хедлайнеры. Сегодня здесь никто не озолотится. Деньги, что «Пеликан» платит за выступление, разделят на девятерых. С финансовой точки зрения им куда выгоднее было бы прийти в студию звукозаписи и там оперативно и скромно записать бэк-вокальную партию для мисс Спрингфилд[11 - Дасти Спрингфилд – британская соул, поп и R&B певица, чья карьера охватила четыре десятилетия, достигнув наибольшей популярности в 1960-е и в конце 1980-х годов.]. Но надо ведь попробовать, правда? Надо узнать, есть ли в тебе способность удерживать внимание толпы.
Теперь в световом шатре они. У них есть одна песня, которую они хотели бы сделать синглом, но, поразмыслив, они решают немного разогреть толпу, если смогут. Поэтому они начинают с «Пересмешника». Это их стихия, по крайней мере, для их старой роли цыпочек где-то на подпевках. Басист Брайан гулко и раскатисто вступает, они начинают свое феерическое покачивание бедрами, ноги в зале – единственное, что они могут разглядеть, – нерешительно повторяют движения. Вив неуверенно вступает, Джо и Лиззи ей вторят[12 - Имеется в виду респонсорная техника исполнения (call-and-response), при которой ансамбль заканчивает или повторяет слова за солистом. Эта техника особенно характерна для некоторых музыкальных жанров, например для блюза и спиричуэлов.].
– Пе! Е-е-е!
– Ре! Е-е-е!
– Смеш! Е-е-е!
– Ник! Е-е-е!
Взрываются ударные, а Терри с Найджелом подносят к губам корнеты и высвобождают блистательный хрустящий рев. Ноги в первых рядах начинают отплясывать по-настоящему, бедра «Хулиганок» входят в ритм, и девушки хором поют:
Это пересмешник, народ! Вы слышали?
Вы слышали?
Трубы золотятся. Трубы золотятся, а она, покачивая головой вправо-влево, краешком глаза видит, что крыло опустело, но Жабий Рот все еще стоит там, и она могла бы поклясться, что он слушает. Слушает ее.
T + 35: 1979
Бен
Во всем виноват плакат, говорит он себе. У него был один из тех тихих периодов, когда полотно его мыслей лишь подергивается нервной рябью, как поверхность реки, когда течение поворачивает и серая Темза в этом месте тихонько бурлит, морща водяную гладь. Приемлемо.
Но позавчера, в свой выходной, он ехал на метро, и во время пересадки наткнулся на стену, с которой, чтобы наклеить новые плакаты, содрали верхние, вырвав вместе с ними лоскуты более старых слоев. На него смотрел подземный палимпсест: впалый, запятнанный клеем и плесенью пласт, месиво из прошедших развлечений в тридцати двух подгнивших кричащих оттенках, в толстых краях которого вся древность обычая облеплять подземные тоннели бумагой. И там, справа, под оторванным треугольным лоскутом, виднеется алая, рубленая буква Е с алым рубленым восклицательным знаком.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68393188) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Евангелие от Матфея 6:3: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне».
2
Consommе (фр.) – блюдо французской ресторанной кухни, представляющее собой концентрированный прозрачный бульон из мяса и дичи.
3
Сэр Роберт Чарльтон (р. 1937) – английский футболист, чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель «Золотого мяча».
4
Элефант энд Касл – район в южном Лондоне, где находится крупнейшая лондонская дорожная развязка. Район был назван в честь паба, который до сих пор располагается на одном из перекрестков. В 1960-х в рамках послевоенной реконструкции район был значительно перестроен.
5
Закон о защите психического здоровья 1959 года стал первым подобным законом в Великобритании. Он был призван определить случаи, в которых лечение должно быть принудительным. Во всех остальных случаях лечение должно было стать добровольным и по возможности осуществляться без помещения пациентов в лечебницы.
6
TheYardbirds (англ. птенцы) – британская рок-группа, основанная в 1963 году.
7
Британский шпионский телесериал, выходивший в эфир с 1961 по 1969 год.
8
The Goon Show – юмористическая передача BBC, выходившая в 1950-х. Программа оказала заметное влияние на развитие британской и американской комедии. В шоу у одного из персонажей Питера Селлерса была сквозная фраза: «Ты грязная, вонючая свинья! Ты меня умертвил!»
9
The Crystals – американская женская вокальная группа из Нью-Йорка, очень популярная в 1960-е годы.
10
Стена звука – название техники звукозаписи и аранжировки поп- и рок-музыки, разработанной и впервые примененной продюсером и звукоинженером Филом Спектором.
11
Дасти Спрингфилд – британская соул, поп и R&B певица, чья карьера охватила четыре десятилетия, достигнув наибольшей популярности в 1960-е и в конце 1980-х годов.
12
Имеется в виду респонсорная техника исполнения (call-and-response), при которой ансамбль заканчивает или повторяет слова за солистом. Эта техника особенно характерна для некоторых музыкальных жанров, например для блюза и спиричуэлов.
Фрэнсис Спаффорд
Loft. Букеровская коллекция
«Своего рода сияющая доброта, ощущение, что мир лучше, если в нем есть такие книги» Financial Times
Субботний день 1944 года. Магазин на юго-востоке Лондона получает партию алюминиевых сковородок. Толпа собирается, чтобы увидеть первую металлическую посуду за много лет – ведь все было переплавлено для военных нужд. Мгновением позже толпа исчезает. Немецкая бомба попадает точно в прилавок. Среди погибших были маленькие дети – Алек, Верн, Вэл, Бен и Джо.
Кто они и кем бы стали, проживи каждый из них свою жизнь в бурлящем Лондоне 60-х, 80-х и 90-х годов? Кондуктор или домовладелец, мошенник или учитель, а может – заключенный? Мы увидим их жизнь такой, какой она могла бы быть, если бы не тот страшный день.
Фрэнсис Спаффорд
Вечный свет
Francis Spufford
LIGHT PERPETUAL
Copyright © Francis Spufford, 2021
© Казарова К., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательствво «Эксмо», 2023
T + 0: 1944
Свет сер и мрачен. Тление. Язык пламени, поперхнувшийся собственной копотью, являющий лишь малую часть своей мощи в видимый спектр. Все остальное – жар и движение. Но линия горения пока еще только крадется под оболочкой боеголовки. Нитевидная линия перемен, расходящаяся от взрывателя сквозь плотную массу аммотола. Впереди желтовато-коричневое твердое вещество, гладкое и хрупкое, как карамель, позади – бурлящее кипение отдельных атомов, насильно освобожденных от всех связей, что соединяли их в тротил и аммиачную селитру, и готовых вот-вот распасться на простейшие молекулярные соединения. Вскоре они станут газами. Горячими газами, горячее расплавленного металла, намного горячее. И внезапно их станет так много, и они окажутся так неистово спрессованы в слишком маленьком пространстве, что неизбежно разорвут оболочку. Если к тому моменту оболочка еще будет на месте. Если она сама не превратится в стальной туман, как только ее коснется линия горения.
Мгновения. Это мгновение, перед тем как исчезнет стальная оболочка, длится всего одну десятитысячную секунды. Трещинка толщиной с волос в середине ноябрьской субботы 1944-го. Но присмотритесь. У этой трещины есть ширина. И длительность. Разве она сама не может разделиться надвое? И еще, и еще, и еще, и так до бесконечности? Разве эта трещинка не содержит в себе бездну? Ткань простого времени ничего под собой не прячет: пустота под пустотой, течение под течением. Каждый момент, который вы стремитесь определить, при ближайшем рассмотрении оказывается плотно утрамбованной пачкой более крошечных мгновений, и делению этому нет конца, а каждое последующее мгновение неизменно оказывается еще мимолетнее, хотя, казалось бы, дальше уже некуда. Материю можно разделить на мельчайшие составляющие, и все же этот процесс конечен. Время так не работает. Одна десятитысячная секунды представляет собой внушительный том с бесчисленным количеством тонких, почти прозрачных страниц. Таким же бесчисленным, как и количество страниц во всех книгах, написанных в нашей вселенной за всю прошедшую историю. И в этой книге времени страниц не меньше, чем во всех прочих, собранных вместе. Каждая из частей так же безгранична, как и целое, потому что бесконечности не делятся по размерам. Они все одинаково бесконечны. И все же из этого отсутствия пределов и рождается наша обыденная конечность, наши начала и завершения. Словно кто-то раскинул понтон над бездной, и мы идем по нему, сами того не замечая; словно из проживания этой секунды, потом этой, этой минуты, затем другой, здесь и сейчас – следующих друг за другом без остановки, неумолимо, и всегда недостаточных, пока и вовсе не иссякнувших – возникает некоторая (временная) коагуляция всего и ничего одновременно, незаметно растягивающаяся на все годы, все ноябри, все обеденные часы. Но идем ли мы? Движемся ли мы сквозь время или это оно двигает нас? Нет времени рассуждать. Тут бомба взрывается.
Именно в эту субботу в бексфордский «Вулвортс» на Ламберт-стрит завезли сковородки, которые теперь выставлены на верхнем этаже, начищенные до блеска. Никто не видел новых сковородок уже несколько лет, и теперь вокруг стола собралась взволнованная толпа женщин с кошельками наготове и детьми, слишком маленькими, чтобы оставлять их дома одних. Вот рядом с матерью стоят Джо и Валери в шотландских беретах, связанных из остатков пряжи. Вот Алек, с его тощими коленками, торчащими из-под шорт. Мать Бена крепко держит сына за руку, и тот, как всегда, выглядит слегка потерянно. Толстощекого Вернона привела бабушка – по сравнению с другими в их доме, казалось, никогда не испытывали большой нужды в предметах первой необходимости. Руки женщин тянутся к красивому алюминию, но человеческая рука не преодолеет большого расстояния за одну десятитысячную секунды, поэтому кажется, что они замерли. Дети застыли, как статуи во плоти. Палец Вернона замер у него в носу. Но все-таки некоторое движение можно уловить даже при таком замедлении. Позади стола, рядом с тележкой, полной пожелтевших схем для вязания, что-то продолговатое, гладкое и заостренное проходит сквозь потолок в медленно опадающем облаке штукатурки, кирпича и осколков черепицы. Среди этого мерцающего хаоса коническое острие боеголовки с геометрическим достоинством скользит по направлению к полу, а следом дюйм за дюймом в поле зрения просачивается темно-зеленое тело ракеты. Аммотол внутри боеголовки уже горит. Покупатели, сковородки, баллистическая ракета: что же здесь не так? Никто нам не скажет. Джо и Алек в этот момент смотрят в нужном направлении. Их взгляды прикованы к пространству между плечами миссис Джонс и миссис Кэнаган, где появляется ракета. Но они ее не видят. Никто не видит. Образ «Фау-2» отпечатался у них на радужке, но одной десятитысячной секунды недостаточно, чтобы человеческий глаз успел обработать информацию и передать сигнал в мозг. Прежде чем это случится, у детей уже не будет глаз. И мозга. Это мгновение, этот отрезок времени, крохотный и неизмеримо огромный, наступает незаметно, незаметно проходит и незаметно заканчивается. И все же это реальный момент. Он действительно наступает. Он на самом деле занимает отведенное ему место в цепочке мгновений, в результате которых девятьсот десять килограмм аммотола оказываются среди сковородок.
Затем линия горения добирается до металла. То, что происходит потом, называется бризантностью. Подвижная ниточка горения, когда все уже воспламенилось, превращается во взрывную волну, вырывающуюся в разные стороны под натиском голубоватого газа. Все, чего она касается, – разрушается. Судорога деформации и дислокации проходит через каждый твердый объект, дробя его на частицы, которые затем устремляются вперед на передовой взрывной волны. Вязальные схемы. Стойка. Свисающая на цепях стеклянная вывеска «ГАЛАНТЕРЕЯ». Деревянный стол. Сковородки. Толстое, изношенное, наследное зимнее пальтишко с роговыми пуговицами, в котором выросли три поколения. Кожа. Кости. Размер фрагментов определяется удаленностью от эпицентра взрыва. Ближе всего просто частицы, потом крупицы, обрывки, кусочки, ошметки, а дальше, в самом отдалении, там, где энергия волны расходится шире всего, – искореженные обломки стенной штукатурки, дверей и каменных плит или трамвайный знак, выдранный с корнем и отправленный в полет через улицу. Из-за формы боеголовки взрыв поначалу распространяется по направлению вниз, сквозь два этажа и подвальное помещение «Вулвортс», прямо в лондонскую глину, где, оставив неровный полукруглый кратер, устремляется вверх и наружу, таща за собой большую часть раздробленной материи здания. Купол разрушений разрастается. Магазины вдоль восходящих кривых купола слева и справа от «Вулвортс» вывернуты наизнанку. По Ламберт-стрит гуляет пурга металлических зубчиков и кирпичных хлопьев. Здания напротив вздымаются и проседают; оконные стекла засасываются внутрь и застревают в стенах поблескивающими копьями и щепками. В земле от дрожи лопаются газопроводы и разрываются водопроводные трубы. В воздухе, даже там, где нет абразивной пыли и кирпичного дождя, внезапно разражается невидимый заряд высокого давления и расходится широким кольцом. Трамвай, вдалеке сворачивающий из Левишема, встает на рельсах на дыбы и замирает, но сквозь него, от одного конца до другого, проходит рябь, тут же преображающая воздух. На периферии взрывной волны происходят маленькие, едва заметные изменения. Кухонные стулья преодолевают по полу расстояние в тридцать сантиметров. Открываются дверцы шкафчиков, и оттуда, как конфетти, выстреливают довоенные припасы. Тридцатиграммовая гирька из мясной лавки рядом с «Вулвортс» каким-то образом пересекает Ламберт-стрит и следующую улицу, чтобы аккуратно влететь в открытое окно на верхнем этаже дома и приземлиться на нетронутые клавиши «Ундервуда».
Теперь уже не нужно замедлять время. Нет ничего такого, чего нельзя увидеть с обычной скоростью человеческого восприятия. Пусть оно бежит секунда в секунду. Руины Ламберт-стрит подпрыгивают и, осев, замирают. Наконец доносится гулкий свист падающей ракеты, заглушаемый взрывом. Затем звенящая тишина. В «Вулвортс» не осталось никого, кто мог бы ее нарушить. Все покупатели и продавцы мертвы, на всех трех этажах; в мясной лавке по соседству тоже, и в отделении почты, за исключением одного сотрудника со сломанными ногами, которого угораздило в момент взрыва заглянуть в спасительный сейф; и в очереди на трамвай, собравшейся на тротуаре; все прохожие; все, стоявшие у окон противоположных домов; все пассажиры левишемского трамвая – еще сидящие на местах в шляпах и пальто, задохнувшиеся от удара воздуха. Только затем с дальних границ купола разрушения раздаются первые крики. И звуки сирен. И пожарной бригады. Члены группы противовоздушной обороны, мужчины и женщины с лопатами, карабкаются по обломкам каменной кладки; подростки и старики из волонтерской спасательной группы прибывают с носилками, которые практически не используют, и мешками, которые быстро заканчиваются. Начинаются попытки найти в развалинах «Вулвортс» крупицы, обрывки, кусочки и ошметки того, что когда-то было телами людей; людей, которых потеряли и отчаянно ищут те, кто собрался в бледнолицую толпу за ограждением в конце улицы.
* * *
Ни Джо, ни Валери, ни Алека, ни Бена, ни Верна больше нет. Исчезли так быстро, что даже не успели осознать, что случилось, и этим впоследствии утешатся (или нет) те, кто будет их оплакивать. Исчезли в промежутке между одной десятитысячной секунды и другой, исчезли так, словно растворились в этом обширном неизмеримом небытии, под ветхими подмостками часов и минут. Их роль во времени сыграна. Они больше не имеют отношения ни к чему из того, что вздымается, дышит, сжимается, поворачивается, усыхает, светлеет, темнеет; ни к одному изменению вещей. Ничто из того, что предполагает присутствие в потоке времени между мгновениями, теперь для них недоступно. Они ничего не могут сделать; с ними ничего нельзя сделать. Они никого не могу позвать, и их никто позвать не может. Они не существуют. А в это время все, из чего они состояли, осталось там, в кратере, без единой возможности хоть когда-нибудь восстановиться. Вот что для нас время. Оно ломает и рассеивает обломки. Его нельзя пустить вспять, нельзя призвать прах восстать, так же как нельзя отделить молоко обратно от чая. Разлученное остается разлученным. Рассеянное остается рассеянным. Это необратимо.
Но закончилось не только существование этих детей. Вернон не ковыляет домой, где на кухне висит сырокопченый свиной бок; Бен не пересекает парк у отца на плечах, удивляясь дождевым ноябрьским облакам; Алек не собирается в давно обещанную поездку в Кристал Пэлас; Джо и Вэл не корчат друг другу рожи над тарелками с куриным супом, заправленным луком. Все варианты их будущего тоже закончились, так и не начавшись. Десятилетия того, что было бы и что могло бы. Как можно измерить эту потерю, если не сопоставить эту пустоту с какой-нибудь другой версией колеса времени, где все, что было бы и могло бы быть еще, возможно? Версией, в которой в Голландии, откуда пустили ракету, случилось крошечное изменение траектории, и ракета упала чуть-чуть дальше, в бексфордский парк, убив разве что несколько голубей; или в которой из-за какого-нибудь сбоя в пусковом механизме, какие иногда случаются с такими чудовищными машинами, ракета канула в волны Северного моря; или вообще не взлетела – из-за перебоев с поставками топлива, отчего солдаты четыреста восемьдесят пятой батареи провели весь тот день под соснами, куря и нервно высматривая в небе британские бомбардировщики, пока в Вассенаре ждали танкер с этанолом.
Явись, другое будущее. Явись, милосердие, вовремя не проявленное. Явись, знание, вовремя не полученное. Явитесь, другие возможности. Явитесь, непотревоженные глубины. Явись, неделимый свет.
Явись, прах.
T + 5: 1949
Джо, Вэл, Верн, Алек
Мисс Тернбелл свистит в свисток, и наступает время пения. Джо любит пение больше всего и первая устремляется к нарисованной на асфальте черте, у которой всегда строится пятый класс, чтобы зайти внутрь, но остальные не торопятся прервать утреннюю перемену, несмотря на то что на улице накрапывает. Учительнице приходится свистнуть снова, а затем еще раз, прежде чем игры со скакалками, шуточные драки и футбольные матчи неохотно сойдут на нет и в мрачном каньоне между закопченной красной громадой начальной школы Холстед Роуд и окружающей ее высокой закопченной стеной устанавливается что-то вроде порядка. Малыши справа, классы со второго по седьмой один за другим выстроились в ряд слева – чем старше, тем выше и развязнее – до самой стены, где семиклассники, как миниатюрные мужчины, стоят в нарочито скучающих позах, втянув плечи, а семиклассницы с пренебрежением на лицах изображают упрощенные версии своих матерей. Среди пятиклашек такое тоже можно увидеть, но их подражания куда менее точные и куда менее постоянные. Девятилетки меньше притворяются, их чувство собственного достоинства все еще может внезапно уступить место дурачеству или восторгу. Сопливые носы, болячки, кожная сыпь. Грязные шеи и зудящие головы детей, у которых дома нет ванной. Бесплатные очки от новой системы здравоохранения в дешевых черепаховых и розовых оправах.
– Успокаивайтесь! – громыхает мисс Тернбелл, и над гудящей площадкой временно воцаряется затишье. У него темно-серый цвет, думает Джо, как у потускневшей ложки с яркими царапинами звуков, которые то и дело издают дети, неспособные стоять спокойно. Где-то на улице грузовик скрежещет коробкой передач, под мостом в конце улицы проносится поезд: ржаво-коричневые потертости, окаймляющие затишье, а поперек – длинная змеящаяся прожилка фиолетового. Эти мысли в голове Джо предстают не словами, а исключительно картинками. И эти картинки звуков, которые она слышит, не останавливаясь, проносятся у нее в голове все время, пока она бодрствует, и никогда не бывают оторваны от того, как она видит мир. Она еще не задумывается о том, видят ли эти картинки другие, она задумывается об этом не более чем о том, видят ли другие люди небо. «Первый класс, – зовет учительница. – Второй, третий». И они, разделившись на мальчиков и девочек, заходят внутрь, каждые через свою дверь, и воссоединяются уже в коридоре.
– Эй, дуреха, подожди меня, – говорит Вэл, привычным движением хватая сестру за руку.
Пение проходит в Большом зале, над которым, должно быть, когда-то была величественная скатная крыша. На стене под потолком в кирпиче высечены щиты со словами «Совет Лондонского Графства», по одной букве на щит. Джо смотрит на них, пока они поют «Когда рыцарь снискал славу», и думает о доспехах и драконах. Но теперь вместо величественных скатов над щитами лежит плоская крышка из необработанного дерева и рубероида, явно не рассчитаная на долгую службу. Из-за этого Большой зал в высоту оказывается короче, чем предполагается. Пространство комнаты сдавливается, как сдавливаются и раздающиеся там звуки. Должно быть, Большой зал был блицкригнут. (Такое определение Джо дает всему в Бексфорде, что выглядит разрушенным или сломанным.)
По всему коридору захлопываются двери классных комнат, и появляется мисс Тернбелл. Она закрывает за собой двойные двери зала и вздыхает. Она часто вздыхает. Вдобавок к сегодняшнему дежурству на перемене она их классная руководительница и одна из самых старых учителей в Холстед Роуд, из тех, кого еще мама Джо помнит по своим, давно минувшим, временам в школе. Ее металлически-серые волосы стянуты в тугой пучок, и когда она не разговаривает, всегда поджимает нижнюю губу под верхнюю, как будто у нее во рту лежит что-то, что она силится прожевать. Все говорят, что она наверняка очень страшная, когда вытаскивает на ночь зубы. Как-то раз смышленый Алек на уроке письма нарисовал ее без зубов и передал листок по рядам. И она его поймала! И его отправили к директору, но всего лишь за плохое поведение и безделье, потому что мисс Тернбелл не узнала себя на портрете. Джо успела увидеть рисунок, прежде чем его порвали, и сходства там было мало.
Мисс Тернбелл раздает им красные песенники и с глухим шарканьем усаживается за пианино.
– Тридцать семь, – говорит она. – Котсуолдс.
Она имеет в виду: откройте страницу тридцать семь, мы будем петь «Балладу о лондонской реке», которая начинается со слов «От Котсуолдса, от Чилтерна». Но она уже говорила это столько раз, что все ненужные слова выпали. Джо чувствует облегчение. Когда на уроке выбирают грустную песню, например «Мальчик Дэнни» или «Дева с северных земель», или трогательную «Счастлив, что живу я», мальчишки начинают кривляться. Раньше такого не было, но в этом году они, похоже, просто ничего не могут с собой поделать. Они начинают петь всякую чепуху, пока не получат нагоняй. «Баллада о лондонской реке», конечно, не самый лучший выбор, чтобы удержать внимание мальчишек, не такой как «Добрый меч и верная рука» или «Тот, кто будет храбр», но это песня о Лондоне, и пятый класс обычно поет ее с гордостью, даже несмотря на кучу сложных слов.
Мисс Тернбелл критически осматривает два ряда, в которые выстроился пятый класс: все, кто любит петь, – впереди, большинство мальчишек – сзади плюс те, кого туда сослали на прошлых занятиях за плохое пение. Джо, конечно же, стоит в первом ряду, и Вэл рядом с ней, хотя, по правде, сама она не очень этому рада. Она гораздо больше заинтересована в том, что творится сзади, и постоянно вертится. Их семья состоит из одних только женщин, и, сколько девочки себя помнят, так было всегда: они, мама, тетушка Кэй. Не вернувшийся с войны отец – просто абстрактное понятие, но не воспоминание. И если Джо в результате стала с настороженностью относиться ко всему мужскому роду, на Вэл это оказало совсем другой эффект. Мальчишки вызывают у нее восторг, любопытство, приковывают взгляд. Когда они играют, она вечно топчется где-то рядом, теребя волосы и пытаясь вклиниться в их веселье. Рядом с Джо ее удерживает лишь укоренившаяся привычка близняшки. В последнее время она стала сопротивляться: словно постоянно дергает связывающую их невидимую веревку, но никак не может отделиться. И все же. С другой стороны от Вэл в первом ряду, что ожидаемо, стоит противный Вернон Тейлор, которого смышленый Алек из заднего ряда окрестил Вредноном, но в лицо никогда его так не называл, о, нет. Верн очень сильный. Верн задира. Кулаки у него как розовые сосиски, которые мясник собрал в связку, перед тем как упаковать. А еще у Верна отвратительный голос. Во время пения он то хрипит, то взвизгивает. И все же пение его любимый урок, будто бы есть в этом что-то, чему он не в силах противостоять. Мисс Тернбелл постоянно отправляет его в задний ряд, но на каждом следующем уроке он раз за разом вылезает вперед. Демонстративно ссутулив плечи, он держит песенник большими розовыми руками и щурит маленькие противные глазки, глядя на слова и ноты. Мисс Тернбелл задерживает на нем взгляд. Вздыхает. Открывает рот. Закрывает и делает свое жующее лицо. Она не собирается утруждаться.
– Глубокий вдох, – произносит она. – Раскройте легкие, используйте грудную клетку. Пусть музыка идет из самой глубины. Рот всегда открыт. Поднимите головы и пойте. Стивен Дженкинс, вытри нос. Да платком же! И, раз, два, три, четыре… – Она начинает играть вступительные такты, тяжело и без всякого энтузиазма, но это неважно. Из пианино вырывается быстрая, ритмичная, расходящаяся волнами мелодия, предшествующая запеву. Она звучит несколько нелепо, как звучит перед утренним субботним сеансом в бексфордском кинотеатре национальный гимн – устало-помпезный и явно проигрывающий орущей толпе детей в партере. И все же сквозь позвякивание старых клавиш Джо слышит эти волны, решительные и чистые, говорящие: «Вот река, вот она», и представляет себе расходящиеся зеленые и бронзовые круги. Иногда неважно, если что-то нелепо. Затем музыка начинает кружиться на месте, что служит для них сигналом, – все делают вдох, а Алек при этом издает смешной звук, похожий на звук поднимающегося лифта, и пятый класс, открыв рты во всю ширь, начинает петь:
От Котсуолдса, от Чилтерна, от каждого истока
Беги до серебристых чаек,
В дальнее далеко.
Забудь ты имя старое –
Брент, Айзис или Тейм.
Забудь плотины, ивы и крутые берега.
Забудь, река, все те места,
Откуда ты текла.
Джо кое-чего не понимает в этой песне, например, что такое Котсуолдс и Чилтерн и зачем там слова «Айзис», «Брент» или «Тейм». Но кое-что она понимает. Она знает, что все это происходит в месте, где цвета ярче, чем обычно, где чайки серебристые, а не грязно-белые, как те, что пикируют из речного тумана, планируют над доками и охотятся за твоими сэндвичами. Она знает, что звуки произносимых слов соединяются друг с другом, как кусочки пазла, даже если она не знает значения этих слов. Она знает, что таким напыщенным, непостижимым многоцветным способом в песне говорится о том, что река течет из каких-то прекрасных мест, а затем превращается в грязный бурый поток, протекающий под городскими мостами, от берега до берега сотрясаемый гудками буксировщиков, настолько громких, что от них вздрагивают кирпичные стены и стекла автобуса, если в этот момент ты в нем пересекаешь мост. Когда проходят буксировщики, стекло под пальцами начинает вибрировать, отчего пальцы немеют. Темза – большая уродливая река. Уродливая и громкая, а не красивая. А в песне поется, что Лондон большой, громкий и уродливый и поэтому волнующий и что быть волнующим лучше, чем красивым.
И она точно знает, как надо петь эту песню. В самом начале она колотится, первая строка звучит, как марш, и только в конце, на последнем слове взвивается до более высокой ноты, чем ожидаешь, будто создавая платформу, с которой ты прыгнешь в следующую строку. В самом начале она сбегает вниз или скорее пикирует, как чайка, а затем, так же как и чайка, достигнув нижней точки, взмывает вверх и зависает в воздухе, а если быть точнее – ровно посередине между черными линиями, на которых живет музыка. А потом «Забудь ты имя старое – Брент, Айзис или Тейм» снова поднимают ее ввысь. Она взбирается наверх и на слове «Тейм» почти парит, и ты уже готовишься к тому, что на последней строчке тебе придется разинуть рот шире граммофонной трубы и лететь, лететь, лететь до самого конца. Но нет, и ты разочарован. Она разочаровывает тебя специально, опускаясь до глухого, хоть и чисто звучащего конца строки, для того чтобы снова взлететь выше прежнего, когда последняя строка неожиданно повторяется. И повтор. Ноты в отдельных словах настолько высокие, словно пытаются вырваться вверх с нотного стана, похожие на людей, выглядывающих в чердачное окно; настолько высокие, что Джо едва удается их взять, а затем строка летит вниз к своему истинному звучанию, где ноты такие долгие, что растягиваются на целый такт и на них уходит все дыхание. Даже Верн понимает, что нужно радостно воспарить. Джо слышит, как он визгливо силится взвиться, и его голос практически тонет в хриплом свистящем шуме. Но это не портит ей удовольствия от ее собственного, уверенного, звенящего движения по словам последней строчки. Высокие ноты одна за другой проносятся перед ее мысленным взором, как багряно-золотые лучи.
Они делают новый вдох, готовясь к следующему куплету – Алек уже позабыл веселиться и поет как следует, – но пальцы мисс Тернбелл замирают на клавишах. Позади пятого класса открываются двери Большого зала.
– Что-то случилось, мистер Харди? – спрашивает она.
Входит директор, лысый, с чернильно-черными усами. Пятый класс тут же вытягивается по струнке, потому что мистер Ха наводит на них ужас. У него в кабинете хранится Палка, и немалую часть пятого класса уже хотя бы раз отправляли навестить их обоих: Джо не из их числа, но страх заразен. Мистер Ха любит внезапно атаковать вопросами, и по нему никогда не поймешь, какой ответ его удовлетворит.
– Нет, нет, – отвечает он. – Не обращайте на меня внимания, я не буду вам мешать. – И затем тут же продолжает: – Читерна, Читерна… Вот что я расслышал на входе. Там есть «л», дети. Ну-ка, произнесите, пожалуйста, как надо.
– Чилтерна, – отвечает пятый класс нестройным хором.
– Громче, пожалуйста.
– Чилтерна!
– Вот, – говорит мистер Харди, но говорит так, словно он отнюдь не впечатлен. – Произношение важно, вы согласны, мисс Тернбелл?
– Разумеется, директор, – ровным голосом отвечает та. Мисс Тернбелл действительно часто поправляет их, когда они теряют согласные, часто вздыхает, когда они вставляют «в» в «солнце», но она не делает это так, будто пытается их подловить. Между взрослыми повисает какое-то напряжение, которого Джо не может понять. Она подмечает, что мистер Харди намного ниже мисс Тернбелл. Сейчас он стоит возле пианино, покачиваясь с пятки на носок, и недовольно разглядывает учеников, выпятив обтянутый жилетом живот, на котором поблескивает цепочка от часов.
– Продолжайте, мисс Тернбелл, – говорит он и никуда не уходит. Мисс Тернбелл снова проигрывает струящиеся вступительные аккорды, и пятый класс куда более неохотно и куда более сдержанно запевает второй куплет.
Стремились Датчанин с Саксонцем
Тщетно тебя покорить.
Ты видела замки и крепости,
Для тебя был недолог их век.
Ты будешь бежать не одну сотню лет,
А их давно уж и нет.
На этот раз долгие ноты в конце строк нервно обрываются гораздо раньше, чем нужно.
– Хмм. – Мистер Харди окидывает всех колючим взглядом. – Мисс Тернбелл, как по-вашему, пятый класс делает успехи?
Она убирает руки с клавиш и складывает на коленях.
– Да, – неожиданно отвечает она. – Они поют с чувством, и некоторые из них подают большие надежды.
Это самые одобрительные слова, которые Джо доводилось слышать от мисс Тернбелл, и ее это удивляет. На уроках пения она всегда воспринимала мисс Тернбелл как некий механизм для управления пианино, никак не связанный с ее собственным отношением к музыке. Пятый класс, неожиданно оказавшийся с мисс Тернбелл по одну сторону, взволнованно и осторожно опробует это новое чувство.
– Рад слышать, – бормочет мистер Харди, явно испытывающий что угодно, но только не радость. Тут его лицо озаряется. – Но они вообще-то понимают, о чем поют? Вот ты, мальчик в первом ряду, – он пальцем указывает на Вернона, – «Для тебя был недолог их век». Ты только что это пропел. Что это значит?
– Не знаю, сэр, – отвечает Верн.
– Что ж, упростим задачку. Ты, девочка. Девочка с косичками. Кто в этой песне «ты», м?
Джо чувствует, как голова мгновенно пустеет: все мысли разбежались кто куда в поисках укрытия, как мыши с кухни, когда открываешь дверь. У нее не получится передать то удовольствие от песни, что наполняло ее пять минут назад, не получится связать между собой слова и все те парящие, текучие формы.
– Ну?
Мистер Харди не сводит с нее глаз. Как и мисс Тернбелл, снова нацепившая свое жующее лицо.
– Оно красное, сэр, – дрожа делает попытку Джо. – Это слово. В голове, когда поешь.
– Что? – говорит мистер Харди. – Что? Оно красное? Да эта девочка отсталая.
Вернон начинает хихикать, но тут же резко замолкает. Это Алек из заднего ряда пнул его под колено. Джо чувствует, как тот распухает, раздувается, как воздушный шар, не сулящий кое-кому после урока ничего хорошего.
– Я понимаю, – мистер Харди с довольным видом обращается к мисс Тернбелл, – от них не стоит ждать многого, но все это несколько удручает, вы не находите?
Мисс Тернбелл вздыхает.
– Мистер Харди, – внезапно встревает Алек.
– Что такое, мальчик? – нетерпеливо спрашивает директор. Ему есть еще что сказать. Он только начал.
– Сэр, пожавуйста… вы не могли бы объяснить нам, сэр? Будьте так добры. Это было бы замечательно. Пожавуйста, сэр, мы все были бы очень рады, сэр.
Мистер Харди хмурится, сомневаясь в том, что ребенок не шутит. Джо не понимает, что затеял Алек, за исключением того, что это рискованно. Обычно он так не разговаривает. Ему реже всех делают замечания из-за гласных и согласных. И он может без ошибок написать что угодно. Его отец работает в типографии, и у них дома полно книг, целые шкафы.
– Что ж, – говорит директор. – «Ты» в этом куплете – это сама Темза…
– Не может быть! – восклицает Алек, будто ошеломленный.
– Вдоль берегов, которой… Мальчик, ты что, издеваешься?
Пятый класс начинает хихикать.
– Я, сэр? Нет, сэр, – отвечает Алек. – Я бы даже не подумав.
– А мне кажется, подумал, – говорит мистер Харди.
– Что вы, сэр, – говорит Алек. – Я просто так вам бвагодарен, что теперь понимаю песню, которую мы все время поем, сэр. У меня над гововой как будто вампочка зажглась, сэр, честно.
Смешки становятся громче, и даже мисс Тернбелл, стоящая позади мистера Харди, вздернула брови и сжала губы так, точно пытается удержать что-то во рту.
– Хватит, – говорит побагровевший мистер Харди. (Но не тем праздничным багряным цветом, который представляла Джо, а более грязным, неприятным оттенком.) – Вон! Я разберусь с тобой у себя в кабинете, мальчишка!
Он бросается в одну из своих внезапных атак, хватает Алека за ухо и устремляется с ним из Большого зала, нарочно держа руку так высоко, что Алек, которому приходится следовать за ним, болезненно приплясывая на носочках, начинает плакать еще до того, как доволакивает до двойных дверей ноги в болтающихся ботинках. Пятый класс таращится на них и уже не смеется.
Мисс Тернбелл откашливается и хлопает в ладоши.
– Внимание, пятый класс, – говорит она, и ее голос уже звучит не так устало. – Смотрим вперед, плечи назад. Давайте споем третий куплет. Раз, два, три, четыре…
Бен
– В первый раз, сынок? – спрашивает мужчина рядом с отцом. – Посади-ка его на плечи, приятель, я не против, ему так будет лучше видно.
Бен привык, что людям кажется, будто он младше, чем есть на самом деле, потому что он мелкий. Но с тех пор, когда он был настолько маленьким, чтобы его сажали на плечи, прошло уже много времени, много-много лет, поэтому он удивляется, когда отец согласно хмыкает, наклоняется и поднимает его. И вдруг вместо того, чтобы пытаться разглядеть хоть что-то сквозь темную массу пальто и курток, он оказывается в воздухе. Кепка отца упирается ему в живот, и сверху он видит тысячи таких же голов в кепках, шапках или шарфах. Покатое море выкриков, пальцев, тычущих в воздух, и сигарет, зажатых в уголках губ.
Они стоят на верхушке южной трибуны стадиона «Ден». Она представляет собой простой ступенчатый цементный склон. Здесь, на самом верху, так высоко, что видно железнодорожные пути, обрамляющие стадион с трех сторон. Поезда проходят один за другим. Лица в окнах грохочущих зеленых пассажирских вагонов похожи на белые горошинки. Лязгающие цепочки вагонов тянутся в доки или из них, увлекаемые локомотивами, хрипло откашливающими дым, как гигантские собаки. На противоположной стороне пепельные облака сливаются с постоянно висящей над рекой дымкой. Над доками, в густом, как суп, воздухе обычно виднеются подъемные краны, но недавно прошел дождь, и от влажности дымка опустилась ниже. Трава на поле снова запестрела зеленым. Мокрые крыши переливаются, отражая небо; влажный блестящий след крадется по краю рекламного стенда мыла «Санлайт». День преображается. В центре этого шумного открытого пространства преображается и Бен. Лондонский смог с такой высоты – просто подставка для ног. Над ним – удаляющийся дождь собрался изогнутой стеной, необъятной, грифельно-серой, серо-фиолетовой. Уплывающая наковальня. А в самом верху она пенится, как цветная капуста: сплошь выпуклости, вмятины и смазанные переходы – слишком замысловатые для глаз. Небо вдалеке светлеет. Полоска такая же ослепительно-белая, как летние облака. Хоть сейчас и дождливая осень.
– Закрывай его, закрывай! – радостно вопит мужчина рядом с отцом. – Вперед, Львы! Вперед, вы, сонные ублюдки! Вы что, слепые?
На зеленом прямоугольнике ярко-голубые игроки «Миллуолла» бросаются вправо. Внезапно вырывается сине-бордовая лавина «Кристал Пэлас». Ярко-голубые разбегаются, собираются и блокируют острие атаки. На острие путаница, подножка, глухой стук, падение. Двое мужчин свалились в кучу. Противоположная трибуна стонет, но мяч катится дальше, катится свободно. Он кажется крошечным. Такая крошечная точка, а все вокруг нее бегают. Кто-то пинает его влево. Все сине-бордовые приходят в движение, ярко-голубые приходят в движение, все бегут назад к левому краю, цвета сливаются и разделяются. Кружат друг вокруг друга, каждую секунду меняют направление.
– Пасуй! – орет мужчина.
Рты у всех остальных тоже открыты. Открываются и закрываются. Выкрикивают разные слова.
– Вперед, Львы… – пробует себя Бен.
– Вперед, Львы! – кричит отец и сжимает лодыжки Бена.
– Шевели задницей, Джимми! – кричит мужчина. – Джимми Константин, шевели своей задницей!
– А кто из них Джимми Константин? – спрашивает Бен.
– Восьмой номер, – отвечает отец.
– Тот, что с гребаным мячом, сынок, – говорит мужчина.
Отец поворачивает голову.
– Прости, – говорит мужчина и пожимает плечами.
– Да ничего, – отвечает отец. – Но дома мы так не говорим, сынок.
– Хорошо, пап, – начинает было Бен, но его голос тонет, – из каждой глотки на домашней трибуне вырывается оглушительное, низкое «У-у-у-у-у», словно они все превратились в одно гигантское разочарованное или злое животное. Злое, оттого что разочарованное. Возвращается мяч, от сильного удара летит высоко вверх и далеко на половину «Миллуолла».
– Надо было отдать, – бормочет мужчина, качая головой. – Надо было отдать. Безмозглый сукин сын. Вперед, Львы!
Мяч летит вправо, влево, вправо, влево. Бордовый сливается с ярко-голубым, ярко-голубой вспыхивает среди бордового. Волны на пляже. Прошлым летом Бен ездил в Бродстэрс с семьей тетушки Джоан, где его сажали возле рваной дорожки из водорослей на песке, укутав от холода, и он смотрел, как волны набегали, не зная усталости и никогда его не достигая. Когда мяч справа, отец, мужчина рядом с ним и все остальные втягивают воздух и задерживают дыхание. Когда он слева, они издают глубокие, низкие звуки, которые постепенно становятся все выше, выше и выше, пока «У-у-у-у-у» – волна не разбивается и не откатывается обратно. Бен тихонько присоединяется. Он чувствует, как игра сжимает ему грудь, точно гармошку. Тебе не надо ни о чем думать, все происходит само собой. Вдох, выдох, «У-у-у-у-у». Вперед, Львы!
Верхушка капустного небесного царства сейчас горит бело-золотым. Пробивается солнце. Вокруг снуют тени. На северо-западе сияет так, что в ту сторону больно смотреть.
– По флангу! – ревет мужчина.
Бордовые снова пробиваются направо, но в этот раз, когда ярко-голубые отбирают мяч, кто-то отправляет его далеко на сторону «Кристал Пэлас». Точка взмывает вверх. Она точно оставляет позади эту ревущую, неистовствующую землю и устремляется к тонущему в сиянии краю цветной капусты. Она медленно перелетает над стрелами торчащих из дымки подъемных кранов, будто перед тем, как приземлиться, у нее в распоряжении все время мира. Будто в этот раз она может и вовсе не приземлиться. Будто небо может поймать ее, и тогда игрокам «Миллуолла» и «Кристал Пэлас» придется сказать небу: «А можно нам наш мяч назад?» Вдруг точку подхватывает пробившийся луч солнца, и она превращается в жидкое золото, неистово яркое. Разум Бена ошеломленно замирает. Где-то там мяч падает, его искусно перехватывает ярко-голубой нападающий, перекатывая вправо-влево, проводит мимо защитника «Кристал Пэлас» и мощным ударом точно передает ярко-голубому восьмому номеру, который только что достиг идеальной точки, откуда он сможет под острым, почти невероятным углом послать мяч мимо вратаря в угол ворот. «О-о-о! О-О-О-О!» – кричат тысячи мужчин вокруг Бена, их голоса взволнованно взбираются вверх, к восторгу. Но у Бена перед глазами все еще горит застывшая в воздухе золотая пылинка. Она сияла так, словно кто-то проткнул мир насквозь. Он не заметил гол.
– Я люблю тебя, Джимми Константин! – орет их сосед. – Гребаный красавчик-макаронник, я тебя люблю!
– Ну, как тебе? – говорит отец, повернув голову, чтобы взглянуть на Бена. – Красотища, а?
– Что? – медленно отвечает Бен, будто спросонья. – Что, пап?
В автобусе по дороге домой отец огорченно говорит:
– «Я думал, что тебе больше понравится».
– Это было потрясающе, пап, – отвечает Бен.
T + 20: 1964
Алек
Уже перевалило за час, а Алек только-только успел вылезти из комбинезона, натянуть костюм и убежать: через погрузочную площадку, вокруг здания лондонской «Газеты» и вверх по Маршалл-стрит к «Хэр энд Хаундс». Как обычно, после металлического бряцания станков прямо под ухом воздух на улице кажется мягким и просторным. Шум машин накатывает и стихает легкими волнами, точно шум всех коробок передач и разгоняющихся автобусов слился воедино в мягкий прилив. Небо очень высокое, ветерок, который встречает его за углом молочной лавки, словно спешит рассказать ему, как огромен мир. Куда огромнее, чем наборный цех «Газеты». Он бросает быстрый взгляд на свое отражение в окне, приглаживает волосы, поправляет галстук и заходит в дорогой бар. Они уже там – курят, демонстративно сложив руки на столе, словно подчеркивая отсутствие напитков. Да, по традиции сегодня платит он, но все равно, какие же скряги.
– Мистер Хобсон! – Алек подается вперед и протягивает руку.
– А, – отвечает Хобсон, – вот и вы. Клайв, это Алек Торренс, о котором я рассказывал. Алек, это Клайв Бёрнхем из типографии «Таймс».
Хобсон здорово помог Алеку, когда умер его отец и они с матерью лишились дома. Он пристроил его в обучение, а потом замолвил за него словечко в «Газете», и вот он снова старается изо всех сил, чтобы пробить Алеку дорогу на Флит-стрит, где за смену платят больше, чем в любой местной газете. Короче говоря, заменяет ему отца, и все во имя того, что случилось между Хобсоном и его отцом задолго до войны; того, что, как и любая рабочая дружба, рождающаяся из химии ежедневного пребывания бок о бок, окутано завесой тайны. Но что бы там ни произошло, для Хобсона этого оказалось достаточно, чтобы следующие восемь лет приглядывать за мальчишкой Рэя Торренса. Скрипучий, ржавый, угловатый старикан с гнездом седых волос на голове, в костюме гробовщика, на плечах слегка припорошенном перхотью. Зовут его Хротгар, что уже впечатляет. Х-р-о-т-г-а-р. Алек набирает буквы на воображаемых клавишах, точно так же, как он, не задумываясь, набирает в голове каждое необычное имя собственное, которое ему попадается. Миссис Эрминтруда Миггз, 61 год. Подсудимый Дэфидд Клеусон. Сотрудник фирмы «Сильверштейн энд Рул, Мэнор-роуд, Хокли-ин-зе-Хоул». Каждое из них – уникальный медный каскад. Хобсон и выглядит как настоящий Хротгар. Он похож на какого-нибудь размытого второстепенного персонажа Диккенса, выглядывающего из тени на старых иллюстрациях. Но сегодня Алеку нужно понравиться Бёрнхему, а это совсем другая птица – гладкий, чуть полноватый, упакованный в один из тех костюмов с отливом, в итальянском стиле, с загаром человека, только что вернувшегося с побережья.
– Чего желаете, джентльмены? – спрашивает Алек.
– Мне стаканчик виски, благодарю, – скрипит Хобсон.
– Пинту пива и шот виски, – говорит Бёрнхем, не утруждая себя вежливыми оборотами. – И яйцо по-шотландски, если здесь подают. – Он со скучающим видом осматривает бар, давая понять, что видал и получше. Сдерживает зевоту.
– Заказать вам сэндвич, мистер Хобсон? – спрашивает Алек. – Я, пожалуй, возьму себе.
– Нет-нет, благодарю, – отвечает Хобсон. – Сегодня что-то не хочется. Поем попозже, дома.
Алек приносит поднос с напитками. Себе он взял пинту пива, и хорошо бы ему тем и ограничиться, ведь ему еще полдня шевелить мозгами. Не говоря уже про эту встречу.
– Садись, садись, – говорит Хобсон. – Я решил вас свести, потому что Алек очень хороший парень, очень добросовестный и надежный. Его семья входит в лондонский профсоюз уже бог знает сколько лет.
– Да, вы упоминали, – говорит Бёрнхем.
– Может, помните, его отец Рэй набирал небольшие статейки для «Джорнал». Шахматные задачки, заметки для велосипедистов, раздел с юмором.
– Простите, не припоминаю. Я сам не состою в лондонском профсоюзе, я член национального. – Провинциальные и лондонские наборщики объединились около года назад и формально составляли один профсоюз, но разграничение, существовавшее еще со времен юности королевы Виктории, так никуда и не делось, особенно в Лондоне.
– А как вам удалось подняться? – вежливо спрашивает Алек.
– «Бирмингем Пост». Но это неважно. А важно вот что. Не пойми меня неправильно, я уверен, что ты тут отлично справляешься, но у вас еженедельник, и ты привык работать спокойно и размеренно, ведь, если где-то напортачить, всегда есть время все поправить, так?
– Я не портачу, – отвечает Алек, и Хобсон бросает на него выразительный взгляд.
– Ты этого не знаешь, – говорит Бёрнхем. – Ты не можешь этого знать до тех пор, пока это не случится. Пока не наступит момент, когда после сдачи номера в печать прошло уже полчаса, тебе в спину дышит какой-нибудь говнюк из союза печатников, кто-то из начальства жужжит над ухом про переработки и задержки, а к тебе подходит ассистент и говорит: «Ой, а что-то у нас вторая полоса совсем не сходится из-за этой колонки нашего корреспондента из Хренландии с кучей потрясающих подробностей о Хренландской ситуации, о которой в жизни никто не слышал, в том числе ты сам, и которая вышла на сто пять слов длиннее, чем надо. Сократи ее, а? Выбрось оттуда ровно сто пять слов, да так, чтобы репортаж о Хренландии не превратился в полную ересь. И на это задание у тебя нет «бог знает сколько лет». У тебя вообще времени нет. Полторы минуты, что по сути то же самое. И что ты будешь делать?
Бёрнхем ухмыляется, обнажив зубы – ровные и мелкие, как будто пластмассовые.
– Думаю, я справлюсь, – отвечает Алек. – Я даже думаю, что мне понравится. Правда.
– Вот как?
– Вообще-то «у нас тут» не все спят на ходу. Не то чтобы вы переехали мост Ватерлоо и сразу попадали в сонное царство.
– Вот как? А он всегда такой языкастый? – Бёрнхем спрашивает Хобсона.
– Алек не стесняется иметь свое мнение, – отвечает Хобсон. – Но вообще он очень спокойный, если его не заводить.
Бёрнхем смеется.
– А как же мне тогда понять, как он ведет себя, если на него поднажать? Послушайте, вы представляете себе, сколько людей стремятся заполучить работу на Флит-стрит? Это же золотая жила. Это джек-пот. И вы представляете, как много значит то, что работников выбираем мы, а не начальники. Горячие головы мне не нужны.
– Это не про меня, – говорит Алек.
– Да неужели? Я тебя взвинтил за тридцать секунд.
– Я думаю, – вклинивается Хобсон, – стоит взять Клайву еще выпить.
Алек совершает рейс до бара и обратно, на ходу напоминая себе, как сильно ему нужны эти смены, и, вернувшись к столику, видит, что Хобсон каким-то образом сумел рассмешить Бёрнхема и сам смеется вместе с ним пружинящим, булькающим смехом, будто кто-то сворачивает и разворачивает грелку.
– Что такое? – спрашивает Алек.
– Да ничего, – отвечает Бёрнхем и протягивает ему блестящую пачку сигарет с фильтром, что само по себе, наверное, хороший знак. Зажигалка у него тоже блестит. Хобсон же отказывается от сигареты и сообщает, что ему нужно в уборную. Они наблюдают, как он ковыляет прочь походкой огородного пугала.
– Конечно, тот еще персонаж, – говорит Бёрнхем. – А он всегда одевается так, словно только что закончил кого-то бальзамировать?
– Почти, – отвечает Алек и тут же захлопывает рот.
Бёрнхем вздыхает.
– Мне кажется, мы не с того начали. Послушай, я тут не для того, чтобы над тобой поиздеваться. Старикан очень хорошо о тебе отзывается, это очень мило, и то, что ты ему предан, – тоже. Делает тебе честь. Но это очень большой шаг вперед, и я хочу понять, готов ли ты к нему. Как ни странно, иногда полезно, чтобы в наборной был кто-то горластый, кто сможет дать отпор, выступить, провести границы там, где они должны быть. Но тут нужен человек с холодной головой, а не тот, у кого язык с головой не дружит. Я не знаю, читал ли ты доклад Королевской комиссии. Если в двух словах, они пишут, что у нас перебор людей и мы катимся в пропасть. Пока до этого еще не дошло, но в печати сейчас работает куда больше людей, чем когда-либо, и следить стоит – вопрос щекотливый. Так вот скажи мне, что в тебе есть надежного, спокойного и непоколебимого, такого, чтобы я мог спать спокойно.
Алек не знает, что на это ответить.
– Ну, мне нужны смены. В смысле они мне правда очень нужны.
– Не пойдет, – отвечает Бёрнхем. – Посмотри на себя, ты молод. Дай тебе четыре лишних фунта, и ты их промотаешь. Выпивка, девицы, дрянная музыка и все такое.
Алек глядит на Бёрнхема и видит, что тот хочет свести к шутке все трудности, которые успели выпасть на его долю. Но, пожалуй, так надо.
– Нет, – говорит он. – Я имею в виду, я ведь женат, так?
– Ну тут уж тебе виднее, – отвечает Бёрнхем. – Так женат или нет?
– Да что б вас! Да, я женат. У меня маленький сын, еще один ребенок на подходе, и деньги мне бы очень пригодились, потому что мы живем с матерью моей Сандры, и моя мать тоже живет с нами.
– Вот оно что, – настороженно говорит Бёрнхем. Похоже, такая резкая смена настроения беседы застала его врасплох. – Ясно. И всех это немного напрягает?
– Еще бы.
Здесь ему стоило бы ввернуть какую-нибудь шутку, что-то наподобие «Международный кризис в Хренландии рядом не стоял». Бёрнхему бы понравилось такое. Алек бы словно вернул ему его же шутку, украшенную вишенкой и ленточкой, – такое все любят. Теща, свекровь, молодые супруги, стремящиеся улучить момент, чтобы заняться сексом, пока остальные трое их не слышат, это ведь так комично. Но вот что совсем не комично, так это глубочайшая, непоколебимая неприязнь, которую мать Сандры питает к нему и всему, что с ним связано. Не может он посмеиваться над тем, как угасает его мать. Чем дольше они живут в одной квартире, чем сильнее сжимается, съеживается его мать, точно она не до конца уверена, что имеет право занимать место на краешке дивана. Мать Сандры не пожелала иметь в своем драгоценном жилище ничего из их старой квартиры: ни мебели, ни книжных шкафов, которые отец сделал сам, ни книг. От всего пришлось избавиться. Или почти от всего. В сыром чулане под лестницей осталась лишь одна коробка с книгами. Когда он заглянул в нее, то увидел, что все обложки покрылись черной плесенью. «Социализм и Грибок», автор Уолтер Грибок. Уолтер Цитрин, вообще-то. Ц-и-т-р-и-н.
– Оки-доки, – говорит Бёрнхем. – Думаю, картина мне ясна. – Он замолкает, смотрит на кончик сигареты и вскидывает брови с выражением болезненной деликатности. – И ты хочешь вырваться оттуда? Хочешь свой угол, да?
Какая проницательность, думает Алек.
– Да, хочу. В следующем месяце освобождается один дом, и агент сказал, что мы можем заехать. Нам нужны три спальни, если мы не хотим друг друга… В общем, чтобы нам всем было комфортно.
Лицо Бёрнхема светлеет.
– Не нужно тебе это, – говорит он приободрившись.
– Что? – спрашивает Алек.
– Не нужно тебе это. Аренда жилья – это как игра в наперстки, – объясняет Бёрнхем, вернувшись на безопасную территорию барных разговоров. – Мысли шире, тебе надо приобрести что-то. И мой тебе совет – не здесь. Без обид. Все это викторианское дерьмо – сплошь протекающие крыши, крохотные комнатки и никакого ремонта… Да еще и цветных становится больше с каждым днем. Лучше уехать из Лондона в какое-нибудь новое местечко, чистое. Вот у нас, например, смежный дом в Уэлвине. Новенький, никакой паутины по углам, есть небольшой садик, газон, чтобы дети играли, подъездная дорожка. И готов поспорить, что я даже на электричке до работы добираюсь быстрее, чем ты. И он наш.
– Звучит отлично, – сухо отвечает Алек. – Правда, здорово, но, знаете, я родился и вырос в лондонском смоге, и я, пожалуй, предпочел бы остаться на старом месте.
– Ты не понимаешь, что теряешь, – говорит Бёрнхем.
– Судя по всему, возможность поболеть за «Лутон Таун» и стать счастливым владельцем живой изгороди, – не может сдержаться Алек.
– Наглый мелкий говнюк, – говорит Бёрнхем, но без злости. – Наглый. Мелкий. Говнюк. Как я и говорил, да? Язык бежит впереди мозгов. Ну, что ж, дело твое.
Черт, черт, черт, думает Алек.
– Послушайте, Клайв…
– Для тебя мистер Бёрнхем.
– Мистер Бёрнхем, простите. Клянусь вам, я обычно хорошо лажу с людьми. Понимаете, у малыша колики, и мы не то чтобы хорошо высыпаемся. Уверен, вы и сами помните, что это такое.
– Да, да… Знаешь, что я делаю, когда у нас такое случается? Оставляю жену разбираться с этим и иду спать в другую комнату. Досадно, что у тебя такой нет, правда?
– Touchе, – отвечает Алек.
– Ту-ше? – передразнивает его Бёрнхем. Белоснежные плиточки зубов снова сияют. – Ту-ше?
– Мой отец любил «Трех мушкетеров».
– Не сомневаюсь. Ох, как бы ты вписался в «Таймс», иногда там такое нужно.
Бёрнхем смотрит на него, явно что-то обдумывая.
– Ай, да и черт с ним, – говорит он. – Попытка не пытка, но предупреждаю – не все сразу. Начнем с одной-двух смен, и если все пойдет нормально, то отлично. Но если ты не сможешь, когда надо, держать язык за зубами, вернешься обратно в эту дыру быстрее, чем сможешь сказать ту-ше. Договорились?
– Да, мистер Бёрнхем. Спасибо.
– И сразу забудь про международные новости и всякое такое. В ближайшие несколько лет тебя и близко не подпустят к полосам, которые приходится менять в последнюю минуту. Ты начнешь с придворного циркуляра, судебных отчетов, объявлений и писем. «Невеста блистала в неожиданном наряде из вишневой тафты» – в таком духе. Но даже там тебе нужно будет держать себя в руках. Во всех смыслах. Это тебе не тихое местечко, вот что я хочу сказать. И тебе придется со всем этим справляться.
– Я справлюсь.
– И не дай мне пожалеть об этом, Д’Артаньян.
– Никогда, мистер Бёрнхем. Один за всех и все за одного, мистер Бёрнхем.
– Тогда первая смена в следующий четверг, – говорит Бёрнхем, а затем, повысив голос, бросает: – Можете возвращаться, мистер Хобсон.
Хобсон выходит из-за угла, за которым тактично прятался все это время, и подагрической походкой огибает барную стойку.
– Уже договорились? – спрашивает он.
– Да, – отвечает Бёрнхем. – А теперь я, пожалуй, вернусь в цивилизацию. Спасибо за напитки, спасибо, что показали этого вашего языкастого парня.
Он осушает стакан, берет со скамейки фетровую шляпу и удаляется.
– Отлично, Алек, – говорит Хобсон. – Просто замечательно. Не так гладко, как я ожидал, но все равно замечательно. Отличный результат, я за тебя рад.
– Я вам очень обязан, мистер Хобсон, – отвечает Алек. – Сами знаете. Вы так много для меня сделали за все это время, я этого не забуду. Мне тоже пора возвращаться, надо быть на месте через десять минут. Сами скажете в «Газете», что возьмете кого-то еще?
– Да, да, но подожди-ка. Задержись на секундочку, я хочу тебе кое-что сказать.
– Что? – спрашивает Алек, предположив, что его отец, возможно, просил на такой случай передать ему какие-то слова или что-то в этом роде.
– Эм-м… – Хобсон сводит кончики длинных белых пальцев: большими подпирает выдающийся подбородок, а указательными принимается постукивать по носу. – Я хочу тебе сказать вот что…
– Я слушаю.
– Я хочу сказать, в печати тебя ждет большое будущее, и это прекрасно. Вы с Сандрой хорошо устроитесь, я помог тебе всем, чем мог. Но ты смышленый парень, и я хочу сказать, то есть я, по меньшей мере, просто должен тебя спросить: ты действительно этого хочешь?
– Хочу ли я? – переспрашивает Алек, мысленно находясь уже где-то в конце Маршалл-стрит.
– Знаю, я давно должен был спросить. И я понимаю, менять что-то сейчас было бы рискованно. Но ты еще молод. А печатные станки уже нет. Я не могу отделаться от этой мысли.
– Простите, не улавливаю, – отвечает Алек, глядя на часы.
Может, он пьян? – думает он. С одного виски вряд ли.
– Линотипы. Они не менялись, сколько я себя помню. Они старые. Они древние. И тебе придется сидеть за ними. Может статься, ты просидишь за ними всю жизнь, как я.
– Не самая плохая жизнь, – как можно деликатнее отвечает Алек.
– Вовсе нет! Нет! Но, господи боже, приятель, у тебя же такой умище, как у твоего отца. По крайней мере, насколько я могу судить. Ты мог бы заняться чем угодно, мог бы сделать что-то новое.
Алек едва сдерживает раздражение. Шесть лет в учениках, четыре года в «Газете» – десять лет он погружался в это дело все глубже и глубже, а старый дурак решил завести этот разговор только сейчас? Во всех его «мог бы» Алеку слышатся отголоски вымышленного мира, в котором этих десяти лет просто не было. В котором нет Сандры, нет малыша Гэри, нет уже принятых решений, пройденных путей, нет удушающей нужды, когда надо покупать продукты. Какую такую другую жизнь ему пытается нарисовать Хобсон? Теория, иллюзия, фантом, ради которых нужно отбросить все настоящее. Старый дурак. Но он не будет огрызаться на него, не будет. Не сегодня. Сегодня ему есть за что быть благодарным.
– Все прекрасно, – говорит он. – Вы же знаете, мне это все нравится.
И это правда. Вернувшись в «Газету», он включает машину, и, пока горит красная лампочка, показывающая, что типографский сплав еще не достиг точки плавления, он просматривает тексты: отчеты мирового суда, а следом за ними небольшие рекламные объявления.
– Ну что, Лен… – обращается он ко второму наборщику, который уже барабанит по клавишам.
– Что, получил работу? – спрашивает Лен.
– Да.
– Молодца, – говорит Лен умиротворенно.
Алек ждет, он знает, что вот-вот впадет в состояние, в котором будет пребывать весь остаток дня, когда минуты то бегут, то растягиваются, но часы при этом незаметно ускользают. На мгновение он вспоминает слова Хобсона и ловит себя на мысли, что просто сидит и ждет. Он внимательно вглядывается в линотип – махину размером с пианино, только сделанную не из гладкого блестящего дерева, а из множества смазанных, замысловатых, металлических деталей, выдыхающую дым и пар. И она его восхищает. Тысячи соединенных между собой частей, множество импульсов, отзывающихся на прикосновения его пальцев, и место наборщика, которое можно сравнить с троном, ни больше ни меньше. Он возведен на престол. (Зеленая лампочка.) Он король машины. Его взгляд сужается до строчки текста и клавиатуры с девятью десятками черно-сине-белых клавиш. Каждая клавиша, которую он нажимает, выталкивает бронзовую буквенную матрицу из магазина наверху, где остальные ждут, собравшись в столбики – длинные, как струны пианино. Щелчок, скрежет – и медная матрица падает на свое место в наборном отделении, которое располагается на уровне его глаз. Но, прежде чем она падает, успевает пройти короткий, но значительный отрезок времени, так что к тому моменту, когда она попадает на место, он успевает нажать следующую клавишу и отправить следующую матрицу в путь. Когда он разгоняется – левой рукой перебирая строчные, правой – выделяя заглавные, прыгая обеими в центр за знаками препинания и цифрами, – машина выдает ему матрицы с ощутимой задержкой, в безукоризненно точном порядке, но на две-три буквы отставая от его стремительных пальцев. А это значит, что если он разогнался, то не может проверить, докуда дошел, глядя на выстраивающийся перед ним медный ряд. Ему нужно держать это в уме, переключать внимание, как курсор, с-о-д-н-о-й-б-у-к-в-ы-н-а-д-р-у-г-у-ю. В конце строки шириной с колонку он прислушивается к скрежету металлического снегопада, и, когда тот заканчивается, он нажимает на кнопку окончания строки, которая приводит остальные части машины в нарастающее, возвратно-поступательное движение. Матрицы прижимаются друг к другу и фиксируются. Первый подъемник опускает их в жидкий сплав (пш-ш-ш) и вытаскивает (клац). Второй подъемник доставляет их в верхнюю часть машины и отправляет на транспортер, который отгружает их к нужному месту в магазине, и они падают, каждая в свою колонну, готовые к повторному использованию (дзинь). Но он не обращает внимания. Он уже давно набрал следующую строку, и за ней еще одну. Он замечает лишь неизменную сложную симфонию, которую исполняет работающий в полную мощь линотип. Щелк-тррр-клац-клац-кххх-пшшш-ффить-жжж-дзинь. Непрекращающийся, синкопированный ритм, в котором звуки почти всегда накладываются один на другой. За этими механическими звуками нужно неустанно следить, не теряя при этом концентрации, потому что любое отклонение или пауза может означать, что Папаша Линотип вот-вот может плюнуть тебе на ноги расплавленным металлом. Не считая этой задачи, его внимание следует за пальцами, танцующими над ОЕНАИ СТМВ – самыми крайними и самыми часто используемыми буквами на клавиатуре, а слева от него собираются первозданные, блестящие ярче серебра раскаленные металлические строки, слова, которые мгновение назад были лишь смазанным следом пишущей машинки или чернил, пока Алек, король и алхимик, не преобразил их.
Вэл
«Я слишком стара для такого», – думает Вэл, опасливо цепляясь за Алана. Мопед гудит, как гигантский улей, в воздухе воняет бензином, у нее раскалывается голова, а по бокам мелькают вишневые сады, коровы и прочие сельские атрибуты, пока они несутся по какому-то шоссе в плотном потоке выходного дня.
– Все нормально? – кричит Алан, ухмыляясь через плечо.
– Да, все классно, – отвечает она.
Стоило настоять на поезде. И не стоило надевать розовый мохеровый свитер с этими широченными рукавами, который собирает на себя дорожную пыль и на который Алан пролил чай, когда они два часа назад остановились перекусить. И вообще не надо было соглашаться на эту поездку в Маргейт. Да, он милый парень, и, да, они несколько недель улыбались друг другу в магазине, но ему всего девятнадцать. А когда утром она, как договаривались, подошла к гаражу под железнодорожными арками, выяснилось, что он самый старший в этой компании мальчиков с мопедами и девочек с начесами, собравшихся в Маргейт. Рядом с этими куклами она чувствует себя теткой, и, надо сказать, не только она. Они оказалась в компании восторженного юного племени, но она одета не так, как нужно, и все глядят на нее, как на чью-нибудь приставучую тетушку.
Алан что-то говорит, но в этот момент их обгоняет грузовик, и его слова тонут в грохоте и шуме.
– Что? – практически визжит она.
– Говорю, почти приехали! Еще пару миль! Но тут есть потрясное кафе, мы всегда там останавливаемся. Заедем?
– Хорошо.
– Что?
– Да! Супер! Если хочешь, давай!
Вообще-то в этот момент они уже сворачивают с дороги в компании остального выводка и заезжают на парковку, которая сплошь заставлена мопедами. Ну, а как же еще. Кафе представляет собой небольшое здание из красного кирпича с высокими окнами. За стойкой – супружеская пара, на чьих лицах явно читается, что они не совсем понимают современную молодежь. Но, несмотря на это, они весьма бойко продают им всем яйца с жареной картошкой, тосты с печеной фасолью, апельсиновый лимонад и молочный «Нескафе» в прозрачных стаканчиках, едва успевая при этом открывать и закрывать кассу, – принимая полукроны и десятишиллинговые купюры от этой слегка устрашающей банды, они, как-никак, зарабатывают себе на жизнь. Она могла бы привлечь их внимание, но не будет. Вместо этого она уходит в туалет, пока Алан и его компашка вихрем врываются в другую кучку таких же детей. В туалете девчонки, разбившись на небольшие группки, жмутся друг к дружке, смеются, что-то щебечут, и, чтобы поправить помаду, ей приходится силой протискиваться к зеркалу, где уже стоит какая-то сопливая мадам, явно переборщившая с тенями, отчего сильно напоминает енота.
На обратном пути она видит, что Алан стоит у музыкального автомата, и замечает, что к компании присоединился еще один парень. Он сидит на пластиковом стуле, широко разведя колени, словно его вообще не беспокоит, сколько пространства он занимает в мире, а между тем кафе настолько переполнено людьми, что вот-вот лопнет, и все остальные вынуждены тесниться. Что бы ему ни говорили, он лишь кивает головой или издает неопределенные «угу» и «м-м-м», не разжимая темных, припухших губ. Смотрит прямо перед собой так, словно ему невыносимо скучно. Глаза у него большие и темные. И он красиво одет. Правда, красиво: на нем костюм переливчатого синего цвета с узкими лацканами и зауженными брюками. Должно быть, он стоил ему пару зарплат, потому что явно сшит по меркам. У него острые скулы, гладкие черные волосы и презрительный взгляд – никого красивее она не видела примерно никогда. Даже козлина Невилл не был так хорош. По сравнению с ним образ прощелыги, который разыгрывал Невилл, внезапно показался ей очень натянутым и второсортным, хоть он и помог ему в свое время залезть к ней в трусики. Рядом с этим парнем бедолага Алан, розовый взмокший добрячок в хлопковой рубашке, кажется не привлекательнее куска консервированной ветчины.
– А, вот ты где, – говорит Алан. – Взял тебе сэндвич с беконом. Это Майк. Оказывается, он тоже из Бексфорда.
– М-м-м, – протягивает Майк, глядя на нее.
– Забавно, что мы ни разу не пересекались, да? – говорит Алан.
– М-м-м, – повторяет Майк, не сводя с нее глаз.
– Да, – отвечает Вэл, глядя на Майка в ответ. – Я бы запомнила.
– М-м-м.
Одна из девчонок с начесом начинает хихикать.
– Ну, что, – говорит Алан, глядя то на Вэл, то на Майка. – Нам, наверное, пора ехать, да, пупсик? Ты не против доесть на ходу?
– Я не голодная, – отвечает Вэл.
– Она не похожа на пупсика, – внезапно произносит Майк. – Мне так кажется, приятель.
Он говорит в нос, как истинный уроженец южного Лондона, его голос вибрирует, как пила, словно идет откуда-то из полости между темных бровей. Закончив фразу, он поджимает губы и кривит их в усмешке.
– Э-э, ну, неважно… – говорит Алан.
– А ты что скажешь? – спрашивает Майк. – Ты его пупсик? Типа птичка? Или маленькая собачка?
– Нет, – отвечает Вэл.
– М-м-м.
– У меня голова болит, – говорит Вэл. – Раскалывается, правда.
– Да? – спрашивает Майк.
– Да. – Она бы с радостью вытянула эту гадкую боль спиралью из головы и сунула ему в лоб, в то место, где резонируют его слова, чтобы разделить с ним это противное ощущение пустоты. Чтобы их головы превратились в смежные, тошнотворно пустые комнаты.
– Жаль, – говорит Майк, вздернув брови. Внезапно он встает, плавно и грациозно, точно марионетка, и протягивает руку к ее лицу. На секунду кажется, будто он прочел ее мысли и, не дождавшись, пока она отдаст ему свою боль, тянется большим и указательным пальцем, чтобы забрать ее самому. Но нет, вместо этого он протягивает ей голубую треугольную таблетку. – Вот, возьми, полегчает. Может быть.
– О-у, – неуверенно произносит Алан.
Но она берет таблетку и, не задумываясь, глотает, не запивая, чувствуя в глотке меловой вкус оболочки. Майк, не оборачиваясь, поднимает другую руку и качает пальцем – и жест этот обращен к стоящему у него за спиной Алану. Не-а.
– Увидимся, – говорит он и решительным шагом направляется к выходу.
Снова сидя на мопеде, упираясь в напряженную, взмокшую спину Алана, Вэл пытается быстренько собраться с мыслями. Она не то чтобы очень хорошо знает Алана. Она не его подружка. Нет. Она не… Но сейчас они несутся по склону, вокруг вырастают белые домики Маргейта, впереди блестит море, и неизвестная таблетка начинает действовать, моментально растворившись в пустом желудке. О да, головная боль проходит, словно туча, оставшаяся позади. Тревога тоже давным-давно исчезла из поля зрения. Сегодня не день для тревог. Солнце сияет. Припаркованные машины блестят, словно их только-только покрасили и отполировали. Куда бы она ни посмотрела, ее взгляд постоянно цепляется за что-то поразительное, что-то новое, что-то выдающееся. От этого мысли у нее в голове пускаются вскачь, и стоит ей, вздрогнув, очнуться от них, как ее привлекает что-то другое – промелькнувшая вывеска химчистки или пестрый цветок у кого-то на подоконнике. Мир вокруг словно пинбольный автомат – ее мысли прыгают, мечутся, сталкиваются, рикошетят туда-сюда-туда-сюда-туда-сюда. Или…
Алан останавливает мопед на пятачке, где уже жмутся все остальные. Она никогда прежде не замечала, как в боковых зеркалах мелькает свет, мозаика маленьких отражений всего, что вокруг, – раздробленный океан, искусно пойманный овальными блюдечками на ножках.
– Как пинбол, скажи ведь, – говорит она.
– Чего говоришь? – спрашивает Алан.
– Ты похож на ветчину, – отвечает она. – На отличную ветчину. Да, мы встретились в магазине, но ты был не в мясном отделе, а в хозяйственном. Какая жалость. Но, если честно, только не обижайся, я бы все равно на тебя не позарилась.
– Эй, что с тобой? – Алан краснеет.
– Она декседрин съела, что ли? – спрашивает одна из начесанных.
– Я просто веселюсь, – говорит Вэл. – Первый раз за день, если честно. Знаешь что, Алан? Алан, Алан, старина, знаешь, что? Тебе надо встряхнуться! Смотри на жизнь с этим, как же его… Что же это за слово, на языке вертится… Тебя не бесит, когда такое случается? Как будто дырка в голове, да? Ха-ха! Мозг дырявый, как сыр. Или как решето.
– Вот черт, – ёмко заключает Алан.
– Ты лучше усади ее куда-нибудь. Дай ей чаю или еще чего-нибудь. С ней такое явно в первый раз.
– Да мы же только приехали, – говорит Алан. – Я ей не нянька. Я хочу спуститься к воде. Девчонки, может, вы присмотрите за ней, а?
– Ну ты и наглец. Сам ее притащил, сам с ней и возись.
– Ну, пожалуйста. Всего пару минут. Ну, вы чего?
Главная начесанная бросает на Алана презрительный взгляд и выплевывает жвачку на палец с ногтем цвета телефонной будки, а затем демонстративно прилепляет ее на сиденье мопеда.
– Эй, полегче, – говорит Алан. – Поосторожней с обивкой.
– С обивкой! – верещит начесанная и вместе с приятелями разражается хохотом.
– Эй, – встревает Вэл, которая немыслимо долго ждала окончания этого чрезвычайно нудного диалога. – Эй, эй, эй, эй. Эй! Знаете, что? Идите на хрен!
– Само очарование.
– Вэл… – начинает Алан.
Но Вэл, широко улыбаясь, отступает на запруженный людьми тротуар, и больше ей ничего делать не нужно. Ее подхватывает поток отдыхающих, и обеспокоенное лицо Алана, как и недовольная гримаса девчонки, в мгновение ока отдаляются, усыхают до розовых крошек, а затем и вовсе исчезают – с глаз долой, из сердца вон. Тут же у нее перед глазами снова возникают разные предметы, в то время как толпа уверенно подталкивает ее вперед, точно сам океан взял ее под локти, поднял над галькой и покачивает на волнах.
Здесь есть и настоящий океан. С боковых улочек на главную, бегущую вдоль берега, потоками стекаются люди. И когда она сворачивает – когда сворачивает толпа, – вдали уже виднеется пирс, врезающийся в горячую голубую воду, и все изгибы длинного маргейтского пляжа, усеянного телами людей. По пути туда поток движется бодро, слегка покачиваясь, но удерживая ряды, а ближе к воде распадается на отдельные сгустки купающихся, детей с резиновыми кругами и бабушек, придерживающих платья и растирающих косточки на ногах. Между ними люди тесно спрессованы и едва двигаются, как зубчики на расческе. Три разные плотности, три разных вида движения. Она наблюдает за всем этим с некоторым приятным нетерпением. На что бы она ни взглянула, ей кажется, что она смотрит на это уже очень долго, слишком долго. Тогда она переводит взгляд дальше, но как только он за что-то цепляется, ей кажется, что прошла вечность. Но ей не хочется ничего делать, хочется лишь впитать как можно больше растянутых мгновений этого дня.
Она видит, как в кукольной будке на конце пирса блестит щека Джуди из папье-маше, по которой лупит палкой мистер Панч, а голосящие дети, сбившись в толпу, со страхом хватаются за головы. Она видит женщин, старше ее на пять, десять, двадцать или ноль лет, которые натирают детей кремом, вытирают носы, подсушивают полотенцами волосы и передают сэндвичи. Она видит задремавших отцов; злых отцов; спокойных отцов; отцов, читающих новости о скачках. Она видит целые лагеря семей, разбитые на шезлонгах.
Она видит, как по асфальту из-под вафельного рожка, торчащего вверх, словно тонущий Титаник, растекается ярко-желтый шлепок ванильного мороженого, выпавшего из липкой, растопыренной пятерни ребенка. Она видит покачивающийся саржево-синий сгусток наглухо застегнутых полицейских, тяжело вышагивающих вдоль дороги. Она видит голубые рубашки и сине-серебристые, блестящие на солнце шлемы полицейских, вызванных для подкрепления и ждущих своего часа у фургонов. Она видит щетину на розовых шеях мужчин за сорок, которые приехали к морю при галстуках и теперь, зажав в пальцах сигареты, крутятся вокруг полицейских фургонов, как группа поддержки в ожидании какого-нибудь вопиющего беспорядка, чтобы можно было бурно возрадоваться, когда порядок будет восстановлен.
А между всем этим – значительно проигрывающие числом мелкодисперсной массе людей, густой, как куст кресс-салата, растущего на подоконнике, – неуклюже, неуверенно движутся маленькие ручейки парней и девушек, ищущих друг друга и ждущих. Чего? Внимания? Когда на них не направлено внимание, они сконфуженно ухмыляются, толкаются плечами, протирают солнечные очки, передают друг другу чипсы, роняют их, поднимают и пытаются сдуть налипшие песчинки. Но когда на них смотрят – когда семьи или мужчины в галстуках поворачивают к ним головы, когда полицейские двигаются в их направлении, они, кажется, точно знают, что делать. Подпитываясь неодобрением, они разыгрывают потасовки в отдельных маленьких группках и кластерах. Толкаются, нерешительно начиная заварушку. Сбивают друг друга с ног, сцепившись, катаются по земле, задевая лежаки и силясь высвободить руки, чтобы нанести следующий неуклюжий удар. То тут, то там кому-то разбивают нос. Мамочки возмущенно вскакивают, мужчины в галстуках тяжело качают головами, взопревшие полицейские врываются и растаскивают парней за воротники, пока те машут руками и ботинками оставляют борозды на песке. Зрелище не захватывает. Похоже на размеренное волнение закипающей в кастрюле овсяной каши. Закипающая каша происшествия.
Но затем ее взгляд выхватывает какое-то иное движение в одной из борющихся групп: кто-то в костюме переливчатого синего цвета, кто находится в центре заварушки, но не задавлен ей, двигается легко, взвешенно и грациозно. На конце изысканного синего рукава блестит что-то похожее на металлическую расческу, и в какую бы сторону она ни направилась, она рассекает, расщепляет, разделяет толпу. Перегнувшись через ограждение набережной, Вэл видит Майка. А он в ту же секунду замирает, аккуратно придерживая кончиками пальцев свободной от расчески руки подбородок какого-то сонного вихрастого парня. Он видит, что она видит. Он ухмыляется. У нее под ребрами что-то сжимается и перекручивается, а в промежности – пульсирует и расслабляется. Внезапно время приходит в себя и, вместо того чтобы с опозданием прыгать с кадра на кадр, снова соглашается вернуться в привычный ритм. В этом ритме Майк кружится, качается из стороны в сторону и припечатывает заторможенного парня в челюсть заостренным носком ботинка. Как будто что-то хрустит, как будто мелькает кровь, но до них далеко, и сила удара отбрасывает парня в гущу драки, и он растворяется, словно его никогда и не было, и теперь все ее внимание занято изящным и точным движением ноги, и Майк поворачивается к ней, как танцор, театрально раскинув руки, словно говоря: «Ну что, понравился тебе мой трюк?»
Она не знает. Она об этом не задумывается. Ей нравится он. Это, должно быть, написано на ее восхищенном лице, потому что он отделяется от дерущейся толпы и непринужденно направляется к ней, на ходу засовывая расческу в нагрудный карман, стряхивая пыль с переливчатых синих лацканов и игнорируя крики за спиной, словно драка больше не имеет к нему никакого отношения. Он все еще ухмыляется.
– Ты как, в порядке? – спрашивает он.
– Да, спасибо, – отвечает она. – Голова прошла.
– И от своего парнишки ты тоже избавилась, я смотрю.
– Он не мой парнишка, – говорит Вэл.
– А он знает?
– Да. Определенно.
– Ну, тогда… – Майк собирается с мыслями. – Тогда…
– Что?
– Тогда, миледи…
– Что? – смеется Вэл.
– Не желаете ли чипсов?
– Может быть, – отвечает Вэл.
– Недотрога, да? – спрашивает он.
– Нет, – отвечает она, глядя в его огромные глаза. – Совсем нет.
Майк, который до этого шел рядом с ней, театрально сгибая и разгибая запястья и шею, что выглядело достаточно угрожающе, останавливается.
– Как тебя зовут? – спрашивает он. Она называет свое имя. – Мне нравится. Такое старое, доброе. Не то что вся эта американская хрень.
Его длинная рука с аккуратно подстриженными ногтями тянется к ее лицу. Он легонько касается ее лба, потом кончика носа, а затем – губ.
– А что была за таблетка? – спрашивает Вэл и, произнося эти слова, открывает рот и пускает его теплую сухую кожу, ноготь и кутикулу чуточку глубже, позволяя пальцу устроиться на подушечке нижней губы. Мимо проезжает полицейский фургон.
Чайки, тележки с мороженым, болтающие семьи, кряхтящий автобус.
– Я поднял на тебя руку, – говорит Майк.
Кончиком языка она касается кончика его пальца. Майк моргает.
– Тогда пошли, – говорит он и присваивает ее. Но не обнимает за талию, не целует и не берет под руку. Он совершенно недвусмысленно хватает ее за локоть и ведет – совершенно недвусмысленно – прочь с шумной набережной, на первую же боковую улицу и дальше, на улочку поменьше, полную маленьких магазинчиков, и еще дальше – в переулок, зажатый между стенами с каменной крошкой, где нет ничего, кроме пары мусорных баков.
– Что? – Она задыхается, посмеиваясь. – Что мы…
Но он совершенно недвусмысленно кладет руки ей на плечи и опускает ее на колени, на землю рядом с мусорными баками.
– Давай? – спрашивает он.
Она не знает, на что он спрашивает согласия. Это совсем не похоже на то, как ведут себя парни, которые тебя хотят. Они всегда хотели потрогать, распустить руки, прижаться и скользнуть мокрыми нервными ладошками к ней под одежду. Козлина Невилл чуть ухо ей не ошпарил своим дыханием. Но Майк с его «давай», которое могло в своей жадности сравниться с ладошками любого парня, отклоняется назад, подальше от нее. Синие плечи откидываются на щербатую штукатурку, красивое лицо смотрит в сторону, а ноги расставлены, словно он не желает приближать к ней никаких других частей тела, кроме единственной точки соприкосновения, возбужденной радостями праздничного выходного дня и приведшей его к ней навстречу. Он выставляет вперед бедра, кладет руку ей на затылок и… ох. Хочет втолкнуть что-то прямо ей в голову.
Ждать приходится недолго. Солоноватый вкус, как кровь, но с пресным привкусом железа.
Майк протягивает ей носовой платок в тон костюму и застегивает брюки.
– Спасибо, прелесть, – говорит он. – Так что насчет чипсов?
Верн
Может, стоило остановиться на кафе «Роял»? Когда дверь такси открывается, путь до ступенек «Тоноцци» кажется Верну таким долгим, что он почти готов дать заднюю. Да и непонятно, оценит ли Маклиш это малоизвестное, жутко дорогое место, где бывала сама королева? Про кафе «Роял» футболисты знают. Их приглашают туда вместе с женами, когда они выигрывают кубок. Там позолота, бутылки игристого, делающие ф-фух, снимки для газеты. Пожалуй, именно так выглядит их представление о «классе», о высших кругах. Да, стоило пригласить его туда. Или в какой-нибудь ночной клуб, где собираются аристократы и мафиози. Не считая, конечно, того, что, если бы Маклиш в Сохо взялся играть в баккара, это могло бы закончиться бог знает чем, да еще обойтись в сумму, которую Верн определенно не может себе позволить. Здесь же все точно подсчитано, точно спланировано, а нужная сумма уже наскреблась заранее. Это его единственный шанс произвести впечатление невозмутимого, беспечного богача. Уже слишком поздно придумывать что-то другое. Просто не облажайся, говорит он себе. Неловко двигаясь в бледно-голубом костюме с ослепительно-белыми манжетами, он спешит к дверям в окружении концентрированного облака лосьона после бритья с Маклишем на хвосте.
– Бронь на час дня. На имя Тейлор, – обращается он к метрдотелю, трущемуся чуть ли не в проходе. Он не пытается придать лоска голосу, замаскировать сквозящий в нем южный Лондон. Нет, скорее, наоборот. Верн может изобразить представителя офицерского класса, если захочет. Неочевидное преимущество службы в армии – из кухни очень хорошо слышно, как всякие Руперты и Хьюго снова и снова произносят гласные так, как они звучат у них в богатых графствах. Но сейчас не время демонстрировать чудеса дикции. Что сейчас нужно, так это обезоруживающая простота выскочки, беспардонно врывающегося в святилище, растопырив локти. Вы только посмотрите на него! Он мог бы быть уличным фотографом, шокирующим модный мир! Молодым и деятельным гением из мира рекламы! Парнем из звукозаписывающей компании, который одним пальцем управляет ритмом! Молодым продюсером, прорвавшимся на Вэст-Энд из бэкингемширской кинокомпании! Большой шишкой в коммерческом телевидении! Это все не про него, но, в конце концов, они-то этого не знают, напоминает себе Верн.
– Разумеется, мистер Тейлор, – отвечает человечек на побегушках, как только находит имя в книге бронирований, похожей на фотоальбом, который мог бы быть у кого-нибудь с фамилией Чамли или Фэншоу. – Марио вас проводит. Наслаждайтесь ланчем, джентльмены.
– Превосходно, – невозмутимо бросает Верн и устремляется в сторону винтовой лестницы вслед за другим лакеем, но, сделав всего пару шагов, понимает, что где-то потерял Маклиша. Он останавливается у лестницы и, глядя из роскошного полумрака на главный вход, обрамленный силуэтами лепестков, свисающих из цветочных корзин, сквозь который проглядывает яркий сент-джеймский день, видит, что его гость колеблется возле дверей, не решаясь войти. Маклиш смотрит на фасад, ссутулив плечи, и крутит пуговицу пиджака, что всегда означает тревогу. Раз он оценил это место настолько, что оно его напугало, может статься, что Верн и не прогадал, и теперь может великодушно освободить его от этого страха.
– Давай, Джо! – кричит он через плечо. – Никто тебя не съест!
И Маклиш, слегка втянув голову, преодолевает ледяное силовое поле метрдотеля с едва заметной, почти извиняющейся улыбкой.
В бывшем подземном хранилище под «Тоноцци» все еще сохранились следы джаз-клуба в стиле ар-деко, коим он был до войны, когда аристократы и чернорубашечники Муссолини и аристократы, которые были чернорубашечниками Муссолини, танцевали чарльстон на до блеска натертом паркете. Но с тех пор над этим местом возобладал добродетельный мэйфейрский вкус, накрыв все пресной цветочной волной. Теперь тут везде сплошь белый лен, а на круглых столиках стоят маленькие букетики фрезий. Официант усаживает их на маленькие позолоченные стулья неподалеку от лестницы, и Верн чувствует себя великаном. Но он чувствует себя великаном везде, это факт. Он так долго ждал, когда вырастет и превратится в одного из тех изящных молодых ребят с длинными ногами, но сколько бы он ни прибавлял в росте, а сейчас он был уже под шесть футов, он пропорционально увеличивался и в ширину. При любом росте он останется огромным, квадратным куском мяса с маленькими острыми глазками на лице шириной со щит. Он ходит в старый бексфордский спортзал не столько для того, чтобы поупражняться в спарринге, от которого он лишь потеет и задыхается, сколько чтобы часами зависать у груши для спидбола. На улице он никого не догонит, но если кто-нибудь добровольно окажется в зоне досягаемости его кулака, он сможет его уложить. А его габариты придают ему значимости, даже авторитета, что в целом компенсирует его возраст. В глазах окружающих он не двадцатитрехлетний, в их глазах он – немаленький.
Официант приносит красные меню, тоже напоминающие какие-то фамильные реликвии Чамли-Фэншоу. Маклиш, вцепившись в свое, выказывает новые тревожные знаки. Меню, разумеется, на французском. И снова, боже храни Армейский корпус общественного питания. Спасибо тебе за возможность наблюдать за сержантами-поварами, усердно печатающими потными пальчиками меню для офицерской столовой в лимассольской духоте. M-i-l-l-e-f-e-u-i-l-l-e-s.
– Так они выделываются в этих местах, скажи? – подчеркнуто серьезно говорит Верн. – В самом верху печень, потом стейк, потом палтус, а потом лобстер.
– Ага, – говорит Маклиш. Он расслабляет запястья, а темные глаза перестают тревожно метаться по сторонам. – Ага…
– Почему нельзя просто так и написать?
– Точно, – говорит Маклиш. – Знаешь, я ни разу не ел лобстера.
«Черт», – думает Верн, остро осознавая исчерпаемость содержимого своего бумажника в левом кармане брюк.
– Ну, так давай, – говорит он. – Вот тебе и возможность. Они тут прекрасно его готовят, подают со всеми специальными французскими соусами и особыми приборами, чтобы вскрывать панцирь. – Верн задерживает дыхание.
– Не, – отвечает Маклиш. – Знаешь, я просто возьму стейк.
– Отличная идея. Я тоже, – говорит Верн. Он подзывает официанта. – Два антрекота медиум, пожалуйста, и бутылку «Кот-дю-Рон» шестьдесят второго. Ты не против, Джо?
– Нет, отлично, – говорит Маклиш. Теперь, когда кризис миновал, официант удалился и опасность оказаться разоблаченным в том, что он не понял ни слова, осталась позади, он откидывается на спинку маленького золотого трона, раскидывает широченные ноги, похрустывает шеей и, вытянув вперед длинный подбородок, приготавливается к тому, что сейчас его будут развлекать. Симпатичный парень: черная копна волос и голубовато-белая кожа истинного шотландца. – Вот это местечко, а?
– Это точно, – говорит Верн. – Одни графы и графини. Сплошные титулы, куда ни плюнь. И знаменитости всякие приходят.
– Правда? – спрашивает Маклиш. – Кто, например?
– Ну, например, ты, – скалится Верн.
– Да иди ты, – говорит Маклиш, и он, конечно, прав. У него нет и толики известности, которая хоть как-то могла бы оправдать его пребывание в этом месте. Запасной нападающий клуба четвертого дивизиона – «Миллуолл» подписал с ним контракт всего десять месяцев назад. За это время он успел ощутить ту строго местечковую славу, распространявшуюся на Бексфорд, Нью-Кросс и Бермондси, где работяги из доков покупали ему пинты, а он в ответ был вынужден выслушивать подробные рассказы о том, где и как именно в этом сезоне налажала команда, а потом по субботам дочери этих самых работяг строили ему глазки. Но ему по душе эти подколки Верна, присыпанные комплиментами. По нему видно, что он привык к некоторому избытку женского внимания, – он и здесь оглядывается по сторонам, скорее всего, просто машинально, чтобы проверить, не встрепенулась ли какая-нибудь барышня. Не тут-то было. Самыми молодыми дамами из тех, что обедали сегодня в «Тоноцци», были прилизанные мэйфейрские барышни лет за тридцать в туфлях-лодочках и жакетах без воротника, которые, смеясь, сдвигали на бок породистые, плотно сжатые колени. В ответ на свой воодушевленный взгляд Маклиш получал в лучшем случае вздернутый нос. Вернее, не совсем. Парочка женоподобных, точно полусонных, пареньков по другую сторону от лестницы разглядывали его с нескрываемым удовольствием, но на этом лучше не заострять внимание.
– Ну ладно. Например, тут бывает королева.
– Серьезно?
– Ага. Серьезная и величественная.
– Вот это да, – говорит Маклиш.
– И ты. Ее величество и ты!
– Иди ты! – отвечает Маклиш. Ему девятнадцать. – Мать удар хватит, когда я ей расскажу.
– Хорошо, – благодушно говорит Верн, даритель похвалы, достойной маминых ушей, – главный на этом празднике жизни.
Тут, как раз вовремя, возвращается официант с бутылкой вина, наливает немного на пробу в бокал, стоящий рядом с Верном, и после выразительного кивка следует церемония разлития и наполнения бокалов для воды – ритуал хрустального звона и бульканья, перед лицом которых Маклиш снова умолкает.
– Твое здоровье, – решительно говорит Верн. Они чокаются бокалами.
Пока Маклиш осторожно делает первый глоток, Верн, подавшись вперед, тихо произносит:
– Может быть, она сидела на этом самом стуле. Вполне может быть, что ты сейчас сидишь на отпечатке монаршего зада.
Маклиш закашливается и втягивает голову в плечи.
– Полегче, – говорит Верн, – винишко-то не выплевывай. Фунт за бутылку, в конце концов.
– Черт побери, нельзя так говорить, – шипит Маклиш. – Не здесь… – Он определенно покраснел и озирается по сторонам, словно из тени вот-вот неминуемо появится полиция снобов и его схватят.
– Можно, черт побери, – отвечает Верн, хотя и сам строго следит за своим голосом и наблюдает за обстановкой. – И даже, черт побери, нужно.
– Что ты имеешь в виду?
– Я имею в виду, – говорит Верн, откидываясь на стуле так, чтобы его светло-голубые лацканы, ослепительная нейлоновая рубашка размера XXXL и шелковый бирюзовый галстук заполнили всю картинку перед глазами Маклиша своей несокрушимой надежностью. – Эти люди, это место – всё это очень мило, но их время прошло. Это вчерашний день. А меня не интересует вчерашний день. Я смотрю в будущее. Оглянись! За кем тут будущее, м? А я тебе скажу: не за ними, черт побери. За нами! Кто здесь будущее? Мы.
Он бросает на Маклиша исполненный решимости взгляд. Такой же, какого в спортзале удостаивается груша для спидбола. Парень ежится, но при этом его распирают эмоции. Он впечатлен.
Появляются стейки. Их подали с круглыми, упругими шампиньонами, но после неудачной попытки наколоть один из них на вилку, когда гриб просто выскользнул из тарелки, испачкав скатерть, Маклиш оставил идею их попробовать. Но нежное мясо легко покоряется ножу, и он, воодушевленный речью Верна, игнорирует грибы, жует, глотает вино и перехватывает инициативу.
– Так ты собираешься открывать рестораны, Верн?
– Определенно, – говорит Верн. – И уж точно что-нибудь посовременнее. Чтобы было светло, просторно и никаких вот этих старомодных штучек, ну ты понимаешь.
Маклиш с ухмылкой кивает.
– Но это второй этап, до него надо дойти. Идея в том, чтобы завоевывать мир постепенно. Сначала идут здания. Например, жилые дома – с ними не прогадаешь, жилье же всем нужно.
Он достает бумажник и протягивает Маклишу крупную визитку кремового цвета. «Гровенор Инвестментс» – самое солидное имя, которое он только мог придумать для компании, располагающейся над забегаловкой в восточном Бексфорде.
– Ты будешь строить дома? – спрашивает Маклиш.
– Пока нет. Я планирую их покупать и сдавать в аренду.
– Хочешь сказать, что будешь домовладельцем? – говорит Маклиш разочарованно и даже с некоторым неодобрением. – Отец говорит, что все домовладельцы – троглодиты. Как тот тип, Рахман. Читал в газетах, как он натравил на детишек здоровенных собак.
– Нет-нет-нет, – тут же парирует Верн. – С этим покончено. Новый закон, который только что приняли, положит всему этому конец. Вырвет с корнем.
К слову сказать, новый закон об аренде положил конец и всем строительным фирмам-однодневкам, с помощью которых такие люди, как Верн, не имеющие никакого капитала, могли легко наложить лапы на ипотечные ссуды. Но он об этом не заикается.
– Это мой шанс, понимаешь? Все эти жулики и троглодиты теперь вне игры, потому что на этом больше не наживешься.
– Но разве ты не хочешь на этом заработать?
– Я хочу заработать, – отвечает Верн. – И я заработаю. Потому что знаю как. Смотри, есть бексфордская Хай-стрит, есть Нью-кросс-роуд, есть центр Депфорда и Левишема. Сколько там домов с магазинами на первом этаже и квартирами на втором? А я тебе скажу: тысячи. Буквально тысячи. И купить их можно за бесценок. А кто получает арендную плату с владельцев магазинов? Тот же, кому платят жильцы, – домовладелец. Бог с ним, что старушка сверху платит гроши, потому что закон об аренде не распространяется на нижние этажи, не затрагивает магазины. Там-то и кроется маленькая золотая жила. Деньги с аренды первых этажей покрывают все расходы на приобретение дома, и этого, и следующего, и так далее, пока в один прекрасный момент тебе не будет принадлежать вся чертова улица.
– Ну, не знаю, – неуверенно отвечает Маклиш. Верн практически видит его мысли. Тот представляет вереницу бексфордских мясных лавок, захудалых овощных магазинчиков, сомнительных торговцев подержанной мебелью и заплесневелых газетных киосков, и ему явно сложно поверить, что где-то там может прятаться хоть какое-то подобие золотой жилы. – Я думал, это будет что-то… Ну, поновее. Ты же сам сказал…
– Будет, – наседает Верн. – С этого все начнется. С обычной улочки, с обычного магазина, потенциала которого никто не разглядел. А потом – да. Потом начнется все веселье. Потом пойдут торговые центры, офисные кварталы, гребаные катки и казино. И небоскребы!
– В Бексфорде? – спрашивает Маклиш. – Ты хочешь построить небоскребы в Бексфорде?
– А хрен ли нет? – говорит Верн, и они оба разражаются хохотом, добрым, воодушевленным, а рядом витают призрачные силуэты небоскребов над рекой.
Является незваный официант и разливает по бокалам остатки вина. Не торопится, затейливо поворачивает бутылку, чтобы с горлышка не падали капли, размахивая у них под носом белым ручником. Маклиш как будто сдувается и снова начинает ерзать.
– Не желаете еще бутылочку, джентльмены? – спрашивает официант.
Нет, вали отсюда.
– Нет, спасибо, – отвечает Верн, отмахиваясь от него большой розовой рукой, и продолжает наступление: – Так что видишь, все начинается с малого, с повседневного, но это действительно будущее. Мое будущее. Возможно, твое. Потому что такой парень, как ты, должен спрашивать себя «А что дальше?», так?
– Отец постоянно так говорит.
– Похоже, он мудрый человек, – вкрадчиво говорит Верн, готовясь призвать в свидетели семейную мудрость. Но Маклиш, отложив вилку с ножом, ссутулил плечи и скорчил гримасу, стараясь, хоть Верн и не сразу это понял, кого-то изобразить.
– Ох, подумай о своем будущем, Джо, – сказал Маклиш, резко перевоплотившись в карикатурного уроженца Глазго со старческим хриплым, прокуренным баритоном, потрескивающим, как обезумевший счетчик Гейгера. – Футбол неплохое дельце, когда ты молодой, а чего ты будешь делать, когда колени откажут? Когда тебе стукнет двадцать пять и твои начальники решат, что ты уже старый, э? Откуда тогда деньги брать на блестящие костюмчики и галстуки?
Перевоплощение оказалось таким точным, Верну и в голову бы не пришло, что парень на такое способен, а еще он совершенно не мог определить, сколько неприязни на самом деле кроется в этой пародии.
– А он у тебя оптимистичный, да? – Он решает не рисковать и прибегает к старой доброй иронии.
– Да нет, он не то чтобы неправ, – вздыхает Маклиш. – Но он говорит это с таким гребаным самодовольством.
– И чем же он предлагает тебе заняться потом?
– Пойти на железную дорогу, как он. Остепениться. «Это хорошая работа. Если, конечно, ты не думаешь, что слишком хорош для нее».
– А сам ты не в восторге от этой идеи? – Теперь он на безопасной территории. Кто же в девятнадцать лет, в самом начале своего пути, своего полета порадуется мысли о падении на землю?
– Не очень.
– Что ж, ты определенно способен на большее.
– Да?
– Да! Конечно способен. Позволь спросить, сколько они тебе сейчас платят? – Разумеется, Верн знает сколько, до последнего пенни. Выяснить это было одним из ключевых моментов в подготовке к сегодняшней встрече.
Как он и предполагал, вопрос настораживает Маклиша.
– Почему вы спрашиваете?
– Это так, для примера. Не подумай, я не допытываюсь. Дай-ка угадаю. Я бы сказал… Фунтов тридцать в неделю?
Лесть. После забастовки, которую игроки устроили три года назад, – еще один ценный ключик к их разговору – ограничение заработной платы, действовавшее десятилетиями, сняли. Но «Миллуолл» далеко не самый богатый клуб, а Маклиш еще далеко не звезда, к тому же они прикрываются тем, что он молод, поэтому сейчас он получает двадцать шесть фунтов и десять шиллингов.
– Около того, – говорит Маклиш.
– Неплохо, – говорит Верн. – Молодец. Но знаешь что? На самом-то деле, если подумать, в конечном счете это просто гроши, сынок.
– Чего? – спрашивает Маклиш, не понимая, смеяться ему или обижаться.
– Нет, конечно, в сравнении с Британской железной дорогой просто превосходно. Но в сравнении с тем, что ты мог бы иметь, в сравнении с миром, – он обводит пальцем окружающий их аттракцион роскоши, – миром, который настолько «созрел», что стоит лишь нажать, главное знать – как и куда, – так вот в сравнении с этим ты просто нищий, приятель. Считай, ничего за душой нет.
– И все же у меня достаточно денег, чтобы вы мной заинтересовались, – говорит Маклиш.
– Прости? – переспрашивает Верн, позволив морщинке смущения рассечь свой массивный лоб.
– У меня достаточно денег, чтобы вы попросили меня вложить их в это… – Маклиш стучит пальцем по визитке на скатерти.
– Что? Ты думаешь, я хочу, чтобы ты инвестировал в это?
– А разве нет?
– О господи, – говорит Верн, силясь изобразить, что это предположение его одновременно смутило и развеселило (но не слишком, чтобы не вышло оскорбительно). – Нет! Боже, приятель, у меня совершенно противоположные цели. Нет-нет-нет. В этом смысле у меня все в порядке. Деньги есть, и по правде сказать, из карманов поглубже, чем твои. Без обид.
– Так вы не хотите от меня денег?
– Нет. Прошу прощения, видимо, я не вполне ясно выразился.
– Тогда чего вы хотите? – спрашивает Маклиш.
Верн цокает языком и смущенно опускает взгляд.
– Ну, – тянет он, потирая указательным пальцем несуществующее пятно на скатерти. – Я собирался подвести к этому, знаешь, чтобы не прямо в лоб, но раз так… Все, что мне нужно…
Он поднимает глаза, чтобы одарить Маклиша заранее подготовленным, исполненным искренности взглядом, который вместо этого цепляется за кое-что у парня за спиной. Там, у подножья винтовой лестницы, в окружении набриолиненных кавалеров с континента он замечает лицо, которое в последний раз видел с высоты пятидесяти футов на сцене Ковент-Гарден. Песня, которая тогда звучала, вознеслась до шестишиллинговых мест на галерке и попала ему в самое сердце, вывернула наизнанку. Без своего трагического облачения она выглядит старше, а светское лицо кажется незнакомым. Но это она! Вот здесь, в паре футов. Эта женщина – ключ к тем чувствам, которые он надежно прячет внутри, даже от самого себя. Когда он покупает билет в оперу, левая рука его не знает, что делает правая[1 - Евангелие от Матфея 6:3: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне».]. Он действует у себя же за спиной. Втихаря проскальзывает на Вест-Энд, отвернув внутренний взор от осознания того, что чуть позже он будет промакивать глаза носовым платком, будет сидеть под золоченым потолком Ковент-Гарден, а по щекам будут беззвучно струиться слезы. Теперь у него щиплет глаза.
Ему следовало бы сейчас нанести тщательно спланированный, решающий удар этого дня. Все льстивые, алчные и унизительные ловушки уже сработали. Пора заканчивать. И где-то там он все еще говорит, а Маклиш кивает, но Верн как будто раздвоился. Верн, который заперт внутри, Верн, который преклоняется перед красотой, Верн, который не представляет, чего хочет и как это получить, мягкотелый Верн появился в самое неподходящее время, чтобы отвлечь внимание Верна, которому сейчас следует со всей возможной твердостью довести дело до предопределенного финала. Из кокона вместе с ним обычным вылез этот, который только и хочет, что глазеть. Открыть рот и таращить глаза. Который не хочет произносить слова, придуманные убедительным толстым человеком в голубом костюме. Которого, по правде говоря, возмущает эта мелкая грязная схема. Тем временем тот Верн, который так упорно трудился, начинает ощущать пустоту. Силы иссякают, энергия испаряется. Финальный аккорд его пламенного выступления становится водянистым. Где убедительность? Где азарт, которым он должен заразить Маклиша? Дезертирован. Растерянно медлит при виде дивы на другом конце зала, которой только что подали консоме[2 - Consommе (фр.) – блюдо французской ресторанной кухни, представляющее собой концентрированный прозрачный бульон из мяса и дичи.].
– Что я хотел бы одолжить, так это твое имя, – говорит он. – Люди тебя знают, и я хочу использовать его, чтобы повысить авторитет фирмы, добавить немножко шика, пока я буду ее поднимать. Если ты позволишь мне это сделать, я возьму тебя в долю. И со временем это может принести тебе немало денег. Когда я дойду до небоскребов… – Даже несмотря на эту полушутку в конце, это все равно будет самая неубедительная попытка заключить сделку в истории. Ни один дурак не поведется на такое. Без шансов, Верн. Без шансов. Его блуждающий взгляд скользит мимо Маклиша. Настолько очевидно мимо, что Маклиш не может этого не заметить.
– Твою мать, – выдыхает Верн, скорее, от отчаяния, нежели от восхищения.
Маклиш оборачивается, чтобы посмотреть, что же такое привлекло его внимание, но видит лишь худощавую темноволосую женщину лет сорока, судя по всему, иностранку. Повернувшись, он видит, что Верн закрыл лицо рукой и смотрит на мир сквозь щели между толстыми розовыми пальцами.
– Что такое? – спрашивает Маклиш, почему-то решивший понизить голос до церковного шепота.
– Я же говорил, что сюда заходят известные люди, – очень тихо произносит Верн. – Вот как раз одна из них. Мария Каллас.
– Простите, но я не знаю, кто это.
– Она певица. Она… Как бы объяснить…
Он мог бы сказать: «Ее голосовые связки, как ноги Бобби Чарльтона[3 - Сэр Роберт Чарльтон (р. 1937) – английский футболист, чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель «Золотого мяча».]» или что-нибудь в этом роде, что-нибудь меткое и смешное, чтобы Маклишу было понятнее. Но ему не хочется. Не хочется смешивать эти два мира, не хочется возводить даже шуточный мостик между тем, что он чувствует, когда поет Каллас, и тем, что он сегодня делает. Они несочетаемы. Он не хочет их сочетать.
– Она потрясающая, – неубедительно бормочет Верн.
– Так вы фанат? – спрашивает Маклиш. Мальчишка улыбается. Без насмешки, доброжелательно. Ободрительно. Верну приходит мысль, что Маклишу, должно быть, доводилось наблюдать, как незнакомые люди теряли дар речи и смущались, когда встречали его самого. – Знаете что? Я думаю, вам стоит пойти и поздороваться. Идите, это же такая возможность! Она не будет против.
– Нет.
– Да идите же! – уговаривает он.
– Нет.
Маклиш шутливо вскидывает руки, с видом одновременно снисходительным и озадаченным.
– Дело ваше, дело ваше. Никто вас не заставляет.
Он смотрит на свои массивные стальные часы.
– Верн, мне пора идти. Так вам нужно только мое имя? Никаких денег?
– Ни пенса.
– И вы не будете, как этот Ракман или как его там? Ничего сомнительного?
– Нет.
– Тогда ладно. Думаю, я ничего не теряю.
– Великолепно, – говорит Верн. – Это… великолепно. Тогда нужно подписать кое-какие бумаги.
– Оки-доки, – отвечает Маклиш. – Ручка есть?
У Верна есть ручка. Он передает ее Маклишу, и тот послушно подписывает здесь, здесь и вот здесь, не глядя, точно как Верн и должен был подтолкнуть его сделать, если бы не был так ослаблен. Так, совершенно не обратив внимания на то, что написано на третьей странице, Маклиш подписывает ипотечное поручительство.
– Ну вот! – говорит Маклиш. – Будем надеяться, что вы спасете меня от железной дороги. Было приятно, Верн.
Верн оплачивает счет, и теперь Маклиш возглавляет шествие вверх по лестнице, мимо снующих туда-сюда лакеев, через таинственный портал богачей обратно к слепящему свету лондонского дня. Верн не оборачивается взглянуть на мисс Каллас. Он отдает последний фунт, чтобы посадить Маклиша на такси. Взмах рукой.
Затем он бредет к автобусной остановке. Он очень устал. У него осталось шесть пенсов на автобус до Бексфорда. Ехать целую вечность, но где-то в районе Ватерлоу до него начинает доходить, что его план сработал. Еще утром он не был никаким застройщиком. Но не теперь. Он перестает дрожать. На Элефант энд Касл[4 - Элефант энд Касл – район в южном Лондоне, где находится крупнейшая лондонская дорожная развязка. Район был назван в честь паба, который до сих пор располагается на одном из перекрестков. В 1960-х в рамках послевоенной реконструкции район был значительно перестроен.] в автобус врывается толпа школьников. Мальчишки устремляются на второй этаж, к месту, где сидит Верн, но, наткнувшись на взгляд, предназначенный для спидбольной груши, отступают. Где-то на полпути по Уолуорт-роуд он начинает насвистывать мелодии из оперы «Тоска». Тихо и не попадая в ноты.
Бен
Туман над кочковатым полем рассеялся. Теперь вместо неторопливых белых завихрений, из которых вырастают голые деревья, Бен видит из высокого окна палаты неровные круги опавших листьев, как желтые нижние юбки, которые сбросило лето. Последние оставшиеся листочки размером не больше полупенса или свечного пламени льнут к веточкам под порывами ветра. «Ларгактил» много на что влияет, но только не на его зрение. Он за сотню ярдов видит этих трепещущих протестующих так же ясно, как мог бы разглядеть отдельные песчинки в горстке прибрежного песка. (Говорят, что они все одинаковые, но на самом деле нет. Там попадаются оранжевые и шоколадно-коричневые, а иногда мелькают бутылочно-зеленые.) Он бы остался у окна посмотреть, как ветер сорвет хотя бы один – потратит полпенса, задует свечу, закрутит желтую крапинку и отправит на землю, где в тени голого дерева она станет неразличимой.
Он постоянно отказывается от предложений Сида-почтальона поиграть в пинг-понг.
– Нет, с-с-с-с-спасибо, – говорит он каждый раз, отпуская левую руку, которую придерживает правой, чтобы показать, как та дрожит. – С-с-слишком т-т-тр-трясусь.
И слишком м-м-м-медленный. Как-то раз они попробовали. Сидни скакал с одной стороны стола, а он на своей половине силился дотянуться до мячика трясущейся ракеткой со скоростью айсберга с болезнью Паркинсона. Это сложно было назвать удачной попыткой.
– Ах, точно! – отвечает Сид, каждый раз удивляясь, как в первый. – Точно, точно, точно… Есть сигаретка, братишка?
– М-м, – тянет Бен. Есть. Он запускает два пальца в нагрудный карман и ухватывает помятую сигарету «Голд Лиф». – В-в-вот, д-д-держи.
– Спасибо! – говорит Сид. – Ты настоящий друг. – Он сует сигарету в рот, передумывает, кладет ее за ухо, передумывает, засовывает в рот, передумывает, кладет сигарету на стол у окна, за которым сидит Бен. Отходит к мистеру Ниву, в надежде уломать его на партию в пинг-понг.
Бен наклоняется, чтобы взять лежащую перед ним сигарету, тянет в ее сторону терпеливую руку, словно трясущийся зонд, и чем дальше удаляется его ладонь, тем сильнее кажется, что она не принадлежит его телу. Но с помощью некоторых корректировок и поправок он дотягивается до сигареты и захватывает ее пальцами. Возвращает руку и роняет сигарету в карман, до следующего раза, когда Сид о ней попросит.
Много ли времени это отнимает? Сложно сказать. Едва ли у него теперь будет меньше времени, чтобы разглядывать деревья. Не меньше, чем когда его созерцание прерывает мистер Нив, похлопывая его по коленке и раскладывая на столе свои документы. Вечно он все разжевывает, этот мистер Нив, напоминает со снисходительной улыбочкой, что он-то образованный человек, дипломированный юрист и, разумеется, понимает побольше, чем автобусный кондуктор типа Бена. «Без обид? Я ничего плохого не имел в виду, друг мой». Бену и правда не удается уследить за тем, как именно мистер Нив связывает между собой письмо от его жены и ответ директора лечебницы на его обращение в рамках нового закона о защите психического здоровья[5 - Закон о защите психического здоровья 1959 года стал первым подобным законом в Великобритании. Он был призван определить случаи, в которых лечение должно быть принудительным. Во всех остальных случаях лечение должно было стать добровольным и по возможности осуществляться без помещения пациентов в лечебницы.]. Не вполне понимает он, и зачем мистер Нив раскладывает по кругу постоянно меняющийся набор бумажек, включающий библиотечные штрафы, старые обеденные меню с доски объявлений и наградные дипломы клуба садоводов. Но, по правде говоря, Бен не очень-то и старается. Мистеру Ниву всего-то и надо, чтобы ты кивал и периодически хмурил брови, и можешь дальше глядеть на свои деревья.
«Ларгактил» сгущает время. С одной стороны, все как будто замедляется, а с другой – огромные пласты времени протекают с такой неразличимой одинаковостью, что однажды ты выглядываешь в окно и выясняется, что лето вдруг закончилось. Бен не знает, сколько времени он здесь провел. Много дней, это уж точно. И он не помнит, чтобы ему доводилось видеть опадающие листья. Но думать об этом сложно, потому что под «Ларгактилом» вообще сложно думать. Он обволакивает мысли, заглушает, укутывает их, точно мебель в пустой комнате. Они все еще там, под покровом, но их грани и очертания скрыты, а добраться до них можно, разве что приложив усилия.
Да и зачем это может понадобиться? Ведь в одном из этих тяжелых, бесформенных коконов сидит Проблема. Она никуда не делась. Когда Бен не спит, он все еще слышит ее приглушенное, но, к счастью, неразборчивое бормотание. Бен уверен, что, если ее выпустить, она тут же снова превратится в чудовищный, беспрерывный круговорот мыслей, захвативших его разум перед тем, как он попал сюда. Гнусные звенья гнусной цепочки, снова и снова без остановки бегущие по кругу. И от них никуда не деться, потому что куда можно деться от собственной головы? От них не отвернуться, потому что как можно повернуться спиной к чему-то настолько пугающему? Опасно поворачиваться спиной к темноте, которая следует за тобой по дороге. Только ты и есть дорога, ты и есть темнота. Это сложно. Лучше об этом не думать. И не присматриваться, иначе бормотание станет громче. Назови что-то по имени, и оно явится. Так что не упоминай, не смотри, не думай. И «Ларгактил» в этом помогает.
Бену не все здесь по душе. Ему не нравится спать в общей комнате, где в кровати слева тревожно мяукает мистер Нив, а из соседней палаты периодически прибегает Дерек. В поисках чего-то, что одолжил мистер Нив, он с грохотом опрокидывает все его заимствования на пол.
– Верни мне мой шампунь, сукин ты сын!
– Нет-нет, убери руки! Да как ты… Он мне нужен. Он мне нужен! Примроуз, они никак не оставят меня в покое!
На кровати справа яростно дышит мистер Коркоран. Он никогда не бывает не зол, даже во сне. Мистер Нив никогда у него ничего не одалживает. Мистера Коркорана перевели к ним из Бродмура, медбрат Фредерикс читал о нем в «Дэйли Миррор». Его постоянно накачивают, днем и ночью. Под щетиной на его лице вяло перекатываются красновато-синие волны ярости.
Но оно того стоит. Все это определенно стоит того, чтобы удержать Проблему в ее коконе. «Ларгактил» – это своего рода благословение, за которое Бен неизменно благодарен. Нетвердым шагом он ходит в комнату трудотерапии и плетет там корзинки из рафии и неустойчивые горшки. Он ест обеденную свинину с печеной фасолью, после которых дают бланманже. Когда день выдается солнечный, он выходит на улицу. Он старается не думать о дальних палатах, которые видит по пути к выходу, где заблудшие души в слишком коротких пижамах дрейфуют в пучине безумия глубиной в несколько десятилетий – «Ларгактил» ему в этом помогает. Он сидит у окна и смотрит на деревья.
Смотри: каждое стоит в неровном круге опавших листьев, как в желтых нижних юбках, которые сбросило лето.
Но есть вещи, которых он не может избежать.
– Пошли, Бен. Обход, – говорит брат Фредерикс, крупный, добродушный, усталый мужчина, который раздает всем свитеры, связанные женой, и который едва ли хоть раз поднимал на кого-то руку без крайней на то нужды.
– М-м?
Во время обходов врачи по большей части просто обсуждают с медбратьями и медсестрами, что прописали тому или иному пациенту и как те себя ведут. Сами пациенты участвуют лишь изредка.
– Тебя ждут в третьем кабинете.
– М-м?
– Я не знаю зачем. Давай, парень, поднимайся. Топ-топ.
Третий кабинет располагается сразу за комнатой трудотерапии. Добравшись туда, Бен замечает, что внутри полно людей, и его медленно охватывает беспокойство. Стулья в кабинете расставлены полукругом, а в центре рядом с пустым местом, оживленно улыбаясь, сидит доктор Армстронг. В теории она его лечащий врач, но он едва ли хоть раз разговаривал с ней. Остальные места заняты студентами-медиками – безошибочно узнаваемый строй белохалатных мальчиков (и нескольких девочек) с блокнотами и шариковыми ручками. На вид им столько же лет, сколько и Бену, но они разглядывают его так, точно он представитель другого вида. Единственное обнадеживающее лицо в комнате принадлежит медбрату Фредериксу, который входит следом за Беном и, обнаружив, что для него кресло не приготовили, облокачивается на дверь. На фоне армированного стеклянного окошка его силуэт напоминает диаграмму.
– Итак, – радостно начинает доктор Армстронг, пока Бен шаркает по линолеуму. – Это мистер Холкомб. Мистер Холкомб находится здесь добровольно. Двадцать два года, после школы работал посудомойщиком, а потом устроился автобусным кондуктором. Шесть, или нет, семь месяцев назад он пришел к своему терапевту в состоянии крайнего возбуждения и попросил, цитирую: «усыпить его». Депрессии в анамнезе нет, но пациент жаловался на навязчивые мысли, возможно, переходящие в слуховые галлюцинации. Диагноз? – спрашивает она аудиторию.
Его используют как учебное пособие.
– Шизофрения, – уверенно отвечает парнишка с бакенбардами.
– Верно, – говорит доктор Армстронг. – Но с обычными оговорками, да? Нельзя установить масштаб заболевания или точно классифицировать определенные состояния.
Все строчат в блокнотах.
– Поступил восьмого июня 1964 года. Начальная дозировка хлорпромазина – четыреста миллиграммов. Торговое название?
– «Ларгактил», – отвечает девушка с каштановой косой.
– Или «Торазил». Затем дозировку увеличили до пятисот миллиграммов, так как возбужденное состояние сохранялось, а потом выровняли до трехсот миллиграммов в день. Поведение?
Последний вопрос обращен к медбрату Фредериксу.
– С Беном вообще никаких проблем нет, – говорит он. – Золото, а не пациент.
– Рада слышать, – отвечает доктор. – Как вы себя чувствуете, мистер Холкомб?
– Х-х-хо-хорошо, – выдавливает из себя Бен.
– Превосходно, – говорит доктор. – Но вопрос, леди и джентльмены, что вы можете заметить? Вы видели, как мистер Холкомб ходит, слышали, как он разговаривает, видите, как он сидит. Есть какие-нибудь соображения?
Они все таращатся на него. Девушка с косой постукивает кончиком ручки по зубам. Мелкий, щуплый студент-индус – опрятный, смуглый, бровастый, похожий на воробья, которого легко можно спрятать в карман, – откашливается и произносит:
– Тик правой руки. Достаточно выраженный.
– Верно, – говорит доктор Армстронг, и после этого все остальные студенты, словно получив одобрение, тоже начинают высказываться.
– Нарушение координации?
– Паркинсонизм?
– Он постоянно высовывает язык?
– Частое моргание?
– П-п-по…
Это уже Бен, пытается произнести «поздняя дискинезия». Он видел эти слова в своей медицинской карте, когда ее оставили лежать на сестринском посту. Он не знает, что это значит, и знает, что ему не положено вмешиваться, но ему так хочется их всех удивить. Но он не может выговорить слова, и все они слышат лишь очередной симптом.
– Затрудненная речь! – победоносно восклицает девушка-косичка.
– Угу, – соглашается доктор Армстронг. – И если бы мы не знали историю болезни мистера Холкомба, из этих симптомов можно было бы заключить, что это…
– Церебральный паралич, – высказывает догадку студент-индус.
– Да, или болезнь Хантингтона. Мы бы проверили оба эти варианта, явись мистер Холкомб в таком состоянии на первичный прием. Но я хочу, чтобы вы все обратили на это внимание, – физически у мистера Холкомба все в порядке. Каждый из этих симптомов является побочным эффектом нейролептиков. Мистер Холкомб здоровый молодой человек. А это все из-за хлорпромазина. Так, мистер Патель?
Студент-индус поднимает руку.
– В таком случае, думаю, ему не повезло. Эти побочные эффекты обычно проявляются гораздо позже и чаще всего у пожилых пациентов.
– Верно. Такие реакции наблюдаются лишь у тридцати процентов, а мистеру Холкомбу не повезло вдвойне, потому что у него эти реакции проявляются очень сильно. – Она поднимает палец. – Запомните, пожалуйста, это совершенно обычная вещь. Редкие – не значит не случающиеся. Такие реакции постоянно проявляются у небольшого количества людей. И мы, как медики, неизбежно сталкиваемся с такими пациентами и должны быть готовы им помочь.
Со всех сторон ручки царапают страницы блокнотов.
– Итак, как мы можем помочь мистеру Холкомбу? Тик, двигательные и речевые затруднения. Как я уже сказала, у него не было никаких нарушений. Не считая, конечно, шизофрении. Или, если точнее, у него пока не было никаких нарушений. Кто скажет почему?
– Потому что эти симптомы могут стать постоянными.
– Спасибо, мистер Патель. И как же нам следует поступить с мистером Холкомбом? Есть идеи?
– Можно заменить препарат.
– На какой, например, мисс Эдвардс?
Девушка-косичка опускает глаза. Она не знает.
– Да, – говорит доктор Армстронг. – Мы могли бы перевести его на «Флуфеназин» или «Ацепромазин», но они относятся к той же группе лекарств и вызывают те же побочные эффекты, к которым мистер Холкомб оказался так восприимчив. Еще варианты?
Патель вопросительно откашливается, но высказываться больше никто не хочет.
– Нужно резко снизить дозировку препарата, – говорит он.
– Н-н! – возражает Бен. – Н-н-н!
Звук, который он издает, больше похож на стон, чем на слово. Доктор бросает на него хмурый взгляд, но, похлопав его по руке, продолжает.
– Я тоже так думаю, – говорит она. – Не очень резко, но оперативно. Для начала надо сильно снизить поддерживающую дозу и, возможно, добавить стандартные седативные средства, если вдруг появятся какие-то признаки психоза. У вас ведь было пару хороших, спокойных месяцев, да, мистер Холкомб? – дружелюбно говорит она, повысив голос, точно обращается к глухому. – Пора возвращаться домой. Вам не место здесь.
Бен обнаруживает, что под «Ларгактилом» можно чувствовать страх. И злость. Если эмоции достаточно сильны, они начинают, как ветер, носиться по комнате с задрапированной мебелью, снося ее и вздымая наброшенные простыни, а сердце начинает неистово стучать. Он спихивает руку доктора Армстронг и поднимается со стула. Она бы так не улыбалась, если бы знала, что ему шепнула Проблема.
– Нет! – хрипло ревет он. Язык во рту мешается, точно застрявший в горле ком. – Не-е-ет!
Студенты отводят от него взгляды. Армстронг вздыхает. Она не так планировала закончить свою маленькую презентацию.
– Фредерикс? – обращается она к медбрату, который уверенно выступает вперед и кладет широкую руку Бену на загривок.
– Не надо, сынок, не надо, – говорит он. – Теперь успокойся. Успокойся.
– Пожалуй, стоит дать ему следующую дозу сейчас и начать уменьшать завтра, – распоряжается она. Фредерикс кивает и за считаные секунды выводит Бена за дверь.
– Чесслово! – говорит медбрат. – На тебя это непохоже.
Бен привык принимать «Ларгактил» в виде противного сиропа в мерном стаканчике. Но в этот раз препарат вводят внутривенно, и от того места, где входит игла, поразительно быстро разливается покой, глухое оцепенение, которое замораживает дребезжащее содержимое его головы и стирает, пусть и на время, будущие кошмары – всё, с чем ему позже придется справляться самому.
– Посиди-ка в кресле, а я принесу тебе чашечку чая, – говорит медбрат Фредерикс.
Смотри: каждое дерево стоит в неровном круге опавших листьев, как в желтой нижней юбке, которую сбросило лето.
Джо
Крыло клуба «Пеликан». Так называемый служебный вход для артистов располагается в переулке Сохо, пропитанном запахами мочи и не поддающихся определению гниющих отходов, зажатом между итальянским магазинчиком, где продают спагетти в длинных синих бумажных пакетах, и дверью с кучей звонков, в которую стыдливо проскальзывают мужчины, стараясь не встретиться ни с кем взглядом. Вход ведет вниз по лестнице в лабиринт маленьких закулисных помещений, где по полу змеятся связки черных кабелей. Джо переодевается в костюм для выступления «Хулиганок» в узком пространстве между гримеркой и коридором: с одной стороны стоят зеркала в обрамлении ярких лампочек, а с другой – не оставляя ни единого шанса на уединение, снуют люди. А крыло – просто еще один закуток: Г-образное пространство, приткнувшееся рядом со сценой, где артисты ждут своего выхода, заставленное ненужными усилителями и коробками с флаерами прошедших и грядущих концертов. Часть крыши в крыле сделана из тех же стеклянных зеленых блоков, что и над сценой. Сквозь них днем с тротуара у входа в «Пеликан» струится водянистый аквариумный свет. А если летом прийти в «Пеликан» пораньше, падающий с потолка свет будет переливаться на волосах и плечах, как капли дождя из драгоценных камней.
Но сейчас там темно, и, приткнувшись в углу Г-образного крыла, Джо видит сцену такой, какой та выглядит во время вечерних выступлений. Из светильников, закрепленных над просцениумом, в то место, где ты находишься, бьют столпы яркого света. Не считая танцующих ног в первом ряду в узких штанах и обтягивающих юбках или всполохов тлеющих сигарет в руках, зал со сцены не видно. Можно лишь услышать его ухающее, ликующее, вздыхающее, покачивающееся присутствие сразу за пределами твоего светового шатра.
Сейчас в световом шатре Вилли Ривз из Чикаго. Стучит ногой по деревянному блоку, чтобы задать ритм, и прыгает пальцами по грифу гитары с металлическими струнами, извлекая звуки одновременно и тяжеловесные, и легкие. Тяжеловесные, как что-то неотвратимое, как блюзовый путь домой через все препятствия, как уверенность, с которой защелкивается сейфовый замок. Легкие, как что-то игривое, как танцующие пальцы, то приближающиеся, то отдаляющиеся от неизбежного, словно в их распоряжении все время мира, а железобетонный финал может оказаться лишь легким толчком. «Я едва ли… – поет мистер Ривз. – Скажи мне, детка». За кулисами он мелкий похотливый извращенец цвета грецкого ореха, воняющий виски и вечно путающийся под ногами. Но на сцене, где демократия тесного пространства больше не действует и все распадаются на аристократов и простолюдинов, хедлайнеров и бэк-музыкантов, там он, конечно, – аристократ. Над той частью незримой аудитории, которая знает, зачем пришла, витает благоговейная, внимательная тишина, обрамленная нетерпеливым бормотанием другой части зрителей. В этом году настоящий чикагский блюз не пользуется таким спросом, как обычно в Лондоне. Теперь его можно послушать в исполнении смазливых белых бой-бэндов, а не черных стариков. Теперь блюз моднее, привлекательнее и – растворенный в рок-н-ролле – куда танцевальнее. Большая часть зрителей стремится стать частью представления.
Но Джо из тех, кто благоговейно молчит. Она слушает, навострив уши, жаждая разгадать секрет Ривза, узнать, как он это делает. Она столько раз говорила мне, каждое утро… Ей бы сейчас вернуться в облако лака для волос и поправлять черный енотовый макияж вместе с другими девочками. Она ведь новенькая, ее взяли на место забеременевшей девушки, и ей бы надо болтать с Вив и Лиззи, цементируя прическу. Но такой шанс никак нельзя упустить. Аккорды Ривза звучат у нее в голове свинцово-серым и черно-коричневым, как шоколад «Борнвилл». Она все еще слышит звуки, как цвета, хоть теперь и знает, что большинство людей так не может. Ее пальцы порхают в воздухе на уровне талии.
Кто-то толкает ее. Потеряв концентрацию, она оборачивается и видит – кого бы вы думали – смазливых белых гитаристов бойз-бэнда, который должен выступать следующим, высунувшихся из-за угла, чтобы поглядеть на Вилли Ривза. Они выглядят несколько разношерстно (замшевые куртки, рубашки-поло, джинсы и ремни с массивными пряжками), словно они сами не определились, какой стиль выбрать, ведь мягкий и задорный уже присвоили «Битлз», а грубый и жесткий застолбили «Роллинг Стоунз». Их группа называется The Blue Birds, если ей не изменяет память. Немного жалкое название само по себе. «Синие птицы» так старательно пытались дотянуться до The Yardbirds[6 - TheYardbirds (англ. птенцы) – британская рок-группа, основанная в 1963 году.], но в итоге дотянулись только до Уолта Диснея, который отправил их кружиться и чирикать над головой Белоснежки. «Да ладно, – думает Джо. – «Битлз» выбрали худшее название за всю историю музыки, но кого теперь это волнует?» Она сама почти не обращает на него внимания.
Я рискнул. Разыграл свои карты.
Стоит ли говорить, что ее саму никто не удостаивает даже того придирчивого взгляда, которым она окидывает «Синих птиц». Она знает, что прекрасно выглядит сегодня. «Хулиганки» наряжаются под Онор Блэкман из «Мстителей»[7 - Британский шпионский телесериал, выходивший в эфир с 1961 по 1969 год.]: узкие черные свитера, узкие черные брюки и ботинки на высоком каблуке. Стоя втроем у микрофона и покачиваясь в такт, они выглядят соблазнительно и феерично. Но для этих перешептывающихся в оцепенении мальчиков она – мебель. Они с головой погружены в серьезное дело – сугубо мужское музыкальное любование. Один из них, тот что с бакенбардами, даже не заметив, оттеснил ее к составленным один на другой усилителям. Другой, с тоненькими жабьими губами, загородил ей обзор. Тощий и носатый наступил ей на ногу, спутав с кабелем. Ее, даже не придавая тому особого значения, отпихнули за стену мужских тел.
– Потрясающе, – на выдохе произносят Бакенбарды. – Просто охренительно.
– Слышишь, вот этот типа удар на шестом аккорде?
– Как на пластинке.
– Нам тоже надо так научиться.
– Ага, тебе надо так научиться.
– И научусь, – говорят Бакенбарды. – Научусь. Он так быстро это делает, скажите? Вы гляньте. Я не могу даже… Я просто не могу. М-н-да-а-а…
– Что за слово «м-н-да»?
– Что за слово?
– Здесь же дамы, – говорит Жабий Рот, не сводя взгляда с Ривза.
– Ты свинья.
– Ты грязная свинья, – скандируют они, приглушенно пародируя голос персонажа из телепередачи[8 - The Goon Show – юмористическая передача BBC, выходившая в 1950-х. Программа оказала заметное влияние на развитие британской и американской комедии. В шоу у одного из персонажей Питера Селлерса была сквозная фраза: «Ты грязная, вонючая свинья! Ты меня умертвил!»].
«Да заткнитесь уже», – думает Джо.
Очевидно, что в той холостяцкой дыре, где обитают эти идиоты, устраиваются ритуалы коленопреклоненного прослушивания песен Ривза. Сине-белое яблоко «Чесс Рекордз» крутится на проигрывателе, игла погружается в желоб на три-четыре такта, а затем поднимается снова. Пальцы на грифе пытаются выудить хоть что-нибудь, хоть отдаленно похожий звук, но оригинальная мелодия ускользает из памяти и в итоге теряется совсем. Еще раз. Разгневанные соседи стучат из-за стены.
– Эй, сейчас будет «Идущие на север».
– Да-а…
– Обожаю эту песню.
– Ага, но не можешь ее сыграть.
– Могу. Практически всю, не считая…
– Вот-вот, начинается…
– Да-а…
– Вот! Что это было? Вот этот пятый аккорд? Печальный такой. Я смотрю прямо на его пальцы, и все равно не понимаю. Как будто В7, но не В7. Что это?
Она понимает, что лучше не стоит. Она знает по опыту, что даже малейшее замечание по теме, которую мужчины считают исключительно своей вотчиной, не приведет ни к чему хорошему. Быть может, если бы она проводила в компании мужчин больше времени, такие порывы давно бы вытравились из нее, но годы ухода за матерью на пару с тетушкой Кей, пока Вэл шлялась где-то с гребаным Невиллом и его предшественниками, подарили ей множество одиноких вечеров. Она возвращалась домой после смены в обувном магазине, принимала пост, делала чай и уговаривала мать его выпить, сидела рядом с ней, отмеряя лекарства, и еще лекарства, и еще. А потом в одиночестве играла на пианино в гостиной причудливый набор мелодий по довоенным нотам отца или наверху вытаскивала из конвертов сокровища фонотеки на Харпер-стрит, погружала собственную иглу в черное море винила и сама предпринимала попытки воспроизвести звучащие мелодии. «Ты как старая дева», – говорила Вэл. (Спасибо, Вэл.) По меркам Вэл она и в самом деле запоздала с погружением в мужской мир лет на шесть. (И кто же в этом виноват, Вэл? Кто бросил на меня все дела, а себе забрал потеху?) Но время, проведенное в одиночестве, учит тебя доверять собственным суждениям, коль скоро ничьих других поблизости нет. Преимущество ли это? Скорее, нет. Во всех журналах пишут, что нет; все жены, с которыми ей доводилось общаться, говорят «нет»; гребаная Вэл, раздавая пространные советы, говорит «нет». Нельзя показывать мужчинам, что ты знаешь что-то лучше них. Даже если это и так. Особенно если это так.
Но у нее болит нога. И мамы уже нет. И вообще она и так слишком долго терпела.
– Это открытый А, а третья струна зажата на седьмом ладу, – говорит она.
Повисает почти неуловимая пауза, и они продолжают разговор, словно она вообще не раскрывала рта.
– Просто загадка, – говорят Бакенбарды. – Магия блюза, вот что это.
– Блюзовый бермудский треугольник.
– Потерянный город блюза.
– Блюзовая эниг-ма, – говорит Жабий Рот голосом старомодного новостного диктора.
– Можно у него самого спросить, когда он закончит? – говорит Тощий.
– Не-е.
Они снова замолкают. Идущие на север, на северную сторону. Красные и белые.
– И что вот это значит, тоже не понимаю.
– А может, – говорят Бакенбарды. – Может… – У него такой вид, точно он вот-вот разразится каким-то открытием.
– Что?
– Может, это вообще не В? Может это какая-то комбинация аккордов?
Джо в темноте закатывает глаза, но, к ее удивлению, Жабий Рот начинает хихикать.
– Да ты гений! Только дошло?
Он неуклюже отодвигается в сторону, чтобы повернуться и взглянуть на Джо.
– И откуда же ты это знаешь? – спрашивает он. В отличие от остальных, в чьих голосах отчетливо слышится лондонская гимназия где-нибудь в Хендоне, Илинге или Сиденхеме, где, несмотря на общую демографическую картину города, главенствует средний класс, в его голосе есть какая-то нездешняя теплота. Западная теплота, из мест гораздо западнее, чем Илинг. Он слегка картавит. Возможно, он из Бристоля. Он на голову выше нее. У него лицо дерзкого выскочки, но сейчас он не скалится, а заинтересованно наклоняется в ее сторону.
– Подобрала, – отвечает она, пожимая плечами.
– Ты играешь?
– Немного.
– И тебе нравится?
Пожимает плечами.
– Почему? Это ведь не девчачье занятие.
Разумеется, он имеет в виду, что блюз – это мужская музыка. Песни о мужских страданиях, мужском разочаровании и о мужском пьянстве, исполняемые мужчинами нарочито агрессивно, вывернуты наизнанку, так что в самой музыке, даже без слов звучит сокрушенная сила. Конечно, блюз не только об этом, но только это в нем хотят видеть парни. И все же по сравнению с тяжелым бренчанием, которое в этот момент выдает Вилли Ривз, музыка, которую она позже исполнит с Вив и Лиззи, будет звучать подчеркнуто легко, слащаво и по-девчачьи, словно сотканная из сладкой ваты, где все нутро и жилы надежно спрятаны от глаз. Но почему? Почему, если ей нравится одно, она делает другое? У нее есть ответы на этот вопрос, но она точно не поделится ими здесь. А возможно, не поделится нигде. Во-первых, она не понимает, почему ей вообще нужно выбирать. Вилли Ривз, исполняющий «Идущих на север», прекрасен, и «Кристалз»[9 - The Crystals – американская женская вокальная группа из Нью-Йорка, очень популярная в 1960-е годы.], исполняющие «Да-ду-рон-рон», тоже по-своему прекрасны, но, по правде говоря, ни то ни другое ей не нравится, это не та музыка, которую она могла бы исполнять сама. Будет исполнять когда-нибудь. Но есть еще одна, более серьезная причина, кроющаяся в тишине. Связанная с тем, что их дом всегда был самым тихим на улице. Всего лишь двое детей, ни одного мужчины и больничная тишина, становящаяся все глуше и глуше. Она хотела заполнить ее и заполняла, жадно слушая все, что попадалось в руки, упорно учась по ходу дела. Подбирала мелодии снова и снова, зная, что большая часть музыки все равно будет ей недоступна, пока она не сможет заниматься ею с людьми. И так было до тех пор, пока не умерла мать и Джо не увидела объявление о прослушивании в группу. Тогда она решилась.
Пожимает плечами.
Но интерес парня не угас. Он продолжает оглядывать ее сверху вниз и делает пробную попытку положить руку ей на задницу. Она стряхивает ее.
– Отвали, я слушаю.
– В самом деле? – отвечает он с улыбкой.
Но слушает она недолго. Программа Вилли Ривза заканчивается, и ее зовут. Толпа отпихивает «Синих птиц» в сторону, чтобы «Хулиганки» могли выйти на сцену. А это не только три вокалистки. Чтобы вживую добиться спекторовской стены звука[10 - Стена звука – название техники звукозаписи и аранжировки поп- и рок-музыки, разработанной и впервые примененной продюсером и звукоинженером Филом Спектором.], им нужны гитары, ударные и духовые, на которых в качестве одолжения играют знакомые парни из студии, согласившиеся помочь, чтобы посмотреть, смогут ли «Хулиганки» – такие же второразрядные исполнительницы, как и они сами, – выбиться в хедлайнеры. Сегодня здесь никто не озолотится. Деньги, что «Пеликан» платит за выступление, разделят на девятерых. С финансовой точки зрения им куда выгоднее было бы прийти в студию звукозаписи и там оперативно и скромно записать бэк-вокальную партию для мисс Спрингфилд[11 - Дасти Спрингфилд – британская соул, поп и R&B певица, чья карьера охватила четыре десятилетия, достигнув наибольшей популярности в 1960-е и в конце 1980-х годов.]. Но надо ведь попробовать, правда? Надо узнать, есть ли в тебе способность удерживать внимание толпы.
Теперь в световом шатре они. У них есть одна песня, которую они хотели бы сделать синглом, но, поразмыслив, они решают немного разогреть толпу, если смогут. Поэтому они начинают с «Пересмешника». Это их стихия, по крайней мере, для их старой роли цыпочек где-то на подпевках. Басист Брайан гулко и раскатисто вступает, они начинают свое феерическое покачивание бедрами, ноги в зале – единственное, что они могут разглядеть, – нерешительно повторяют движения. Вив неуверенно вступает, Джо и Лиззи ей вторят[12 - Имеется в виду респонсорная техника исполнения (call-and-response), при которой ансамбль заканчивает или повторяет слова за солистом. Эта техника особенно характерна для некоторых музыкальных жанров, например для блюза и спиричуэлов.].
– Пе! Е-е-е!
– Ре! Е-е-е!
– Смеш! Е-е-е!
– Ник! Е-е-е!
Взрываются ударные, а Терри с Найджелом подносят к губам корнеты и высвобождают блистательный хрустящий рев. Ноги в первых рядах начинают отплясывать по-настоящему, бедра «Хулиганок» входят в ритм, и девушки хором поют:
Это пересмешник, народ! Вы слышали?
Вы слышали?
Трубы золотятся. Трубы золотятся, а она, покачивая головой вправо-влево, краешком глаза видит, что крыло опустело, но Жабий Рот все еще стоит там, и она могла бы поклясться, что он слушает. Слушает ее.
T + 35: 1979
Бен
Во всем виноват плакат, говорит он себе. У него был один из тех тихих периодов, когда полотно его мыслей лишь подергивается нервной рябью, как поверхность реки, когда течение поворачивает и серая Темза в этом месте тихонько бурлит, морща водяную гладь. Приемлемо.
Но позавчера, в свой выходной, он ехал на метро, и во время пересадки наткнулся на стену, с которой, чтобы наклеить новые плакаты, содрали верхние, вырвав вместе с ними лоскуты более старых слоев. На него смотрел подземный палимпсест: впалый, запятнанный клеем и плесенью пласт, месиво из прошедших развлечений в тридцати двух подгнивших кричащих оттенках, в толстых краях которого вся древность обычая облеплять подземные тоннели бумагой. И там, справа, под оторванным треугольным лоскутом, виднеется алая, рубленая буква Е с алым рубленым восклицательным знаком.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68393188) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Евангелие от Матфея 6:3: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне».
2
Consommе (фр.) – блюдо французской ресторанной кухни, представляющее собой концентрированный прозрачный бульон из мяса и дичи.
3
Сэр Роберт Чарльтон (р. 1937) – английский футболист, чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель «Золотого мяча».
4
Элефант энд Касл – район в южном Лондоне, где находится крупнейшая лондонская дорожная развязка. Район был назван в честь паба, который до сих пор располагается на одном из перекрестков. В 1960-х в рамках послевоенной реконструкции район был значительно перестроен.
5
Закон о защите психического здоровья 1959 года стал первым подобным законом в Великобритании. Он был призван определить случаи, в которых лечение должно быть принудительным. Во всех остальных случаях лечение должно было стать добровольным и по возможности осуществляться без помещения пациентов в лечебницы.
6
TheYardbirds (англ. птенцы) – британская рок-группа, основанная в 1963 году.
7
Британский шпионский телесериал, выходивший в эфир с 1961 по 1969 год.
8
The Goon Show – юмористическая передача BBC, выходившая в 1950-х. Программа оказала заметное влияние на развитие британской и американской комедии. В шоу у одного из персонажей Питера Селлерса была сквозная фраза: «Ты грязная, вонючая свинья! Ты меня умертвил!»
9
The Crystals – американская женская вокальная группа из Нью-Йорка, очень популярная в 1960-е годы.
10
Стена звука – название техники звукозаписи и аранжировки поп- и рок-музыки, разработанной и впервые примененной продюсером и звукоинженером Филом Спектором.
11
Дасти Спрингфилд – британская соул, поп и R&B певица, чья карьера охватила четыре десятилетия, достигнув наибольшей популярности в 1960-е и в конце 1980-х годов.
12
Имеется в виду респонсорная техника исполнения (call-and-response), при которой ансамбль заканчивает или повторяет слова за солистом. Эта техника особенно характерна для некоторых музыкальных жанров, например для блюза и спиричуэлов.
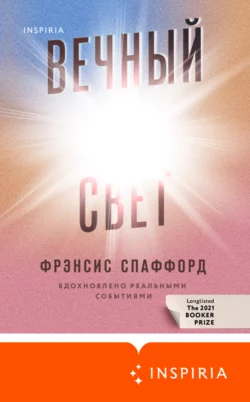
Фрэнсис Спаффорд
Тип: электронная книга
Жанр: Современная зарубежная литература
Язык: на русском языке
Издательство: Эксмо
Дата публикации: 21.05.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: «Своего рода сияющая доброта, ощущение, что мир лучше, если в нем есть такие книги» Financial Times