Секреты Достоевского. Чтение против течения
Секреты Достоевского. Чтение против течения
Кэрол Аполлонио
«Современная западная русистика» / «Contemporary Western Rusistika»
Для подлинного постижения глубинного значения текста требуется не просто поверхностное чтение, требуется «прыжок веры», предполагающий, что в тексте содержится нечто большее, чем просто слова и факты. Исследование американского литературоведа К. Аполлонио, предлагая особый способ чтения – чтение против течения, сквозь факты, – обращается к таким темам, как вопросы любви и денег в «Игроке», носители демонического начала в «Бесах» и стихийной силы в «Братьях Карамазовых».
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Кэрол Аполлонио
Секреты Достоевского. Чтение против течения
Мэгги и Нику
Carol Apollonio
Dostoevsky’s Secrets
Reading Against The Grain
Northwestern University Press / Evanston, Illinois
2009
Перевод с английского Евгения Цыпина
© Carol Apollonio, text, 2009
© Northwestern University Press, 2009
© E. А. Цыпин, перевод с английского, 2020 © Оформление и макет
ООО «БиблиоРоссика», 2020
Слова благодарности
Великие писатели наполняют мир своим духом. Задача критики состоит в том, чтобы поддерживать в нем жизнь. Лучший критический анализ – тот, который стремится найти точку равновесия между свежестью нового взгляда и мудростью сложившихся научных представлений. Мне посчастливилось читать и обсуждать произведения Достоевского как с блестящими студентами, так и с мудрыми исследователями и друзьями. На создание этой книги ушло несколько лет. Каждое из составляющих ее эссе – это упражнение в герменевтике, попытка осмыслить литературное произведение, не навредив его духу. Отдельные главы этой книги возникали в виде докладов, прочитанных на научных конференциях, где их обогащали ценные комментарии и критика уважаемых коллег. Разговоры со студентами и постоянное перечитывание произведений Достоевского не позволили этим интерпретациям окостенеть и превратиться в незыблемую догму. Они – переменчивые плоды непрерывного диалога.
Я благодарна многим замечательным людям. Кэрил Эмерсон прочла всю рукопись и дала к ней основательные, всесторонние и исключительно ценные замечания. Помимо неоценимой помощи и консультаций, Дебора Мартинсен с неослабевающей энергией не только поддерживала мои идеи и откликалась на них, но и оспаривала, обуздывая те из них, в которых видела опасность. Эми Миллер нянчилась с моим проектом с самого начала, еще с тех далеких времен, когда я даже не понимала, что он будет посвящен Достоевскому. Несколько коллег читали отдельные главы по мере их написания и делали замечания к ним. Особенно ценную поддержку при этом оказали Робин Фейер Миллер и Донна Тассин Орвин. Сюзанн Фуссо, Пол Дебрецени, Денис Мицкевич, Карен Степанян, Ник Флэт и Малколм Джонс щедро делились со мной своим временем и идеями. Ольга Меерсон, Нина Перлина, Орест Пелех, Джулиан Конноли, Наталья Кононенко, Кент Ригсби, Ричард Пис, Татьяна Бузина-Ковалевская, Татьяна Касаткина, Томас Лахусен и Дженнифер Патико помогли мне ценными комментариями. Кристин Воробец, Лиза Кнапп, Мелисса Энн Джонс, Нариман Скаликов и Энн Хруска поделились со мной своими неопубликованными работами. Я особенно благодарна Марсии Моррис, Кэти Попкин, Питеру Роллбергу, Стивену Бэру, Алексу Огдену, Джуди Калб, Наталии Ашимбаевой, Борису Тихомирову, Памеле Качурин и Эрику Зитцеру за критические отзывы на ключевых этапах, не давшие мне сбиться с пути. Маделайн Левин, Ингеборг Вальтер, Карен Уиллис, Деб Рейзингер, Джо Мозур и Беки Хейз показали мне пример дружеской поддержки в сочетании с профессионализмом, которому я стараюсь следовать. Я благодарна за крепкую дружбу Джоанне Ван Туйл, Линде Смит, Пегги Абрамс и Микаэле Джанан. Дотошные анонимные читатели отшлифовали мою работу до такого совершенства, какое я едва ли могла себе представить. Трэйси Снид, Марк Гарбрик, Трой Уильямс, Тедд Уолтер и Гейл Джонс помогли моим идеям пробиться через казавшиеся непроходимыми дебри технологии. Моя благодарность, теплые чувства и уважение к ним за общительность, доброту, компетентность и положительное отношение ко мне неизменна.
Университет Дьюка оказал мне поддержку в виде грантов, позволивших совершать поездки на конференции в течение последних десяти лет, и двух своевременных творческих отпусков. Его факультет славяноведения и евразийских исследований, проректор по международным делам и Центр славяноведения, евразийских и восточноевропейских исследований также помогли мне в моих поездках. Значительная часть этой книги сварилась в кофейне «Сир A Joe» в Рали.
Выражаю благодарность специалистам из издательства Северо-Западного университета, особенно Майку Левайну, Дженни Гавач и Джессике Помье. Особой благодарности заслуживает редактор текста Пол Мендельсон за его замечательную работу.
Книга «Секреты Достоевского» осталась бы лишь своим бледным и слабым подобием без энергии блестящих и бесстрашных студентов, в том числе Фреда Бансона, Бриджит Бэйли, Джеффа Берксона, Скайллера Борглума, Эмми Кэш, Дарлы ДеФранс, Паломы Дуонг, Джозефа Фицпатрика, Джима Голдоса, Дугласа Голдмахера, Линдси Хансон, Меган Гаррис-Перо, Анджелы Перес, Пейдж Рейтер, Райана Смита, Кори Собел, Люси Стрингер, Стивена Санмоню, Хрвое Тутека, Джессики Уилсон, Кэла Райта, Оры Янг, жителей студенческого общежития Уилсона и многих, многих, многих других. Я глубоко благодарна за то, что их становится все больше и больше.
Несмотря на всю сложность отношений в нашей семье, достойную пера Достоевского, моя любовь к ней неизменна. Моя работа не имела бы никакого смысла без поддержки Элизабет Халлингер, Виктории Хенсон-Аполлонио, а также Карлтона, Хезер, Сьюзен, Джима и Стивена Аполлонио. Я особенно благодарна Джиму и Вики за то, что они открыли мне двери своего дома, а также Стивену и Джиму – за пример мастерства в работе, который они мне подали: если моя книга окажется не хуже их домов и глиняной посуды, я буду удовлетворена. Мои дети, Мэгги и Ник Флэт, помогают оценить истинный масштаб происходящего вокруг, и им я посвящаю эту книгу – с любовью и самыми светлыми надеждами на их будущее.
Вступительные примечания
В тех случаях, когда мы выделяем часть цитаты курсивом, это всегда поясняется примечанием в скобках. Если такое примечание отсутствует, курсив принадлежит автору цитаты.
Многоточия в угловых скобках указывают на сокращения. Многоточия, не заключенные в такие скобки, являются частью процитированного текста.
Все цитаты из произведений Достоевского приведены по Полному собранию сочинений Ф. М. Достоевского в тридцати томах (Л.: Наука, 1972–1990). Угловые скобки в цитатах из Полного собрания сочинений перенесены из оригинала и указывают на редакторские примечания. При цитировании Полного собрания сочинений в тексте указываются том и номер страницы; там, где это применимо, указывается также номер книги с сокращением «кн.».
Все цитаты из Библии приведены по русскому синодальному переводу.
Введение
Каждое великое произведение искусства должно дополняться подробным рассуждением, если угодно, истолкованием сути вещей.
Платон
Тот, кто лжет, говорит лишь то, что для него естественно, то, что присуще ему одному.
Блаженный Августин
Эта книга представляет собой лишь часть диалога, начавшегося майским вечером 1845 года, когда друг Достоевского Д. В. Григорович сел читать рукопись его первого романа «Бедные люди». Григорович прочел ее не отрываясь, а затем побежал среди ночи известить мир о рождении нового Гоголя[1 - Краткое описание событий той знаменательной ночи см. в примечаниях редакторов в [Достоевский 1972а: 465–466].]. Несмотря на разделяющее нас время и расстояние, мы принадлежим к одному с ним сообществу читателей. Если бы произведения Достоевского не содержали неких сохранивших до наших дней свое значение истин о человеческой природе, мы бы не читали их сегодня. Что же привлекает нас в них и по сей день?
Стиль Достоевского – это запечатленные на бумаге попытки выразить словами истину, которую слабым силам человеческого разума не под силу уразуметь, а человеческому языку – передать. Его наиболее запоминающиеся герои – Раскольников, Человек из подполья, Иван Карамазов – это разумные создания, разум которых не может осмыслить окружающий их мир. Все их попытки мыслить рационально приводят к противоречиям и парадоксам; все их попытки действовать, руководствуясь разумом, приводят к насилию и боли. Самые запоминающиеся сцены в этих романах – это диалоги между носителями противоположных идей; однако в этих спорах, сколько бы они ни длились, не рождается истина. Истину необходимо почувствовать в тот миг, когда слова сходят со страницы и возвращаются в мир. Таким образом, главное – не то, что узнал Григорович, читая «Бедных людей», а та таинственная сила, которая посреди ночи сорвала его с кресла и заставила рассказать о том, что он прочел.
Произведения Достоевского, как, собственно, и сама его жизнь, являются примером драматического приятия истины, которую невозможно логически доказать. Это очевидно затрудняет задачу критикам. В конце концов, наш материал – это факты (текст), наши орудия – это слова; а наша задача – объяснять художественные произведения. Может ли анализ помочь нам что-либо понять? Зачем начинать, если с самого начала дело кажется обреченным на неудачу? И тем не менее эта книга существует. Почему? Я не претендую на то, что в ней я отвечу на вопросы, которые ставит Достоевский в своих романах. Это просто рассказ о встрече одного человека с несколькими замечательными литературными произведениями и попытка поддержать с ними диалог.
Если критик делает выбор в пользу явно выраженного и очевидной аргументации, это может привести к излишне поверхностному взгляду. Используя грамматический термин, мы можем определить этот уровень эксплицитного значения в нарративе как «изъявительное наклонение». Критика должна с этого начинаться, говоря «о том, что написано, а не о чем написано» [Kermode 1979: 136]. Однако изъявительное наклонение имеет дело только с фактами, а творчество Достоевского шире – оно имеет отношение к великой символической истине, которую невозможно высказать напрямую. Мы приходим к этой истине через «сослагательное наклонение» – язык снов, желаний и нематериальной реальности. У читателей всегда есть выбор, какой подход предпочесть: языковая оболочка одинакова независимо от того, ищем мы факты или истину. Однако для постижения глубинного значения требуется «прыжок веры», требуется уверовать в то, что в тексте и в жизни содержится нечто большее, чем одни лишь факты и выражающие их слова. Чтобы оценить творчество Достоевского по достоинству, читатели должны перестать доверять тому, что лежит на поверхности, и перестать верить во власть изъявительного наклонения. Перед одержимыми рассудочными идеями героями Достоевского в их слепом поиске понимания стоит та же проблема. Анализируя действие эвклидова и неэвклидова мышления у Достоевского, Г. С. Померанц описывает этот поиск, приводя пример из практик дзен-буддизма:
Дзэн-буддизм добивается своеобразного просветленного состояния, «пробуждения» (яп. «сатори») с помощью шока. Методы шока применяются разные, но главным из них является интеллектуальный шок. Ученику дается явно неразрешимая задача, коан. Задача имеет ответ, и наставник его знает. Задача неразрешима, абсурдна с точки зрения «эвклидовского» разума. Но для какого-то высшего разума она разрешима. <…> В конце концов ученика охватывает «великое сомненье». В отчаянье, как бы над действительной пропастью, он наконец срывается, падает – ив самый страшный миг осознает, что разум и поставленный вопрос взаимно абсурдны, и если вопрос (вопреки очевидности) имеет ответ, то абсурден (в каких-то отношениях) эвклидовский разум. Возникает вспышка сверхсознания, парящего над неразрешимыми вопросами. Для этого сознания мир внезапно становится освобожденным от всех проблем, единым и цельным [Померанц 1989: 64–65].
Коан в дзен-буддизме начинается как интеллектуальная задача и заканчивается отказом от возможности получить какой-либо ответ, который может быть выражен доступными интеллекту средствами. В романах Достоевского запечатлен аналогичный поиск смысла. Его герои без конца размышляют, без конца говорят, но мысли и слова лишь уводят их прочь от истины. Смысл появляется, когда кончается диалог, в мгновения бессловесного понимания. Нарратив сменяется откровением. Эти мгновения бывают отмечены драматическим жестом: земным поклоном, объятием, поцелуем. Персонаж входит в «соприкосновение с таинственными иными мирами» и обретает в грезах и видениях истину, ничуть не менее убедительную, чем та, которую мы познаем в часы бодрствования[2 - «Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло всё, что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным» [Достоевский 1976:290].]. Но коан – это только начало, поскольку видение Достоевского глубоко христианское. В его романах запечатлена драма борьбы человека за христианскую, а точнее, православную веру. Откровение не может прийти без борьбы; в этом смысле искусство Достоевского – это по сути своей искусство слова, нарратива и сюжета. Но Достоевский идет дальше коана, маркируя мгновения, когда его персонажам даруется откровение, характерно христианскими визуальными образами восточной традиции. Например, в эпилоге «Преступления и наказания» Соня Мармеладова является Раскольникову в виде иконы Богоматери[3 - См. [Касаткина 1996].]. Когда Раскольников позволяет своему рациональному мышлению замолчать, его зрение проясняется и к нему приходит спасение:
Раскольников сидел, смотрел неподвижно, не отрываясь [на бескрайнюю сибирскую степь за рекой]; мысль его переходила в грезы, в созерцание; он ни о чем не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила.
Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и села с ним рядом. Было еще очень рано, утренний холодок еще не смягчился. На ней был ее бедный, старый бурнус и зеленый платок. Лицо ее еще носило признаки болезни, похудело, побледнело, осунулось. Она приветливо и радостно улыбнулась ему, но, по обыкновению, робко протянула ему свою руку. <…> Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени [Достоевский 19736: 421] (курсив мой. – К. А.).
Читателям описание прозрения Раскольникова зачастую кажется неубедительным. Скорее всего, дело в том, что основная идея Достоевского полностью основана на зашифрованном образе Сони как Богоматери – образе, который функционирует скорее на символическом, чем на реальном (изъявительном) уровне текста. До этого момента нас привлекала именно интеллектуальная борьба Раскольникова, и нам также не хочется расставаться с ней. Но если мы с ней не расстанемся, Соня останется лишь таким же персонажем, как любой другой, хотя и более праведным и благочестивым по сравнению с большинством, и объяснить произошедшее между ними будет невозможно.
Таким образом, поэтика Достоевского в значительной мере основана на мощных визуальных образах. Они могут быть представлены эксплицитно, как копия изображающей мертвого Христа картины Гольбейна в «Идиоте» или как скрытый намек, как появления Сони Мармеладовой в ходе повествования в «Преступлении и наказании». Изображения и немые жесты передают истины, недоступные на обыденных уровнях нарративного дискурса. В то же время было бы ошибкой преувеличивать истиностную ценность изображения у Достоевского, поскольку в его произведениях истина познается благодаря взаимодействию между нарративным и визуальным смысловыми уровнями. Образ может выполнить свое предназначение только тогда, когда герой произведения исчерпал возможности изъявительного наклонения, пройдя, подобно своему создателю, через «горнило сомнений» [Достоевский 1976: 77]; чтобы прозреть, герой должен замотать.
Принимая в расчет сложное взаимодействие визуальных и нарративных сил в творчестве Достоевского, мы можем примирить две до сих пор не имевшие между собой ничего общего критические традиции: бахтинскую (диалогическую, ориентированную на слово) и джексоновскую (ориентированную на образ) интерпретации. Как сформулировала Кэрил Эмерсон, в представлении Роберта Льюиса Джексона «быть счастливым в самом высоком смысле – это, с точки зрения Достоевского, знать, как смотреть на вещи, как воспринимать красоту. Это высшее восприятие красоты – откровение» [Emerson 1995: 250][4 - Эмерсон цитирует Джексона по [Jackson 1966: 52].]. Джексон фокусирует внимание на «вертикальной оси», т. е. на запечатленном или преображенном пространстве-времени как средоточии смысла [Emerson 1995: 253]. С другой стороны, М. М. Бахтин видит Христову истину в слове, и его работы посвящены прежде всего анализу языка, действующего в романах Достоевского на горизонтальной оси смыслов: временного, линейного и коренящегося в обычном времени диалога. Бахтин, как пишет Эмерсон, отдает предпочтение Воплощению перед Откровением или Воскресением. Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки: прочтение, сосредоточенное на визуальных образах, упускает из виду скрытую игру смыслов в многослойных диалогах, а прочтение, сосредоточенное на слове, может быть слепо к многозначительному молчанию или символическим элементам в художественном произведении.
Чтобы оценить по достоинству сложность и глубину творчества Достоевского, мы должны учитывать взаимодействие между этими двумя уровнями смысла. Я выскажусь в пользу апофатического подхода к интерпретации текста. Апофатическое, или отрицательное, богословие – это дискурс, который «отрицает возможность назвать трансцендентное или приписать ему какие-либо свойства». Эта традиция берет начало в литературных памятниках VII–V веков до нашей эры и особенно ярко проявляется в трудах Псевдо-Дионисия Ареопагита. Само слово «апофазис» означает «неговорение» или «высказывание в противоположном смысле» и является антонимом катафазиса, который означает «утверждение, высказывание в прямом смысле». Язык неспособен вполне передать сущность Бога, поэтому «разум приносит наибольшую пользу тогда, когда он подсказывает имена, “составляющие нечто вроде каталога или перечня отрицательных качеств, которых Бог лишен”» [Russell 2001: 226] (курсив мой. – К. А.). Короче говоря, любая попытка выразить истину словами умаляет ее. Достоевский моделирует этот процесс с помощью своих многословных персонажей. Они без умолку болтают, заставляя истину съеживаться и отдаляться, пока она не мутирует в ложь. Мы видим эту ложь, но не должны верить ей; тем не менее мы должны ее уважать, поскольку она хранит следы первоначальной, скрытой истины. Если, читая произведения Достоевского апофатически, мы считаем видимое на поверхности маской или наносной шелухой, оно больше не препятствует нашему постижению истины. Мы подвергаем свои предположения сомнению: чем более очевидным, логичным и убедительным выглядит тот или иной тезис, тем больше вероятность того, что на более глубоком уровне он ложен. Ключом к пониманию является не доказательство, а вера.
Зловещая внешняя сторона романа «Бесы» может создать читающему апофатически наибольшие проблемы, но и вознаградит сполна. Этот роман кончается катастрофой; большая часть главных героев убита, включая Шатова, в наибольшей степени приблизившегося к тому, чтобы стать носителем религиозных идей Достоевского. Поверхностное чтение, ориентированное на сюжет, оставит у нас в памяти лишь смерть и разрушение. Но если мы дадим себе увидеть лишь «факт в изъявительном наклонении» жестокого убийства в Скворешниках, мы, возможно, не осознаем, что рассказ о Шатове также несет в себе идею искупления и надежды. Ведь он совершил невозможное: простил свою неверную жену и признал рожденного ею от другого мужчины ребенка своим. Достоевский сочетает рассказ о поступке Шатова, который возможно передать лишь нарративными средствами, с мощным религиозным образом. Прежде чем позволить Шатову умереть, Достоевский собирает их втроем с женой и ребенком в иконический образ «святого семейства»: невинная мать, младенец и счастливый отец. Повествование с лежащей в его основе нравственной идеей и образ, взаимодействуя, передают глубинную истину. Читатели могут выбирать, увидеть ее или сосредоточиться на других, более грубых предметах, доступных любому случайному наблюдателю.
В русской культуре этот фундаментальный разрыв между фактами и истиной принимает вид старого противопоставления закона и благодати [Есаулов 1994: 32–60]. Достоевский объявляет себя «реалистом в высшем смысле», поскольку факты не имеют для его истины существенного значения [Страхов 1883: 373]. Автор защищается от читателей, которым трудно поверить в то, что им рассказывают: слишком много совпадений, слишком много насилия, описываемые события маловероятны. Но разве нельзя сказать то же самое о художественной литературе в целом? Она опровергает и попирает наши успокаивающие представления об устройстве мира и предоставляет доступ к скрытой, имманентной сути вещей. Таким образом, произведения Достоевского заряжаются энергией от читателей, которые видят скрытое за примитивной логикой внешних событий, распознают глубинную суть текста. Мы преодолеваем деконструктивистские подходы, в рамках которых текст разбирается на составные части, демонстрируя лишь разлад, хаос, гнет и смерть автора. Литературные произведения – по самой своей природе – искушают чутких читателей посланиями; они говорят от имени тех, чьи голоса зачастую не слышны: угнетенных слоев населения, низших экономических классов общества, этнических меньшинств, женщин. Однако, как давно показали формалисты, социальный альтруизм, фокусируясь таким образом на фактах реальности, может привести к тому, что мы не заметим литературных фактов, в которых заключена глубинная правда текста. Это не зависит от справедливости социального протеста. При этом историческая личность Достоевского не может служить нам ориентиром. Хотя он был гением, он был таким же слабым человеческим существом, как любой из нас. Как этому антисемиту, милитаристу, противнику женской эмансипации и русскому империалисту, как некоторые читатели называют его, удалось создать такие великие произведения? Это выглядит несправедливым, это невозможно понять, и это не имеет значения. К счастью, мы читаем Достоевского не ради идей, озвученных им в «Дневнике писателя», а ради грандиозной художественной силы «Записок из подполья» и «Братьев Карамазовых».
Идеи Достоевского глубоки и заразительны. Однако, несмотря на сильнейшее влияние, которое он оказал на современную философию и богословие, он не философ, а романист. Его идеи в своих лучших проявлениях воплощены в художественных текстах, и источником их влияния является сама форма выражения. По этой причине я уделяю внимание в первую очередь не содержанию, историческому фону и значению его идей, а их функции органического компонента его романов[5 - Читатели, желающие изучить в подробностях богословские и философские взгляды Достоевского, могут ознакомиться с некоторыми замечательными современными исследованиями, в том числе: [Knapp 1996; Scanlan, 2002; Cassedy 2005; Jones 2005].]. В этом случае первостепенное значение получает признание важности эмоций и ощущений в литературоведении. В конце концов, слово «эстетика» происходит от греческого ?????????? (ощущать, воспринимать). Впервые этот термин в современном смысле использовал мыслитель XVIII века Александр Баумгартен как название области знаний, связанной с чувствами. В противоположность «четко выраженным абстрактным идеям, которые изучает логика, <…> эстетика всегда была тесно связана с сенсорным опытом и теми чувствами, которые возникают в связи с ним» [Feagin 1999: 12]. Идейные романы Достоевского являются особенным искушением для читателей, которых привлекает другая, «логическая» ветвь познания. Из всех романистов именно он предоставляет наиболее обильную пищу для тех, кто интеллектуально голоден. Однако это неизбежно приводит к отрицанию иррациональных, зачастую недоступных глазу сил эмоций и страстей, которые и заряжают эти тексты такой могучей энергией. Моя цель состоит в том, чтобы исследовать мастерские манипуляции Достоевского, используя инструменты повествовательного искусства, динамику этих двух способов познания.
Если об основной идее Достоевского и можно сказать что-то определенное, звучит оно так: обособленность приводит к фальши и потере связи с реальностью. Подобно тому как скептическое отношение к поверхностной власти слов заставляет нас читать между строк, подобно тому как искусство литературной критики оказывается попыткой преодолеть обособленность отдельных читателей, истину также следует искать не внутри героев Достоевского, а в пространстве между ними. Это непростая задача. Современная личность – это социальный конструкт; человек сам по себе – фикция и ложь. Человек из подполья оторван от реальности, поскольку он живет в мире абстрактных идей и не имеет полноценных связей с другими людьми. Его одиночество, как и одиночество Раскольникова, Ивана Карамазова и других, – причина его страданий. Эти герои пытаются убедить себя в том, что они могут обрести истину самостоятельно. Их мышление ограничено областью чистого разума – наукой и логикой. Их интеллектуальная гордыня делает их уязвимыми для бесовской заразы, чрезмерного рационализма, разочарования и в конечном счете – и это художественное новшество Достоевского – вынуждает их совершать акты насилия. Лишь причинив боль другим, они начинают понимать, что не одни. При этом они в буквальном смысле слова не могут помочь самим себе — поскольку, когда разум и дух отделены от плоти, преступные действия становятся неизбежными. Оставшись без управления, плоть действует согласно законам природы, или, если воспользоваться формулировкой Лизы Кнапп [Knapp 1996], движется по инерции. Тело совершает стихийные акты насилия: убийство старухи-процентщицы, молодой жены или отца; изнасилование ребенка.
Предполагаемый выход из смертельного для героев Достоевского состояния одиночества, заставляющего их совершать преступления, во всех его романах одинаков: они должны принять реальность мира за пределами собственного сознания и броситься в живую правду межчеловеческих контактов. Мартин Бубер называет это отношением «Я-Ты», то есть полной и безусловной открытостью другим людям и миру [Бубер 19956]. Отказываясь от одиночества, индивид вступает на территорию, которая выглядит опасно: в таинственное, эротичное пространство между личностями. Зная о собственной способности причинять вред другим, ставший уязвимым индивид ожидает, что теперь другие причинят вред ему. Окружающее его открытое пространство наполнено энергией веры и доверия (в русском языке эти слова однокоренные). Энергия этого межличностного пространства действует на всех уровнях, начиная с очевидного уровня человеческих взаимоотношений до неизбежного прыжка в неизвестность религиозной веры. Таким образом, тексты Достоевского еще и предлагают читателям на время отречься от своей веры в описанные им факты и довериться содержащимся в подтексте и не постижимым разумом идеям Божественной справедливости и благодати. И в этот момент происходит чудо. Вера в добрую волю – да и просто в само существование – другого оправдывает себя; другой (персонаж, автор, Божественная тайна) отвечает любовью и прощением. Как показывает сюжет последнего и величайшего из его романов, материя – плоть – может чудесным образом преодолеть действие законов природы, неумолимо приводящих ее к насилию и злу.
Таким образом, романы Достоевского отражают наш падший мир и проливают свет на положение человека в нем. Сила их воздействия заключается в способности Достоевского заставить нас поверить в реальность его персонажей. Мы входим в мир Раскольникова, послушно, но с осторожностью соглашаясь с тезисом, что он – один из нас. Возникает искушение остаться в этом мире. Анализируя психику своего друга или пациента, мы ищем первопричину совершенного им преступления в ее пороках: «Раскольников совершил убийство, потому что он…» Но как критики мы должны вернуться из этого мира искушений в свою действительность. Наиболее значительные открытия ждут тех, кто стоит поодаль и прищуривается, чтобы разделяющие в том мире персонажей границы оказались размыты. Раскольников, Свидригайлов и Порфирий Петрович; Николай Ставрогин и Петр Верховенский; Макар Девушкин и Быков; Иван Карамазов и Смердяков – оказываются гранями единого, общего сознания. Литература способна нарушать законы природы, разъединяющие людей и усиливающие иллюзию нашей обособленности. Когда мы, читатели, доверяемся Достоевскому и полностью погружаемся в его художественную вселенную, нам приходится идти опасными и трудными путями. Границы рушатся; персонажи становятся частью нашего сознания, и мы оказываемся причастны к их вине.
Вина, являющаяся ключевой темой произведений Достоевского, не укладывается в примитивные рамки юридических определений. В основе каждого из его великих романов лежит тяжелое и насильственное преступление, преступление страсти-, убийство, изнасилование, отцеубийство. Наибольший гнев у автора, у Ивана Карамазова и у нас вызывает насилие над детьми. Злодеи у Достоевского – это те, кто «оскорбляет невинность»: Быков, Свидригайлов, Ставрогин, закалывающие младенцев турки. Но мы находимся в сфере литературы, а не права, и значительная часть действия романов Достоевского заключается в диалогах между их персонажами. Если мы позволим ужасу перед преступлениями отвлечь нас, мы можем не заметить менее явных грехов, заключенных в риторике, и даже принять жертву за преступника. В романах Достоевского драма разыгрывается вокруг грехов слова: лжи, клеветы, предательства, отрицания. Чтобы увидеть их истинную тяжесть, недостаточно спросить, кто совершил преступление, поскольку основополагающая идея произведений Достоевского состоит в том, что виновен каждый. По-настоящему опасный вопрос таков: кто признает собственную вину, а кто обвиняет других?
Поэтому в моей трактовке романов Достоевского добро и зло заключены в той точке, где язык меняет природу мира. Ось координат добра и зла в его произведениях смещается в сторону динамики клеветы и признания. Обвинить другого – опасный поступок; дело не только в том, что это обвинение может оказаться ошибочным, но и в том, что оно не дает обвиняемому вступить на путь искупления. В то же время признание вины – это первый шаг к обретению благодати. Именно признавшись, вы даете другим возможность простить вас. Сюжеты романов Достоевского подводят главного героя к моменту истины, когда он получает возможность признать свою вину, раскаяться и начать ее искупать. Таково признание Раскольникова на перекрестке и тот прекрасный миг катарсиса, когда он наконец говорит правду: «Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором, и ограбил» [Достоевский 19736: 640]. Такой же миг наступает у Дмитрия Карамазова после пробуждения ото сна, когда он осознает нелогичный, но истинный парадокс: он не виновен (в преступлении) и при этом виновен во всем. Едва пробудившись, он провозглашает эту только что обретенную истину. Искреннее покаяние очищает человека и открывает путь благодати и прощению. Последний шаг – это воссоединение с человечеством, положительная истина, которую апофатическое искусство Достоевского не в состоянии запечатлеть непосредственно (потому что слова исказят ее), но которая является его основной идеей.
Анализируя произведения Достоевского, я с повышенным вниманием рассматриваю поверхностный слой повествования, а также диалоги и монологи персонажей. В парадигме, действующей в романах Достоевского, признание, являясь средством постижения высшей истины, подменяет собой факты. Акт признания действует противоположно тому, что Дж. Л. Остин называет «перформативным высказыванием», т. е. высказыванием, которое в то же время является действием: «Сказать что-либо и есть сделать что-либо» [Остин 1986: 31]. В число таких высказываний входят «да», сказанное при заключении брака, или «я нарекаю этот корабль…», сказанное при спуске корабля на воду [Остин 1986: 26]. С моей точки зрения, в произведениях Достоевского признание в совершенном проступке является началом аннулирования этого проступка. Могучая сила акта признания – основной источник драматического напряжения, которым пронизаны великие романы Достоевского. Человеку нелегко расстаться с представлениями о собственной правоте (хотя они могут быть обманчивыми и неубедительными иллюзиями), но это необходимый шаг на пути к искуплению. Сознаться в своей вине значит дать возможность себя простить; признав, что я грешен, я открываю себя для прощения и милости других людей. И наоборот: ложь, будучи высказанной, пятнает весь мир. Обвиняющий другого навлекает проклятие на себя: таков оговор Дмитрия, совершенный на суде Катериной Ивановной, которой было известно, что он не убивал своего отца; ложь, изливающаяся из уст Петра Верховенского всякий раз, когда он их разверзает, и одиозная клевета, пущенная Лужиным против Сони Мармеладовой. Высказанная этими персонажами ложь лишает их истины общения с любящими людьми; они оказываются в своем собственном аду на земле, который Зосима называет «страданием о том, что нельзя уже более любить» [Достоевский 1976: 292]. И вновь этическое действие оказывается неполным без соучастия другого человека. Ложь может причинить вред только в том случае, если найдется хотя бы один слушатель, который ей поверит. Поэтому читатели тоже причастны к этической драме Достоевского. Его романы предлагают сделать выбор между скепсисом и верой – в факты, описанные в их сюжетах, в высказывания их героев и, в конечном счете, в лежащую в их основе религиозную идею.
В самом начале я говорила, что внешняя сторона вещей может быть обманчива. Как сказал в своем знаменитом стихотворении Тютчев, «мысль изреченная есть ложь». Апофатическое чтение покажет скрытую правоту униженных героев Достоевского (зерно) и изобличит зло внешне праведных (плевелы). В этих текстах таится дьявол, изрекающий ложь. Мы читаем как бы против течения, заглядывая за соблазнительно гладкую внешнюю сторону этой лжи. При нужном освещении и ракурсе нашему взору открываются поразительные истины. У давно знакомых персонажей открывается неожиданное второе дно. Милые, заботливые джентльмены оказываются ненасытными хищниками; порочные преступники, несмотря на свою репутацию, несут в себе семя спасения. Честные, благородные девицы оказываются причиной краха честных мужчин, а отбросы общества дают шанс на спасение.
Парадокс господствует повсюду. Как и в любом другом парадоксе, в нем соревнуются между собой два варианта истины. В первой главе данной книги первый роман Достоевского «Бедные люди» предстает не только историей бесчестия и падения невинной девицы, но также и наоборот – рассказом о том, как якобы обесчещенная девица достойно преодолевает все выпавшие на ее долю невзгоды. В этом скрытом повествовании опасность исходит не от грубых соблазнителей, а от литературы, от хищнического желания, которое воздействует через художественный вымысел, абстрагирования от своей телесности. В «Белых ночах» (глава вторая) под покровом повествования о нежной любви, понятного всем читателям, прослеживается также аллегория творческого процесса и изображение соблазнительного и опасного духа романтической литературы, заполняющего собой Петербург. В «Игроке» (глава третья) проигрыш, а не выигрыш дает ключ к счастью в битве между силами закона (смерти) и благодати (жизни) за зеленым сукном рулетки. В главе четвертой простой вопрос «Кто виноват?» приводит к поразительным выводам: «Преступление и наказание» оказывается повествованием не только о преступлении и искуплении одного человека, но и о порожденном любовью самопожертвовании другого – того, кого мы считали виноватым и кто оказался всеми оклеветан. Ведь на самом деле Свидригайлов лишь кается в своих грехах и творит добро для других. С этого неожиданного ракурса традиционные иерархии ценностей мутируют в коварную ложь, которую изрекали повествователи, оказавшиеся, пусть даже из благих побуждений, клеветниками. В главе пятой, воспользовавшись данными в «Идиоте» визуальными подсказками, мы обнаруживаем никем ранее не замеченную картину искупительного страдания в совершенно неожиданном месте. Тайна неудачи князя Мышкина в качестве символа Христа частично раскрывается в судьбе и рассказе его двойника – умирающего нигилиста Ипполита Терентьева. Великий «роман-памфлет» «Бесы» является темой двух глав. В главе шестой происходящие в романе катастрофы предстают результатом отцовской безответственности, бесовского иностранного агента влияния и чрезмерных надежд на иллюзорные, «бумажные» ценности. Это извечная история мести брошенного ребенка. Как и во многих других великих произведениях, трагическое событие используется для того, чтобы выразить в зашифрованном виде идею. Собранная вместе «ложная» семья Шатовых погибнет, но оставит после себя незабываемый образ. Отец-рогоносец, опозоренная мать и незаконнорожденный младенец благодаря чуду верности и любви Шатова обретают ореол святости и становятся иконописным образом праведного, прощающего отца, невинной матери и святого младенца. В главе седьмой анализ демонического романа продолжается – в ней рассматривается тема Апокалипсиса. Здесь силы клеветы, идолопоклонничества и нарратива (Петр Верховенский) сражаются с глубинной истиной покаяния и откровения (Ставрогин). В главе восьмой показывается, что отсутствующие матери являются причиной драмы отцеубийства в «Братьях Карамазовых». Каждая из них так или иначе становится каналом, через который в мир романа проникают дьявольские силы. Все эти нарративы наглядно показывают трагедию изоляции человека и опасность чрезмерного доверия к внешней стороне языка. Приняв предложение Достоевского поверить в скрытую от глаз истину, даже если она выглядит ложью, мы получаем доступ к более глубокому и казавшемуся прежде незаметным силовому полю, лежащему в основе его взглядов как писателя.
Глава первая
Плоть и книга: «Бедные люди»
Нет ничего более обманчивого, чем вполне очевидный факт.
Артур Конан Дойл
Дебют Достоевского стал одним из самых ярких в истории мировой литературы: самый авторитетный литературный критик России В. Г. Белинский приветствовал роман неизвестного автора «Бедные люди» (1846 год) как долгожданный первый русский «социальный роман» [Анненков 1928: 447]. До наших дней «Бедных людей» воспринимают прежде всего как социальную критику. Однако наиболее характерной чертой первого романа Достоевского является его «литературность». «Бедные люди» переполнены реминисценциями из русской «натуральной школы» и ее западноевропейских предшественников, из пушкинских экспериментов с повествовательной прозой, из традиций русского и европейского сентиментального романа в письмах и его далекого предка – «Переписки Абеляра и Элоизы» XII века[6 - См. фундаментальное исследование В. В. Виноградова о русских литературных истоках «Бедных людей» [Виноградов 1929: 291–389]. «The Young Dostoevsky» Виктора Терраса остается наиболее глубоким англоязычным исследованием различных литературных традиций, оказавших влияние на «Бедных людей»; см. [Terras 1969].]. Оставаясь сложной, многослойной пародией на эти предшествовавшие произведения, роман Достоевского ставит под сомнение фундаментальные представления о морально-этических последствиях чтения и письма. Будучи глубоко вторичными, «Бедные люди» в то же время неожиданно оригинальны. Уже в своем первом опубликованном произведении автор сеет семена того уникального трагического видения, которое даст всходы в его великих зрелых романах.
Вполне понятно, почему этот роман оказался настолько литературным: «Бедные люди» рассказывают о пути самого Достоевского к писательскому творчеству. Тщательно проанализировав текст «Бедных людей», И. Д. Якубович нашла прямые и убедительные связи между датами и содержанием вымышленных писем в романе и теми или иными событиями и переживаниями в жизни его автора. Прослеживая превращение молодого военного инженера в писателя, Якубович делает вывод, что роман отчасти представляет собой замаскированный дневник [Якубович 1991: 50]. В этом первом романе, как и в последующих произведениях, авторское самосознание связано с тягой к печатному слову. Признавая наличие перекличек между текстом романа и событиями из биографии автора, мы тем не менее должны избегать поверхностного прочтения «в изъявительном наклонении». Создаваемое автором превосходит его самого, «будучи отделено от несовершенной лжи, которая произвела его на свет» [Nagel 2001: 31].
Апофатическое чтение предполагает несовпадение между словами и истиной. То, что персонажи говорят и пишут о себе, отличается от того, что они представляют собой, и от поступков, которые они совершают. Основная идея Достоевского проступает из противоречий в этом зазоре между словом и окружающим миром на многих уровнях текста – слов из писем обоих героев, их поступков (описанных и подразумеваемых), реакций окружающих их людей и сложных отзвуков литературной традиции. Эти несовпадения выдают амбивалентное отношение самого автора к смыслу и назначению художественной литературы.
Возьмем, например, Макара Девушкина. Это мелкий чиновник средних лет, холостяк; он покровительствует своей знакомой Варваре (Вареньке) Доброселовой, молодой девице с запятнанной репутацией. Хотя многие из лучших исследований «Бедных людей» были посвящены Макару Девушкину, глубины и скрытые смыслы его характера остаются неизученными[7 - См. [Rosenshield 1986: 525].]. Он – чрезвычайно сложная фигура, сочетающая черты сентиментального влюбленного из эпистолярной прозы XVIII века, бедных чиновников из произведений русской «натуральной школы» (в первую очередь – Акакия Акакиевича из «Шинели» Гоголя (1841 год)), самоотверженного и заботливого отца из повести Пушкина «Станционный смотритель», входящей в цикл «Повести Белкина» (1830 год), бальзаковского «Отца Горио» (1835 год) и других. Но у Макара Девушкина есть и темная сторона, предвосхищающая самые темные и зловещие образы из последующих произведений Достоевского.
На первый взгляд это утверждение может показаться возмутительным, если вспомнить общепринятую и хорошо обоснованную точку зрения, с которой Макар Девушкин считается рупором угнетенных общественных классов, праведным защитником опозоренной девушки, человеком, которому бедность не позволяет действовать в соответствии с его великодушными и милосердными побуждениями. Однако достаточно давно современник Достоевского В. Н. Майков заложил основы для более критического отношения к этому персонажу. В рецензии, написанной вскоре после выхода романа в свет, Майков предположил, что Варенька относилась к любви Макара как к бремени: «Любовь Макара Алексеевича не могла не возбуждать в Варваре Алексеевне отвращения, которое она постоянно и упорно скрывала, может быть, и от самой себя» [Майков 1889: 326]. Неудивительно, что скептическое мнение Майкова проигнорировало как большинство его современников, так и позднейшие русские критики, которым требовалось истолковать роман Достоевского как выступление в защиту отверженных и угнетенных, а не как проницательное психологическое исследование. Однако новое поколение читателей заложило основы для более критического подхода. Например, Джозеф Франк и У Дж. Лезербарроу указывают на скрытую двойственность характера Макара Девушкина [Leatherbarrow 1973:607–618; Frank 1976:137–156]. Джо Эндрю предполагает, что присущий двойной роли Девушкина как защитника и влюбленного характер отношений с Варенькой роднит его с двумя «злодеями» повествования, Быковым и Анной Федоровной [Andrew 1998: 173–188]. Другие, не менее проницательные критики распознали неоднозначность, характерную для положения Вареньки. В частности, выполненные В. Террасом и Р. Эпштейн-Матвеевой исследования внутритекстовых связей в «Бедных людях» показывают, что брак Вареньки с Быковым является для нее скорее бегством, чем безусловной трагедией: выйдя замуж, она покидает маргинальную юдоль бедности, страха и опасности, в которой обитает Макар Девушкин [Terras 1969: 84–85; Matveyev 1995: 535–551]. При этом она заодно возвращает себе честь и обеспечивает безбедное в материальном отношении существование.
Следуя этим новым скептическим тенденциям, я буду исследовать глубинный смысл «темного» прочтения образа Девушкина, рассматривая его прежде всего как потенциального соблазнителя, в контексте художественного видения Достоевского. Трудно не согласиться с Эндрю в том, что Вареньку осаждают два хищника мужского пола, но Быков и Девушкин олицетворяют принципиально различные и взаимоисключающие ценности. Кульминация сюжета – решение Вареньки выйти замуж за Быкова – представляет собой отречение от опасностей и искушений литературы, воплощенных в Девушкине. Достоевский выражает эту идею, пародируя сентиментальные романы и заодно наделяя свою героиню собственной скрытой силой. В ходе своего анализа я радикально пересмотрю ту иерархию моральных добродетелей, которая оставалась общепринятой почти во всех критических исследованиях «Бедных людей».
Первое письмо Девушкина, в котором он сообщает о своем переезде в угол кухни, свидетельствует о противоречивых мотивах:
Я живу в кухне <…>. Кухня большая в три окна, так у меня вдоль поперечной стены перегородка, так что и выходит как бы еще комната, нумер сверхштатный; всё просторное, удобное, и окно есть, и всё, – одним словом, всё удобное <…>. Ну, так вы и не думайте, маточка, чтобы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл какой был; что вот, дескать, кухня! – то есть я, пожалуй, и в самой этой комнате за перегородкой живу, но это ничего; я себе ото всех особняком, помаленьку живу, втихомолочку живу. <…> Правда, есть квартиры и лучше, – может быть, есть и гораздо лучшие, – да удобство-то главное; ведь это я всё для удобства, и вы не думайте, что для другого чего-нибудь. Ваше окошко напротив, через двор; и двор-то узенький, вас мимоходом увидишь – всё веселее мне, горемычному, да и дешевле. <…> Нет, это удобство заставило, и одно удобство соблазнило меня [Достоевский 1972а: 16–17] (курсив мой. – К. А.).
Получив такое недвусмысленное указание не искать «тайных смыслов», как могут пытливые читатели устоять перед таким соблазном? Девушкин объясняет свои мотивы слишком многословно. М. М. Бахтин приводит этот отрывок как пример характерной для Достоевского полемической «установки человека по отношению к чужому слову и сознанию» [Бахтин 2002: 230]. Каждое слово здесь предугадывает реакцию собеседника и заранее ее опровергает. Однако эта установка на наличие другого весьма примечательна, поскольку подтверждает отсутствие этого «другого». Так или иначе, Девушкин одинок; если бы он жил вместе с Варенькой, он бы не писал ей писем. Кроме того, как было хорошо известно Бахтину, в число потенциальных собеседников входят не только упоминающиеся персонажи данного романа, но и персонажи из истории литературы, которых Достоевский пародирует своим полифоническим языком, не говоря уже о его современных и будущих читателях. Мы могли бы сказать, что Макар Девушкин одинок в толпе. В будущих великих романах Достоевского оборонительный, полемический стиль речи будет особенно характерен для живущих в одиночестве героев – например, Человека из подполья, которому этот бесконечный диалог не позволяет вступить в реальные, осмысленные отношения с другими людьми. Этот стиль выдает их абсолютное неверие в добрую волю и, фактически, в само существование другого. В нашем анализе в круг собеседников, на которых «с оглядкой» смотрит Девушкин, входит и читатель [Бахтин 2002: 206]. Своим многословием Девушкин подсказывает нам, что следует заглянуть под верхний слой. Почему, например, он так горячо отстаивает свой выбор жилья? Мы наталкиваемся на многозначительное слово «соблазнило», которое намекает на преступное желание. Удобство того, что представляется неудобным жилищем, прямым текстом связывается с близостью к Вареньке (наличие окна и узость двора). Девушкин переехал в эту комнату не только из экономии, но и для того, чтобы наблюдать за ней. То, что внешне выглядит как самоотверженное и нежное желание присматривать за попавшей в беду девушкой, может быть не менее убедительно истолковано как достойный осуждения вуайеризм. Таким образом, слова Девушкина выдают его противоречивые побуждения.
Ошибочное предположение Девушкина, будто случайно приподнявшаяся занавеска в окне Вареньки имела какой-то скрытый смысл, несомненно связано с другим образом занавески, имеющим эротический подтекст, – с театральным занавесом, скрывавшим от него актрису, в которую он был влюблен в молодости: «Видеть-то я один только краешек занавески видел, зато всё слышал» [Достоевский 1972а: 61]. В литературной традиции слово «актриса» подразумевает женщину легкого поведения. Сравнение голоса этой актрисы с голосом соловья отсылает нас к сквозному «птичьему» мотиву, проходящему через весь роман, и пятнает на первый взгляд невинное сравнение Вареньки с беззаботной весенней птичкой, сделанное в определяющем все дальнейшее содержание романа первом письме: «Сравнил я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшения природы созданной. Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, живущие в заботе и треволнении, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастию небесных птиц» [Достоевский 1972а: 14].
Дважды в первом письме Девушкина его образный язык выдает его противоречивые устремления. Защитник – это хищная птица, а испытываемая Девушкиным жажда власти проявляется в метафорических выражениях: «Встал я сегодня таким ясным соколом»; «Зачем я не птица, не хищная птица!» [Достоевский 1972а: 14]. Для литературоведов социального направления метафора о хищной птице (заимствованная из стихотворения украинского поэта М. П. Петренко) указывает на зарождающееся у Девушкина желание взбунтоваться против репрессивной политической системы, при которой возможна бедность[8 - Возможно, Достоевский узнал об этом стихотворении от своего близкого друга И. Н. Шидловского, что, учитывая значительное личное влияние Шидловского на него, лишь делает этот образ более убедительным. Якубович [Якубович 1991: 54–55] анализирует сложности мотива «хищной птицы» и его появление в русской литературе соответствующего периода с полезными подробностями.]. Однако в то же время она является проявлением хищнических инстинктов по отношению к беззащитной Вареньке. Письмо Девушкина своей «голубушке» от 4 августа усиливает это впечатление: «Не помоги я вам, так уж тут смерть моя, Варенька, тут уж чистая, настоящая смерть, а помоги, так вы тогда у меня улетите, как пташка из гнездышка, которую совы-то эти, хищные птицы заклевать собрались» [Достоевский 1972а: 73]. Девушкин выражает здесь желание спасти Вареньку, но на самом деле сохранение отношений между ними, пусть и ограничивающихся перепиской, зависит от того, чтобы она оставалась в опасности. Хотя Девушкин не в состоянии действовать, поскольку он сублимирует свои желания в литературную форму, для него одновременно характерны побуждения как защитника, так и хищника. Желание защитить неотделимо от желания изнасиловать, и оба они связаны с побуждением восстать против существующего порядка вещей[9 - Джозеф Франк косвенным образом отмечает эту связь, когда говорит об «идеологической борьбе» Девушкина: «борьбе с мятежными мыслями, неожиданно возникающими у него под давлением его эмоционального участия в судьбе Варвары и находящимися в таком противоречии с безусловным повиновением, которое он принимал как неизменную линию поведения до этого момента» [Frank 1976: 140] (курсив мой. – К. А.). В. Е. Ветловская также допускает возможность более широкого истолкования бунта Макара Девушкина. Восставая против существующего порядка, он теряет невинность. См. [Ветловская 1988: 131].].
Устанавливая предпосылки для дальнейшей переписки Вареньки и Девушкина, это первое письмо также привносит эротическое напряжение, которое будет поддерживаться на протяжении всего романа. В процессе переноса на бумагу стыдливо скрываемое – преступные сексуальные желания, мысли о бунте – становится явным. О ключевом значении понятия частной жизни – и сопутствующей ему необходимости хранить тайны – для становления западного романа давно и много говорилось в литературоведении[10 - См. [Watt 1957].]. Значительная часть западной литературы после «Исповеди» Руссо построена на противоречии между осознаваемой автором необходимостью хранить тайны и его же желанием говорить правду. Роман, в особенности эпистолярный роман в том виде, в каком он развивается в XVIII веке, «вторгается в частную сферу, открывая ее в ходе безусловно публичного процесса писания» [Brooks 1993: 32]. Литература неизбежно обращается к тайнам сексуальной жизни, причем рассказчики играют роль вуайеристов. Достоевский выдвигает эти факторы на первый план, выбрав эпиграф из Одоевского, где иронически осуждаются претензии прозаиков на обладание истиной: «Ох уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают!., право бы, запретил им писать; так-таки просто вовсе бы запретил» [Достоевский 1972а: 13]. Слово «подноготная», которое, как напоминает нам Сьюзен Фуссо, означает грязь под ногтями [Fusso 2006: 12], подразумевает многообразные формы натурализма, но в особенности символизирует раскрытие сексуальных секретов[11 - Слово «подноготная» мигрирует из этого эпиграфа в уста преувеличенно сексуального персонажа в одном из следующих романов (Валковский в «Униженных и оскорбленных» (1861)): «Если б только могло быть, чтоб каждый из нас описал всю свою подноготную, <…> то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад» [Достоевский 1972в: 361].]. Это опасная форма эксгибиционизма – подчеркнуто литературная, укорененная в книгопечатании и неотделимая от своего времени и места. Пожалуй, в России,
где по западным образцам был создан совершенно новый литературный язык, тревога по поводу контакта людей с печатной литературой сильнее, чем в Западной Европе. Особенно велика эта опасность для невинных девиц, которых развращает чтение книг, дающих тайные знания и возбуждающих чувства. Наиболее откровенно эта тема была воплощена в литературе через десять лет после публикации «Бедных людей» в тургеневском (также эпистолярном) романе «Фауст» (1856), представляющем собой хронику падения и смерти добродетельной молодой жены, причиной которых стало знакомство с шедевром Гёте. Девушкин осведомлен об опасности пренебрежения табу: «Стихи вздор! За стишки и в школах теперь ребятишек секут…» [Достоевский 1972а: 20], – но тем не менее продолжает писать. С другой стороны, предполагаемый соблазнитель и впоследствии жених Вареньки Быков, человек практичный, избегает мира литературы. Варенька сообщает о его предупреждениях не верить показному альтруизму Девушкина: «[Он сказал], что всё вздор, что всё это романы, что я еще молода и стихи читаю, что романы губят молодых девушек, что книги только нравственность портят и что он терпеть не может никаких книг» [Достоевский 1972а: 100]. Для моей интерпретации «Бедных людей» важнейшее значение имеет то, что Быков находится вне территории литературного творчества, и то, что он цитируется здесь в качестве защитника нравственности. Мы, читатели, защищенные от истины множеством слоев повествования, не в состоянии встретиться с ним; он, будучи реальным существом, не может проникнуть в книгу. Противостояние героев романа ясно выражено: Девушкин является сторонником литературы, Быков – ее противником, а Варенька оказывается между ними, как между молотом и наковальней. «Бедные люди» – это роман о встрече плоти и книги.
Здесь нам стоит вспомнить об архетипическом романе в письмах – переписке средневекового философа Абеляра (1079–1142) и Элоизы, которую некоторые исследователи считают первой современной любовной историей. Бывший бродячий логик (в XII веке существовала и такая профессия) Абеляр поселился в Париже и стал читать лекции по философии. Там он встретился с прекрасной, одаренной блестящим умом Элоизой, которая была более чем на двадцать лет младше его, и ее дядя неблагоразумно доверил ему ее образование. В автобиографии учитель вспоминает о своем удивлении, что «до такой степени сильно он упрашивал меня, что согласился с моими желаниями <…> и следовал из любви, вручая всю ее нашему наставничеству… Я был весьма удивлен такой его простоватостью в этом деле, и про себя не менее изумлялся тому, что он вручал столь нежную овечку голодному волку» [Абеляр 2011: 15]. От уроков философии учитель перешел к урокам любви. Последующие события – соблазнение ученицы, рождение ребенка, двусмысленный брак и борьба за власть, замешанная на гордыне, стыде и семейной чести, – приводят к тому, что Элоизу в конечном счете заточили в монастырь, а оскопленный Абеляр оказался вынужден снова обратиться к ученым занятиям. Их переписка начинается в этот момент. Невозможность очного общения и сексуальное воздержание обусловливают воплощение любви в литературную форму.
Само положение Девушкина в материальном мире маргинально: он представляет собой психологическую абстракцию. Соответственно, он подыскал себе место обитания, максимально открытое окружающему миру и минимально защищенное физически: открытый угол в наиболее доступном для всех помещении в доме[12 - Маргинальное обиталище Макара Девушкина связывает его с Человеком из подполья, который обитает в промежуточном пространстве и чье затруднительное материальное положение во многих отношениях напоминает положение Макара Алексеевича. Оба героя пугающе бестелесны. Кухня может быть истолкована как символическое пространство, в котором появление потусторонних сил более вероятно, чем где-либо еще. См. [Morson 1978: 224–225].]. На протяжении всего романа Девушкин указывает на зыбкость своих связей с материальным миром: «Ну, что я перед ним [Ратазяевым], ну что? Ничего» [Достоевский 1972а: 51]; «Я скрываю, я тщательно от всех всё скрываю, и сам скрываюсь» [Достоевский 1972а: 75]; «до вас, ангельчик мой, я был одинок и как будто спал, а не жил на свете» [Достоевский 1972а: 82]; «я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было» [Достоевский 1972а: 92]. Достоевский метонимически усиливает впечатление бесплотности Девушкина, неоднократно указывая на оборванную одежду своего героя. Девушкина, по-видимому, не заботит его физическая уязвимость перед лицом погоды, хотя обычные жители холодного и дождливого Петербурга имеют все основания ее опасаться. Скорее его одежда служит лишь одной функции: защищать его честь или даже скрывать его стыд. Он высказывает это напрямую, когда сравнивает необходимость для «бедного человека» скрывать свою частную жизнь с необходимостью для Вареньки хранить свою скромность. Причиной стыда, который испытывает Девушкин, наряду с его бедностью являются его тайные желания. Его денежные затруднения лишь отчасти можно считать следствием несправедливой социальной системы. Девушкин имеет постоянную работу и достаточное (хотя и не позволяющее роскошествовать) жалованье; на самом деле то, что он ходит оборванцем, – следствие того, что он безрассудно тратит деньги на подарки Вареньке. Постепенный износ его костюма по ходу действия становится постоянным напоминанием о его желании, сопряженном с чувством собственной вины.
Допустив предположение, что любовь Девушкина к Вареньке не невинна, мы окажемся перед задачей заново осмыслить сюжет «Бедных людей», скептически относясь к тому, что герои говорят о своем прошлом. Относительно биографии Вареньки среди литературоведов существует следующее единодушное мнение: Лишившись отца и его состояния, эта невинная деревенская девушка оказалась оставлена на милость сводни Анны Федоровны, которая взяла ее к себе в дом и стала воспитывать, чтобы продать тому, кто подороже заплатит. Варенька влюбилась в бедного, но благородного юношу по фамилии Покровский, жившего с ней под одной крышей. Покровский умер от болезни, вызванной бедностью. Его биологический отец Быков, расточительный, развратный, жестокий и богатый человек, соблазнил Вареньку и бросил ее так же, как ранее – мать Покровского.
Варенька опозорена и, поскольку гордость не позволяет ей принять плату за свой позор, предпочитает жить в нужде; ее утешает Девушкин, самоотверженный, бедный, но обожающий ее сосед и дальний родственник. Когда в конце концов Быков возвращается, у нее нет другого выхода, кроме как выйти за него замуж, лишив себя нежной романтической любви.
Давайте рассмотрим этот сюжет повнимательнее. Откуда нам известно, что Быков действительно соблазнил Вареньку? Что, если она ему отказала и это проявление строптивости и стало причиной того, что она лишилась покровительства Анны Федоровны? В пользу такого истолкования текста говорят несколько фактов. Во-первых, это сам сюжет. Сравнивая «Бедных людей» с романами Сэмюэля Ричардсона, Виктор Террас указывает на его неправдоподобность:
Зачем Быкову в конце романа возвращаться, чтобы жениться на болезненной и не имеющей за душой ни гроша девушке, которую он уже соблазнил? С точки зрения сюжетных ходов самих по себе история того, как Варенька Доброселова стала г-жой Быковой, не оригинальна и не слишком интересна. Она безусловно неправдоподобна [Terras 1969: 78].
Тезис Терраса вполне обоснован, и, само собой разумеется, ценность «Бедных людей» как литературного произведения никак не зависит от «правдоподобия» их сюжета. Однако предложение руки и сердца, сделанное Быковым в конце романа, было бы вполне правдоподобным, если бы на самом деле ранее Варенька отвергла ухаживания Быкова, одновременно проявив свою добродетельность и воспламенив его желание[13 - Подобно всем остальным известным мне исследователям романа «Бедные люди», Джо Эндрю не ставит под вопрос реальность этого ключевого события; более того, считая Быкова злодеем, он называет прочтение Терраса, в котором сквозит скептицизм, «необычным». Кроме того, Эндрю полагает, что ни Анна Федоровна, ни Быков «не занимают центрального места в диегезисе романа» [Andrew 1998: 174].].
Литературная традиция также свидетельствует в пользу подобной интерпретации, поскольку сюжетная линия Вареньки и Быкова повторяет сюжет сентиментального романа в письмах Ричардсона «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740 год), ставшего заметным явлением в русском литературном мире с момента его перевода на русский язык в 1790 году [Alt-schuller 1989: 95]. Памела, добродетельная, но бедная девица, успешно сопротивляется неоднократным попыткам мистера Б., в доме которого она живет в качестве служанки, соблазнить ее; в конце концов он, покоренный обаянием добродетели девушки, женится на ней. В истории Вареньки многое походит на этот роман. Многочисленные упоминания одежды героя и героини (Памела вышивает своему хозяину жилет, который спешит закончить до того, как покинет его дом; ср. историю жилетки, которую, как пишет Варенька, она шьет Девушкину (письма от 27 июня, 7 июля и 4 августа); имя «мистер Б.» (ср. «г-н Быков»); богатство, влиятельность и явное распутство предполагаемого соблазнителя (включая поучительные напоминания в виде истории ранее соблазненной им девушки и ее ребенка (Салли Годвин и ее дочь в «Памеле»; мать Покровского в «Бедных людях»)) и, главное, торжество героини в конце романа (ее брак с хозяином) – во всех этих элементах роман Достоевского перекликается с книгой Ричардсона.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68361821) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Краткое описание событий той знаменательной ночи см. в примечаниях редакторов в [Достоевский 1972а: 465–466].
2
«Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло всё, что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным» [Достоевский 1976:290].
3
См. [Касаткина 1996].
4
Эмерсон цитирует Джексона по [Jackson 1966: 52].
5
Читатели, желающие изучить в подробностях богословские и философские взгляды Достоевского, могут ознакомиться с некоторыми замечательными современными исследованиями, в том числе: [Knapp 1996; Scanlan, 2002; Cassedy 2005; Jones 2005].
6
См. фундаментальное исследование В. В. Виноградова о русских литературных истоках «Бедных людей» [Виноградов 1929: 291–389]. «The Young Dostoevsky» Виктора Терраса остается наиболее глубоким англоязычным исследованием различных литературных традиций, оказавших влияние на «Бедных людей»; см. [Terras 1969].
7
См. [Rosenshield 1986: 525].
8
Возможно, Достоевский узнал об этом стихотворении от своего близкого друга И. Н. Шидловского, что, учитывая значительное личное влияние Шидловского на него, лишь делает этот образ более убедительным. Якубович [Якубович 1991: 54–55] анализирует сложности мотива «хищной птицы» и его появление в русской литературе соответствующего периода с полезными подробностями.
9
Джозеф Франк косвенным образом отмечает эту связь, когда говорит об «идеологической борьбе» Девушкина: «борьбе с мятежными мыслями, неожиданно возникающими у него под давлением его эмоционального участия в судьбе Варвары и находящимися в таком противоречии с безусловным повиновением, которое он принимал как неизменную линию поведения до этого момента» [Frank 1976: 140] (курсив мой. – К. А.). В. Е. Ветловская также допускает возможность более широкого истолкования бунта Макара Девушкина. Восставая против существующего порядка, он теряет невинность. См. [Ветловская 1988: 131].
10
См. [Watt 1957].
11
Слово «подноготная» мигрирует из этого эпиграфа в уста преувеличенно сексуального персонажа в одном из следующих романов (Валковский в «Униженных и оскорбленных» (1861)): «Если б только могло быть, чтоб каждый из нас описал всю свою подноготную, <…> то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад» [Достоевский 1972в: 361].
12
Маргинальное обиталище Макара Девушкина связывает его с Человеком из подполья, который обитает в промежуточном пространстве и чье затруднительное материальное положение во многих отношениях напоминает положение Макара Алексеевича. Оба героя пугающе бестелесны. Кухня может быть истолкована как символическое пространство, в котором появление потусторонних сил более вероятно, чем где-либо еще. См. [Morson 1978: 224–225].
13
Подобно всем остальным известным мне исследователям романа «Бедные люди», Джо Эндрю не ставит под вопрос реальность этого ключевого события; более того, считая Быкова злодеем, он называет прочтение Терраса, в котором сквозит скептицизм, «необычным». Кроме того, Эндрю полагает, что ни Анна Федоровна, ни Быков «не занимают центрального места в диегезисе романа» [Andrew 1998: 174].
Кэрол Аполлонио
«Современная западная русистика» / «Contemporary Western Rusistika»
Для подлинного постижения глубинного значения текста требуется не просто поверхностное чтение, требуется «прыжок веры», предполагающий, что в тексте содержится нечто большее, чем просто слова и факты. Исследование американского литературоведа К. Аполлонио, предлагая особый способ чтения – чтение против течения, сквозь факты, – обращается к таким темам, как вопросы любви и денег в «Игроке», носители демонического начала в «Бесах» и стихийной силы в «Братьях Карамазовых».
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Кэрол Аполлонио
Секреты Достоевского. Чтение против течения
Мэгги и Нику
Carol Apollonio
Dostoevsky’s Secrets
Reading Against The Grain
Northwestern University Press / Evanston, Illinois
2009
Перевод с английского Евгения Цыпина
© Carol Apollonio, text, 2009
© Northwestern University Press, 2009
© E. А. Цыпин, перевод с английского, 2020 © Оформление и макет
ООО «БиблиоРоссика», 2020
Слова благодарности
Великие писатели наполняют мир своим духом. Задача критики состоит в том, чтобы поддерживать в нем жизнь. Лучший критический анализ – тот, который стремится найти точку равновесия между свежестью нового взгляда и мудростью сложившихся научных представлений. Мне посчастливилось читать и обсуждать произведения Достоевского как с блестящими студентами, так и с мудрыми исследователями и друзьями. На создание этой книги ушло несколько лет. Каждое из составляющих ее эссе – это упражнение в герменевтике, попытка осмыслить литературное произведение, не навредив его духу. Отдельные главы этой книги возникали в виде докладов, прочитанных на научных конференциях, где их обогащали ценные комментарии и критика уважаемых коллег. Разговоры со студентами и постоянное перечитывание произведений Достоевского не позволили этим интерпретациям окостенеть и превратиться в незыблемую догму. Они – переменчивые плоды непрерывного диалога.
Я благодарна многим замечательным людям. Кэрил Эмерсон прочла всю рукопись и дала к ней основательные, всесторонние и исключительно ценные замечания. Помимо неоценимой помощи и консультаций, Дебора Мартинсен с неослабевающей энергией не только поддерживала мои идеи и откликалась на них, но и оспаривала, обуздывая те из них, в которых видела опасность. Эми Миллер нянчилась с моим проектом с самого начала, еще с тех далеких времен, когда я даже не понимала, что он будет посвящен Достоевскому. Несколько коллег читали отдельные главы по мере их написания и делали замечания к ним. Особенно ценную поддержку при этом оказали Робин Фейер Миллер и Донна Тассин Орвин. Сюзанн Фуссо, Пол Дебрецени, Денис Мицкевич, Карен Степанян, Ник Флэт и Малколм Джонс щедро делились со мной своим временем и идеями. Ольга Меерсон, Нина Перлина, Орест Пелех, Джулиан Конноли, Наталья Кононенко, Кент Ригсби, Ричард Пис, Татьяна Бузина-Ковалевская, Татьяна Касаткина, Томас Лахусен и Дженнифер Патико помогли мне ценными комментариями. Кристин Воробец, Лиза Кнапп, Мелисса Энн Джонс, Нариман Скаликов и Энн Хруска поделились со мной своими неопубликованными работами. Я особенно благодарна Марсии Моррис, Кэти Попкин, Питеру Роллбергу, Стивену Бэру, Алексу Огдену, Джуди Калб, Наталии Ашимбаевой, Борису Тихомирову, Памеле Качурин и Эрику Зитцеру за критические отзывы на ключевых этапах, не давшие мне сбиться с пути. Маделайн Левин, Ингеборг Вальтер, Карен Уиллис, Деб Рейзингер, Джо Мозур и Беки Хейз показали мне пример дружеской поддержки в сочетании с профессионализмом, которому я стараюсь следовать. Я благодарна за крепкую дружбу Джоанне Ван Туйл, Линде Смит, Пегги Абрамс и Микаэле Джанан. Дотошные анонимные читатели отшлифовали мою работу до такого совершенства, какое я едва ли могла себе представить. Трэйси Снид, Марк Гарбрик, Трой Уильямс, Тедд Уолтер и Гейл Джонс помогли моим идеям пробиться через казавшиеся непроходимыми дебри технологии. Моя благодарность, теплые чувства и уважение к ним за общительность, доброту, компетентность и положительное отношение ко мне неизменна.
Университет Дьюка оказал мне поддержку в виде грантов, позволивших совершать поездки на конференции в течение последних десяти лет, и двух своевременных творческих отпусков. Его факультет славяноведения и евразийских исследований, проректор по международным делам и Центр славяноведения, евразийских и восточноевропейских исследований также помогли мне в моих поездках. Значительная часть этой книги сварилась в кофейне «Сир A Joe» в Рали.
Выражаю благодарность специалистам из издательства Северо-Западного университета, особенно Майку Левайну, Дженни Гавач и Джессике Помье. Особой благодарности заслуживает редактор текста Пол Мендельсон за его замечательную работу.
Книга «Секреты Достоевского» осталась бы лишь своим бледным и слабым подобием без энергии блестящих и бесстрашных студентов, в том числе Фреда Бансона, Бриджит Бэйли, Джеффа Берксона, Скайллера Борглума, Эмми Кэш, Дарлы ДеФранс, Паломы Дуонг, Джозефа Фицпатрика, Джима Голдоса, Дугласа Голдмахера, Линдси Хансон, Меган Гаррис-Перо, Анджелы Перес, Пейдж Рейтер, Райана Смита, Кори Собел, Люси Стрингер, Стивена Санмоню, Хрвое Тутека, Джессики Уилсон, Кэла Райта, Оры Янг, жителей студенческого общежития Уилсона и многих, многих, многих других. Я глубоко благодарна за то, что их становится все больше и больше.
Несмотря на всю сложность отношений в нашей семье, достойную пера Достоевского, моя любовь к ней неизменна. Моя работа не имела бы никакого смысла без поддержки Элизабет Халлингер, Виктории Хенсон-Аполлонио, а также Карлтона, Хезер, Сьюзен, Джима и Стивена Аполлонио. Я особенно благодарна Джиму и Вики за то, что они открыли мне двери своего дома, а также Стивену и Джиму – за пример мастерства в работе, который они мне подали: если моя книга окажется не хуже их домов и глиняной посуды, я буду удовлетворена. Мои дети, Мэгги и Ник Флэт, помогают оценить истинный масштаб происходящего вокруг, и им я посвящаю эту книгу – с любовью и самыми светлыми надеждами на их будущее.
Вступительные примечания
В тех случаях, когда мы выделяем часть цитаты курсивом, это всегда поясняется примечанием в скобках. Если такое примечание отсутствует, курсив принадлежит автору цитаты.
Многоточия в угловых скобках указывают на сокращения. Многоточия, не заключенные в такие скобки, являются частью процитированного текста.
Все цитаты из произведений Достоевского приведены по Полному собранию сочинений Ф. М. Достоевского в тридцати томах (Л.: Наука, 1972–1990). Угловые скобки в цитатах из Полного собрания сочинений перенесены из оригинала и указывают на редакторские примечания. При цитировании Полного собрания сочинений в тексте указываются том и номер страницы; там, где это применимо, указывается также номер книги с сокращением «кн.».
Все цитаты из Библии приведены по русскому синодальному переводу.
Введение
Каждое великое произведение искусства должно дополняться подробным рассуждением, если угодно, истолкованием сути вещей.
Платон
Тот, кто лжет, говорит лишь то, что для него естественно, то, что присуще ему одному.
Блаженный Августин
Эта книга представляет собой лишь часть диалога, начавшегося майским вечером 1845 года, когда друг Достоевского Д. В. Григорович сел читать рукопись его первого романа «Бедные люди». Григорович прочел ее не отрываясь, а затем побежал среди ночи известить мир о рождении нового Гоголя[1 - Краткое описание событий той знаменательной ночи см. в примечаниях редакторов в [Достоевский 1972а: 465–466].]. Несмотря на разделяющее нас время и расстояние, мы принадлежим к одному с ним сообществу читателей. Если бы произведения Достоевского не содержали неких сохранивших до наших дней свое значение истин о человеческой природе, мы бы не читали их сегодня. Что же привлекает нас в них и по сей день?
Стиль Достоевского – это запечатленные на бумаге попытки выразить словами истину, которую слабым силам человеческого разума не под силу уразуметь, а человеческому языку – передать. Его наиболее запоминающиеся герои – Раскольников, Человек из подполья, Иван Карамазов – это разумные создания, разум которых не может осмыслить окружающий их мир. Все их попытки мыслить рационально приводят к противоречиям и парадоксам; все их попытки действовать, руководствуясь разумом, приводят к насилию и боли. Самые запоминающиеся сцены в этих романах – это диалоги между носителями противоположных идей; однако в этих спорах, сколько бы они ни длились, не рождается истина. Истину необходимо почувствовать в тот миг, когда слова сходят со страницы и возвращаются в мир. Таким образом, главное – не то, что узнал Григорович, читая «Бедных людей», а та таинственная сила, которая посреди ночи сорвала его с кресла и заставила рассказать о том, что он прочел.
Произведения Достоевского, как, собственно, и сама его жизнь, являются примером драматического приятия истины, которую невозможно логически доказать. Это очевидно затрудняет задачу критикам. В конце концов, наш материал – это факты (текст), наши орудия – это слова; а наша задача – объяснять художественные произведения. Может ли анализ помочь нам что-либо понять? Зачем начинать, если с самого начала дело кажется обреченным на неудачу? И тем не менее эта книга существует. Почему? Я не претендую на то, что в ней я отвечу на вопросы, которые ставит Достоевский в своих романах. Это просто рассказ о встрече одного человека с несколькими замечательными литературными произведениями и попытка поддержать с ними диалог.
Если критик делает выбор в пользу явно выраженного и очевидной аргументации, это может привести к излишне поверхностному взгляду. Используя грамматический термин, мы можем определить этот уровень эксплицитного значения в нарративе как «изъявительное наклонение». Критика должна с этого начинаться, говоря «о том, что написано, а не о чем написано» [Kermode 1979: 136]. Однако изъявительное наклонение имеет дело только с фактами, а творчество Достоевского шире – оно имеет отношение к великой символической истине, которую невозможно высказать напрямую. Мы приходим к этой истине через «сослагательное наклонение» – язык снов, желаний и нематериальной реальности. У читателей всегда есть выбор, какой подход предпочесть: языковая оболочка одинакова независимо от того, ищем мы факты или истину. Однако для постижения глубинного значения требуется «прыжок веры», требуется уверовать в то, что в тексте и в жизни содержится нечто большее, чем одни лишь факты и выражающие их слова. Чтобы оценить творчество Достоевского по достоинству, читатели должны перестать доверять тому, что лежит на поверхности, и перестать верить во власть изъявительного наклонения. Перед одержимыми рассудочными идеями героями Достоевского в их слепом поиске понимания стоит та же проблема. Анализируя действие эвклидова и неэвклидова мышления у Достоевского, Г. С. Померанц описывает этот поиск, приводя пример из практик дзен-буддизма:
Дзэн-буддизм добивается своеобразного просветленного состояния, «пробуждения» (яп. «сатори») с помощью шока. Методы шока применяются разные, но главным из них является интеллектуальный шок. Ученику дается явно неразрешимая задача, коан. Задача имеет ответ, и наставник его знает. Задача неразрешима, абсурдна с точки зрения «эвклидовского» разума. Но для какого-то высшего разума она разрешима. <…> В конце концов ученика охватывает «великое сомненье». В отчаянье, как бы над действительной пропастью, он наконец срывается, падает – ив самый страшный миг осознает, что разум и поставленный вопрос взаимно абсурдны, и если вопрос (вопреки очевидности) имеет ответ, то абсурден (в каких-то отношениях) эвклидовский разум. Возникает вспышка сверхсознания, парящего над неразрешимыми вопросами. Для этого сознания мир внезапно становится освобожденным от всех проблем, единым и цельным [Померанц 1989: 64–65].
Коан в дзен-буддизме начинается как интеллектуальная задача и заканчивается отказом от возможности получить какой-либо ответ, который может быть выражен доступными интеллекту средствами. В романах Достоевского запечатлен аналогичный поиск смысла. Его герои без конца размышляют, без конца говорят, но мысли и слова лишь уводят их прочь от истины. Смысл появляется, когда кончается диалог, в мгновения бессловесного понимания. Нарратив сменяется откровением. Эти мгновения бывают отмечены драматическим жестом: земным поклоном, объятием, поцелуем. Персонаж входит в «соприкосновение с таинственными иными мирами» и обретает в грезах и видениях истину, ничуть не менее убедительную, чем та, которую мы познаем в часы бодрствования[2 - «Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло всё, что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным» [Достоевский 1976:290].]. Но коан – это только начало, поскольку видение Достоевского глубоко христианское. В его романах запечатлена драма борьбы человека за христианскую, а точнее, православную веру. Откровение не может прийти без борьбы; в этом смысле искусство Достоевского – это по сути своей искусство слова, нарратива и сюжета. Но Достоевский идет дальше коана, маркируя мгновения, когда его персонажам даруется откровение, характерно христианскими визуальными образами восточной традиции. Например, в эпилоге «Преступления и наказания» Соня Мармеладова является Раскольникову в виде иконы Богоматери[3 - См. [Касаткина 1996].]. Когда Раскольников позволяет своему рациональному мышлению замолчать, его зрение проясняется и к нему приходит спасение:
Раскольников сидел, смотрел неподвижно, не отрываясь [на бескрайнюю сибирскую степь за рекой]; мысль его переходила в грезы, в созерцание; он ни о чем не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила.
Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и села с ним рядом. Было еще очень рано, утренний холодок еще не смягчился. На ней был ее бедный, старый бурнус и зеленый платок. Лицо ее еще носило признаки болезни, похудело, побледнело, осунулось. Она приветливо и радостно улыбнулась ему, но, по обыкновению, робко протянула ему свою руку. <…> Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени [Достоевский 19736: 421] (курсив мой. – К. А.).
Читателям описание прозрения Раскольникова зачастую кажется неубедительным. Скорее всего, дело в том, что основная идея Достоевского полностью основана на зашифрованном образе Сони как Богоматери – образе, который функционирует скорее на символическом, чем на реальном (изъявительном) уровне текста. До этого момента нас привлекала именно интеллектуальная борьба Раскольникова, и нам также не хочется расставаться с ней. Но если мы с ней не расстанемся, Соня останется лишь таким же персонажем, как любой другой, хотя и более праведным и благочестивым по сравнению с большинством, и объяснить произошедшее между ними будет невозможно.
Таким образом, поэтика Достоевского в значительной мере основана на мощных визуальных образах. Они могут быть представлены эксплицитно, как копия изображающей мертвого Христа картины Гольбейна в «Идиоте» или как скрытый намек, как появления Сони Мармеладовой в ходе повествования в «Преступлении и наказании». Изображения и немые жесты передают истины, недоступные на обыденных уровнях нарративного дискурса. В то же время было бы ошибкой преувеличивать истиностную ценность изображения у Достоевского, поскольку в его произведениях истина познается благодаря взаимодействию между нарративным и визуальным смысловыми уровнями. Образ может выполнить свое предназначение только тогда, когда герой произведения исчерпал возможности изъявительного наклонения, пройдя, подобно своему создателю, через «горнило сомнений» [Достоевский 1976: 77]; чтобы прозреть, герой должен замотать.
Принимая в расчет сложное взаимодействие визуальных и нарративных сил в творчестве Достоевского, мы можем примирить две до сих пор не имевшие между собой ничего общего критические традиции: бахтинскую (диалогическую, ориентированную на слово) и джексоновскую (ориентированную на образ) интерпретации. Как сформулировала Кэрил Эмерсон, в представлении Роберта Льюиса Джексона «быть счастливым в самом высоком смысле – это, с точки зрения Достоевского, знать, как смотреть на вещи, как воспринимать красоту. Это высшее восприятие красоты – откровение» [Emerson 1995: 250][4 - Эмерсон цитирует Джексона по [Jackson 1966: 52].]. Джексон фокусирует внимание на «вертикальной оси», т. е. на запечатленном или преображенном пространстве-времени как средоточии смысла [Emerson 1995: 253]. С другой стороны, М. М. Бахтин видит Христову истину в слове, и его работы посвящены прежде всего анализу языка, действующего в романах Достоевского на горизонтальной оси смыслов: временного, линейного и коренящегося в обычном времени диалога. Бахтин, как пишет Эмерсон, отдает предпочтение Воплощению перед Откровением или Воскресением. Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки: прочтение, сосредоточенное на визуальных образах, упускает из виду скрытую игру смыслов в многослойных диалогах, а прочтение, сосредоточенное на слове, может быть слепо к многозначительному молчанию или символическим элементам в художественном произведении.
Чтобы оценить по достоинству сложность и глубину творчества Достоевского, мы должны учитывать взаимодействие между этими двумя уровнями смысла. Я выскажусь в пользу апофатического подхода к интерпретации текста. Апофатическое, или отрицательное, богословие – это дискурс, который «отрицает возможность назвать трансцендентное или приписать ему какие-либо свойства». Эта традиция берет начало в литературных памятниках VII–V веков до нашей эры и особенно ярко проявляется в трудах Псевдо-Дионисия Ареопагита. Само слово «апофазис» означает «неговорение» или «высказывание в противоположном смысле» и является антонимом катафазиса, который означает «утверждение, высказывание в прямом смысле». Язык неспособен вполне передать сущность Бога, поэтому «разум приносит наибольшую пользу тогда, когда он подсказывает имена, “составляющие нечто вроде каталога или перечня отрицательных качеств, которых Бог лишен”» [Russell 2001: 226] (курсив мой. – К. А.). Короче говоря, любая попытка выразить истину словами умаляет ее. Достоевский моделирует этот процесс с помощью своих многословных персонажей. Они без умолку болтают, заставляя истину съеживаться и отдаляться, пока она не мутирует в ложь. Мы видим эту ложь, но не должны верить ей; тем не менее мы должны ее уважать, поскольку она хранит следы первоначальной, скрытой истины. Если, читая произведения Достоевского апофатически, мы считаем видимое на поверхности маской или наносной шелухой, оно больше не препятствует нашему постижению истины. Мы подвергаем свои предположения сомнению: чем более очевидным, логичным и убедительным выглядит тот или иной тезис, тем больше вероятность того, что на более глубоком уровне он ложен. Ключом к пониманию является не доказательство, а вера.
Зловещая внешняя сторона романа «Бесы» может создать читающему апофатически наибольшие проблемы, но и вознаградит сполна. Этот роман кончается катастрофой; большая часть главных героев убита, включая Шатова, в наибольшей степени приблизившегося к тому, чтобы стать носителем религиозных идей Достоевского. Поверхностное чтение, ориентированное на сюжет, оставит у нас в памяти лишь смерть и разрушение. Но если мы дадим себе увидеть лишь «факт в изъявительном наклонении» жестокого убийства в Скворешниках, мы, возможно, не осознаем, что рассказ о Шатове также несет в себе идею искупления и надежды. Ведь он совершил невозможное: простил свою неверную жену и признал рожденного ею от другого мужчины ребенка своим. Достоевский сочетает рассказ о поступке Шатова, который возможно передать лишь нарративными средствами, с мощным религиозным образом. Прежде чем позволить Шатову умереть, Достоевский собирает их втроем с женой и ребенком в иконический образ «святого семейства»: невинная мать, младенец и счастливый отец. Повествование с лежащей в его основе нравственной идеей и образ, взаимодействуя, передают глубинную истину. Читатели могут выбирать, увидеть ее или сосредоточиться на других, более грубых предметах, доступных любому случайному наблюдателю.
В русской культуре этот фундаментальный разрыв между фактами и истиной принимает вид старого противопоставления закона и благодати [Есаулов 1994: 32–60]. Достоевский объявляет себя «реалистом в высшем смысле», поскольку факты не имеют для его истины существенного значения [Страхов 1883: 373]. Автор защищается от читателей, которым трудно поверить в то, что им рассказывают: слишком много совпадений, слишком много насилия, описываемые события маловероятны. Но разве нельзя сказать то же самое о художественной литературе в целом? Она опровергает и попирает наши успокаивающие представления об устройстве мира и предоставляет доступ к скрытой, имманентной сути вещей. Таким образом, произведения Достоевского заряжаются энергией от читателей, которые видят скрытое за примитивной логикой внешних событий, распознают глубинную суть текста. Мы преодолеваем деконструктивистские подходы, в рамках которых текст разбирается на составные части, демонстрируя лишь разлад, хаос, гнет и смерть автора. Литературные произведения – по самой своей природе – искушают чутких читателей посланиями; они говорят от имени тех, чьи голоса зачастую не слышны: угнетенных слоев населения, низших экономических классов общества, этнических меньшинств, женщин. Однако, как давно показали формалисты, социальный альтруизм, фокусируясь таким образом на фактах реальности, может привести к тому, что мы не заметим литературных фактов, в которых заключена глубинная правда текста. Это не зависит от справедливости социального протеста. При этом историческая личность Достоевского не может служить нам ориентиром. Хотя он был гением, он был таким же слабым человеческим существом, как любой из нас. Как этому антисемиту, милитаристу, противнику женской эмансипации и русскому империалисту, как некоторые читатели называют его, удалось создать такие великие произведения? Это выглядит несправедливым, это невозможно понять, и это не имеет значения. К счастью, мы читаем Достоевского не ради идей, озвученных им в «Дневнике писателя», а ради грандиозной художественной силы «Записок из подполья» и «Братьев Карамазовых».
Идеи Достоевского глубоки и заразительны. Однако, несмотря на сильнейшее влияние, которое он оказал на современную философию и богословие, он не философ, а романист. Его идеи в своих лучших проявлениях воплощены в художественных текстах, и источником их влияния является сама форма выражения. По этой причине я уделяю внимание в первую очередь не содержанию, историческому фону и значению его идей, а их функции органического компонента его романов[5 - Читатели, желающие изучить в подробностях богословские и философские взгляды Достоевского, могут ознакомиться с некоторыми замечательными современными исследованиями, в том числе: [Knapp 1996; Scanlan, 2002; Cassedy 2005; Jones 2005].]. В этом случае первостепенное значение получает признание важности эмоций и ощущений в литературоведении. В конце концов, слово «эстетика» происходит от греческого ?????????? (ощущать, воспринимать). Впервые этот термин в современном смысле использовал мыслитель XVIII века Александр Баумгартен как название области знаний, связанной с чувствами. В противоположность «четко выраженным абстрактным идеям, которые изучает логика, <…> эстетика всегда была тесно связана с сенсорным опытом и теми чувствами, которые возникают в связи с ним» [Feagin 1999: 12]. Идейные романы Достоевского являются особенным искушением для читателей, которых привлекает другая, «логическая» ветвь познания. Из всех романистов именно он предоставляет наиболее обильную пищу для тех, кто интеллектуально голоден. Однако это неизбежно приводит к отрицанию иррациональных, зачастую недоступных глазу сил эмоций и страстей, которые и заряжают эти тексты такой могучей энергией. Моя цель состоит в том, чтобы исследовать мастерские манипуляции Достоевского, используя инструменты повествовательного искусства, динамику этих двух способов познания.
Если об основной идее Достоевского и можно сказать что-то определенное, звучит оно так: обособленность приводит к фальши и потере связи с реальностью. Подобно тому как скептическое отношение к поверхностной власти слов заставляет нас читать между строк, подобно тому как искусство литературной критики оказывается попыткой преодолеть обособленность отдельных читателей, истину также следует искать не внутри героев Достоевского, а в пространстве между ними. Это непростая задача. Современная личность – это социальный конструкт; человек сам по себе – фикция и ложь. Человек из подполья оторван от реальности, поскольку он живет в мире абстрактных идей и не имеет полноценных связей с другими людьми. Его одиночество, как и одиночество Раскольникова, Ивана Карамазова и других, – причина его страданий. Эти герои пытаются убедить себя в том, что они могут обрести истину самостоятельно. Их мышление ограничено областью чистого разума – наукой и логикой. Их интеллектуальная гордыня делает их уязвимыми для бесовской заразы, чрезмерного рационализма, разочарования и в конечном счете – и это художественное новшество Достоевского – вынуждает их совершать акты насилия. Лишь причинив боль другим, они начинают понимать, что не одни. При этом они в буквальном смысле слова не могут помочь самим себе — поскольку, когда разум и дух отделены от плоти, преступные действия становятся неизбежными. Оставшись без управления, плоть действует согласно законам природы, или, если воспользоваться формулировкой Лизы Кнапп [Knapp 1996], движется по инерции. Тело совершает стихийные акты насилия: убийство старухи-процентщицы, молодой жены или отца; изнасилование ребенка.
Предполагаемый выход из смертельного для героев Достоевского состояния одиночества, заставляющего их совершать преступления, во всех его романах одинаков: они должны принять реальность мира за пределами собственного сознания и броситься в живую правду межчеловеческих контактов. Мартин Бубер называет это отношением «Я-Ты», то есть полной и безусловной открытостью другим людям и миру [Бубер 19956]. Отказываясь от одиночества, индивид вступает на территорию, которая выглядит опасно: в таинственное, эротичное пространство между личностями. Зная о собственной способности причинять вред другим, ставший уязвимым индивид ожидает, что теперь другие причинят вред ему. Окружающее его открытое пространство наполнено энергией веры и доверия (в русском языке эти слова однокоренные). Энергия этого межличностного пространства действует на всех уровнях, начиная с очевидного уровня человеческих взаимоотношений до неизбежного прыжка в неизвестность религиозной веры. Таким образом, тексты Достоевского еще и предлагают читателям на время отречься от своей веры в описанные им факты и довериться содержащимся в подтексте и не постижимым разумом идеям Божественной справедливости и благодати. И в этот момент происходит чудо. Вера в добрую волю – да и просто в само существование – другого оправдывает себя; другой (персонаж, автор, Божественная тайна) отвечает любовью и прощением. Как показывает сюжет последнего и величайшего из его романов, материя – плоть – может чудесным образом преодолеть действие законов природы, неумолимо приводящих ее к насилию и злу.
Таким образом, романы Достоевского отражают наш падший мир и проливают свет на положение человека в нем. Сила их воздействия заключается в способности Достоевского заставить нас поверить в реальность его персонажей. Мы входим в мир Раскольникова, послушно, но с осторожностью соглашаясь с тезисом, что он – один из нас. Возникает искушение остаться в этом мире. Анализируя психику своего друга или пациента, мы ищем первопричину совершенного им преступления в ее пороках: «Раскольников совершил убийство, потому что он…» Но как критики мы должны вернуться из этого мира искушений в свою действительность. Наиболее значительные открытия ждут тех, кто стоит поодаль и прищуривается, чтобы разделяющие в том мире персонажей границы оказались размыты. Раскольников, Свидригайлов и Порфирий Петрович; Николай Ставрогин и Петр Верховенский; Макар Девушкин и Быков; Иван Карамазов и Смердяков – оказываются гранями единого, общего сознания. Литература способна нарушать законы природы, разъединяющие людей и усиливающие иллюзию нашей обособленности. Когда мы, читатели, доверяемся Достоевскому и полностью погружаемся в его художественную вселенную, нам приходится идти опасными и трудными путями. Границы рушатся; персонажи становятся частью нашего сознания, и мы оказываемся причастны к их вине.
Вина, являющаяся ключевой темой произведений Достоевского, не укладывается в примитивные рамки юридических определений. В основе каждого из его великих романов лежит тяжелое и насильственное преступление, преступление страсти-, убийство, изнасилование, отцеубийство. Наибольший гнев у автора, у Ивана Карамазова и у нас вызывает насилие над детьми. Злодеи у Достоевского – это те, кто «оскорбляет невинность»: Быков, Свидригайлов, Ставрогин, закалывающие младенцев турки. Но мы находимся в сфере литературы, а не права, и значительная часть действия романов Достоевского заключается в диалогах между их персонажами. Если мы позволим ужасу перед преступлениями отвлечь нас, мы можем не заметить менее явных грехов, заключенных в риторике, и даже принять жертву за преступника. В романах Достоевского драма разыгрывается вокруг грехов слова: лжи, клеветы, предательства, отрицания. Чтобы увидеть их истинную тяжесть, недостаточно спросить, кто совершил преступление, поскольку основополагающая идея произведений Достоевского состоит в том, что виновен каждый. По-настоящему опасный вопрос таков: кто признает собственную вину, а кто обвиняет других?
Поэтому в моей трактовке романов Достоевского добро и зло заключены в той точке, где язык меняет природу мира. Ось координат добра и зла в его произведениях смещается в сторону динамики клеветы и признания. Обвинить другого – опасный поступок; дело не только в том, что это обвинение может оказаться ошибочным, но и в том, что оно не дает обвиняемому вступить на путь искупления. В то же время признание вины – это первый шаг к обретению благодати. Именно признавшись, вы даете другим возможность простить вас. Сюжеты романов Достоевского подводят главного героя к моменту истины, когда он получает возможность признать свою вину, раскаяться и начать ее искупать. Таково признание Раскольникова на перекрестке и тот прекрасный миг катарсиса, когда он наконец говорит правду: «Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором, и ограбил» [Достоевский 19736: 640]. Такой же миг наступает у Дмитрия Карамазова после пробуждения ото сна, когда он осознает нелогичный, но истинный парадокс: он не виновен (в преступлении) и при этом виновен во всем. Едва пробудившись, он провозглашает эту только что обретенную истину. Искреннее покаяние очищает человека и открывает путь благодати и прощению. Последний шаг – это воссоединение с человечеством, положительная истина, которую апофатическое искусство Достоевского не в состоянии запечатлеть непосредственно (потому что слова исказят ее), но которая является его основной идеей.
Анализируя произведения Достоевского, я с повышенным вниманием рассматриваю поверхностный слой повествования, а также диалоги и монологи персонажей. В парадигме, действующей в романах Достоевского, признание, являясь средством постижения высшей истины, подменяет собой факты. Акт признания действует противоположно тому, что Дж. Л. Остин называет «перформативным высказыванием», т. е. высказыванием, которое в то же время является действием: «Сказать что-либо и есть сделать что-либо» [Остин 1986: 31]. В число таких высказываний входят «да», сказанное при заключении брака, или «я нарекаю этот корабль…», сказанное при спуске корабля на воду [Остин 1986: 26]. С моей точки зрения, в произведениях Достоевского признание в совершенном проступке является началом аннулирования этого проступка. Могучая сила акта признания – основной источник драматического напряжения, которым пронизаны великие романы Достоевского. Человеку нелегко расстаться с представлениями о собственной правоте (хотя они могут быть обманчивыми и неубедительными иллюзиями), но это необходимый шаг на пути к искуплению. Сознаться в своей вине значит дать возможность себя простить; признав, что я грешен, я открываю себя для прощения и милости других людей. И наоборот: ложь, будучи высказанной, пятнает весь мир. Обвиняющий другого навлекает проклятие на себя: таков оговор Дмитрия, совершенный на суде Катериной Ивановной, которой было известно, что он не убивал своего отца; ложь, изливающаяся из уст Петра Верховенского всякий раз, когда он их разверзает, и одиозная клевета, пущенная Лужиным против Сони Мармеладовой. Высказанная этими персонажами ложь лишает их истины общения с любящими людьми; они оказываются в своем собственном аду на земле, который Зосима называет «страданием о том, что нельзя уже более любить» [Достоевский 1976: 292]. И вновь этическое действие оказывается неполным без соучастия другого человека. Ложь может причинить вред только в том случае, если найдется хотя бы один слушатель, который ей поверит. Поэтому читатели тоже причастны к этической драме Достоевского. Его романы предлагают сделать выбор между скепсисом и верой – в факты, описанные в их сюжетах, в высказывания их героев и, в конечном счете, в лежащую в их основе религиозную идею.
В самом начале я говорила, что внешняя сторона вещей может быть обманчива. Как сказал в своем знаменитом стихотворении Тютчев, «мысль изреченная есть ложь». Апофатическое чтение покажет скрытую правоту униженных героев Достоевского (зерно) и изобличит зло внешне праведных (плевелы). В этих текстах таится дьявол, изрекающий ложь. Мы читаем как бы против течения, заглядывая за соблазнительно гладкую внешнюю сторону этой лжи. При нужном освещении и ракурсе нашему взору открываются поразительные истины. У давно знакомых персонажей открывается неожиданное второе дно. Милые, заботливые джентльмены оказываются ненасытными хищниками; порочные преступники, несмотря на свою репутацию, несут в себе семя спасения. Честные, благородные девицы оказываются причиной краха честных мужчин, а отбросы общества дают шанс на спасение.
Парадокс господствует повсюду. Как и в любом другом парадоксе, в нем соревнуются между собой два варианта истины. В первой главе данной книги первый роман Достоевского «Бедные люди» предстает не только историей бесчестия и падения невинной девицы, но также и наоборот – рассказом о том, как якобы обесчещенная девица достойно преодолевает все выпавшие на ее долю невзгоды. В этом скрытом повествовании опасность исходит не от грубых соблазнителей, а от литературы, от хищнического желания, которое воздействует через художественный вымысел, абстрагирования от своей телесности. В «Белых ночах» (глава вторая) под покровом повествования о нежной любви, понятного всем читателям, прослеживается также аллегория творческого процесса и изображение соблазнительного и опасного духа романтической литературы, заполняющего собой Петербург. В «Игроке» (глава третья) проигрыш, а не выигрыш дает ключ к счастью в битве между силами закона (смерти) и благодати (жизни) за зеленым сукном рулетки. В главе четвертой простой вопрос «Кто виноват?» приводит к поразительным выводам: «Преступление и наказание» оказывается повествованием не только о преступлении и искуплении одного человека, но и о порожденном любовью самопожертвовании другого – того, кого мы считали виноватым и кто оказался всеми оклеветан. Ведь на самом деле Свидригайлов лишь кается в своих грехах и творит добро для других. С этого неожиданного ракурса традиционные иерархии ценностей мутируют в коварную ложь, которую изрекали повествователи, оказавшиеся, пусть даже из благих побуждений, клеветниками. В главе пятой, воспользовавшись данными в «Идиоте» визуальными подсказками, мы обнаруживаем никем ранее не замеченную картину искупительного страдания в совершенно неожиданном месте. Тайна неудачи князя Мышкина в качестве символа Христа частично раскрывается в судьбе и рассказе его двойника – умирающего нигилиста Ипполита Терентьева. Великий «роман-памфлет» «Бесы» является темой двух глав. В главе шестой происходящие в романе катастрофы предстают результатом отцовской безответственности, бесовского иностранного агента влияния и чрезмерных надежд на иллюзорные, «бумажные» ценности. Это извечная история мести брошенного ребенка. Как и во многих других великих произведениях, трагическое событие используется для того, чтобы выразить в зашифрованном виде идею. Собранная вместе «ложная» семья Шатовых погибнет, но оставит после себя незабываемый образ. Отец-рогоносец, опозоренная мать и незаконнорожденный младенец благодаря чуду верности и любви Шатова обретают ореол святости и становятся иконописным образом праведного, прощающего отца, невинной матери и святого младенца. В главе седьмой анализ демонического романа продолжается – в ней рассматривается тема Апокалипсиса. Здесь силы клеветы, идолопоклонничества и нарратива (Петр Верховенский) сражаются с глубинной истиной покаяния и откровения (Ставрогин). В главе восьмой показывается, что отсутствующие матери являются причиной драмы отцеубийства в «Братьях Карамазовых». Каждая из них так или иначе становится каналом, через который в мир романа проникают дьявольские силы. Все эти нарративы наглядно показывают трагедию изоляции человека и опасность чрезмерного доверия к внешней стороне языка. Приняв предложение Достоевского поверить в скрытую от глаз истину, даже если она выглядит ложью, мы получаем доступ к более глубокому и казавшемуся прежде незаметным силовому полю, лежащему в основе его взглядов как писателя.
Глава первая
Плоть и книга: «Бедные люди»
Нет ничего более обманчивого, чем вполне очевидный факт.
Артур Конан Дойл
Дебют Достоевского стал одним из самых ярких в истории мировой литературы: самый авторитетный литературный критик России В. Г. Белинский приветствовал роман неизвестного автора «Бедные люди» (1846 год) как долгожданный первый русский «социальный роман» [Анненков 1928: 447]. До наших дней «Бедных людей» воспринимают прежде всего как социальную критику. Однако наиболее характерной чертой первого романа Достоевского является его «литературность». «Бедные люди» переполнены реминисценциями из русской «натуральной школы» и ее западноевропейских предшественников, из пушкинских экспериментов с повествовательной прозой, из традиций русского и европейского сентиментального романа в письмах и его далекого предка – «Переписки Абеляра и Элоизы» XII века[6 - См. фундаментальное исследование В. В. Виноградова о русских литературных истоках «Бедных людей» [Виноградов 1929: 291–389]. «The Young Dostoevsky» Виктора Терраса остается наиболее глубоким англоязычным исследованием различных литературных традиций, оказавших влияние на «Бедных людей»; см. [Terras 1969].]. Оставаясь сложной, многослойной пародией на эти предшествовавшие произведения, роман Достоевского ставит под сомнение фундаментальные представления о морально-этических последствиях чтения и письма. Будучи глубоко вторичными, «Бедные люди» в то же время неожиданно оригинальны. Уже в своем первом опубликованном произведении автор сеет семена того уникального трагического видения, которое даст всходы в его великих зрелых романах.
Вполне понятно, почему этот роман оказался настолько литературным: «Бедные люди» рассказывают о пути самого Достоевского к писательскому творчеству. Тщательно проанализировав текст «Бедных людей», И. Д. Якубович нашла прямые и убедительные связи между датами и содержанием вымышленных писем в романе и теми или иными событиями и переживаниями в жизни его автора. Прослеживая превращение молодого военного инженера в писателя, Якубович делает вывод, что роман отчасти представляет собой замаскированный дневник [Якубович 1991: 50]. В этом первом романе, как и в последующих произведениях, авторское самосознание связано с тягой к печатному слову. Признавая наличие перекличек между текстом романа и событиями из биографии автора, мы тем не менее должны избегать поверхностного прочтения «в изъявительном наклонении». Создаваемое автором превосходит его самого, «будучи отделено от несовершенной лжи, которая произвела его на свет» [Nagel 2001: 31].
Апофатическое чтение предполагает несовпадение между словами и истиной. То, что персонажи говорят и пишут о себе, отличается от того, что они представляют собой, и от поступков, которые они совершают. Основная идея Достоевского проступает из противоречий в этом зазоре между словом и окружающим миром на многих уровнях текста – слов из писем обоих героев, их поступков (описанных и подразумеваемых), реакций окружающих их людей и сложных отзвуков литературной традиции. Эти несовпадения выдают амбивалентное отношение самого автора к смыслу и назначению художественной литературы.
Возьмем, например, Макара Девушкина. Это мелкий чиновник средних лет, холостяк; он покровительствует своей знакомой Варваре (Вареньке) Доброселовой, молодой девице с запятнанной репутацией. Хотя многие из лучших исследований «Бедных людей» были посвящены Макару Девушкину, глубины и скрытые смыслы его характера остаются неизученными[7 - См. [Rosenshield 1986: 525].]. Он – чрезвычайно сложная фигура, сочетающая черты сентиментального влюбленного из эпистолярной прозы XVIII века, бедных чиновников из произведений русской «натуральной школы» (в первую очередь – Акакия Акакиевича из «Шинели» Гоголя (1841 год)), самоотверженного и заботливого отца из повести Пушкина «Станционный смотритель», входящей в цикл «Повести Белкина» (1830 год), бальзаковского «Отца Горио» (1835 год) и других. Но у Макара Девушкина есть и темная сторона, предвосхищающая самые темные и зловещие образы из последующих произведений Достоевского.
На первый взгляд это утверждение может показаться возмутительным, если вспомнить общепринятую и хорошо обоснованную точку зрения, с которой Макар Девушкин считается рупором угнетенных общественных классов, праведным защитником опозоренной девушки, человеком, которому бедность не позволяет действовать в соответствии с его великодушными и милосердными побуждениями. Однако достаточно давно современник Достоевского В. Н. Майков заложил основы для более критического отношения к этому персонажу. В рецензии, написанной вскоре после выхода романа в свет, Майков предположил, что Варенька относилась к любви Макара как к бремени: «Любовь Макара Алексеевича не могла не возбуждать в Варваре Алексеевне отвращения, которое она постоянно и упорно скрывала, может быть, и от самой себя» [Майков 1889: 326]. Неудивительно, что скептическое мнение Майкова проигнорировало как большинство его современников, так и позднейшие русские критики, которым требовалось истолковать роман Достоевского как выступление в защиту отверженных и угнетенных, а не как проницательное психологическое исследование. Однако новое поколение читателей заложило основы для более критического подхода. Например, Джозеф Франк и У Дж. Лезербарроу указывают на скрытую двойственность характера Макара Девушкина [Leatherbarrow 1973:607–618; Frank 1976:137–156]. Джо Эндрю предполагает, что присущий двойной роли Девушкина как защитника и влюбленного характер отношений с Варенькой роднит его с двумя «злодеями» повествования, Быковым и Анной Федоровной [Andrew 1998: 173–188]. Другие, не менее проницательные критики распознали неоднозначность, характерную для положения Вареньки. В частности, выполненные В. Террасом и Р. Эпштейн-Матвеевой исследования внутритекстовых связей в «Бедных людях» показывают, что брак Вареньки с Быковым является для нее скорее бегством, чем безусловной трагедией: выйдя замуж, она покидает маргинальную юдоль бедности, страха и опасности, в которой обитает Макар Девушкин [Terras 1969: 84–85; Matveyev 1995: 535–551]. При этом она заодно возвращает себе честь и обеспечивает безбедное в материальном отношении существование.
Следуя этим новым скептическим тенденциям, я буду исследовать глубинный смысл «темного» прочтения образа Девушкина, рассматривая его прежде всего как потенциального соблазнителя, в контексте художественного видения Достоевского. Трудно не согласиться с Эндрю в том, что Вареньку осаждают два хищника мужского пола, но Быков и Девушкин олицетворяют принципиально различные и взаимоисключающие ценности. Кульминация сюжета – решение Вареньки выйти замуж за Быкова – представляет собой отречение от опасностей и искушений литературы, воплощенных в Девушкине. Достоевский выражает эту идею, пародируя сентиментальные романы и заодно наделяя свою героиню собственной скрытой силой. В ходе своего анализа я радикально пересмотрю ту иерархию моральных добродетелей, которая оставалась общепринятой почти во всех критических исследованиях «Бедных людей».
Первое письмо Девушкина, в котором он сообщает о своем переезде в угол кухни, свидетельствует о противоречивых мотивах:
Я живу в кухне <…>. Кухня большая в три окна, так у меня вдоль поперечной стены перегородка, так что и выходит как бы еще комната, нумер сверхштатный; всё просторное, удобное, и окно есть, и всё, – одним словом, всё удобное <…>. Ну, так вы и не думайте, маточка, чтобы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл какой был; что вот, дескать, кухня! – то есть я, пожалуй, и в самой этой комнате за перегородкой живу, но это ничего; я себе ото всех особняком, помаленьку живу, втихомолочку живу. <…> Правда, есть квартиры и лучше, – может быть, есть и гораздо лучшие, – да удобство-то главное; ведь это я всё для удобства, и вы не думайте, что для другого чего-нибудь. Ваше окошко напротив, через двор; и двор-то узенький, вас мимоходом увидишь – всё веселее мне, горемычному, да и дешевле. <…> Нет, это удобство заставило, и одно удобство соблазнило меня [Достоевский 1972а: 16–17] (курсив мой. – К. А.).
Получив такое недвусмысленное указание не искать «тайных смыслов», как могут пытливые читатели устоять перед таким соблазном? Девушкин объясняет свои мотивы слишком многословно. М. М. Бахтин приводит этот отрывок как пример характерной для Достоевского полемической «установки человека по отношению к чужому слову и сознанию» [Бахтин 2002: 230]. Каждое слово здесь предугадывает реакцию собеседника и заранее ее опровергает. Однако эта установка на наличие другого весьма примечательна, поскольку подтверждает отсутствие этого «другого». Так или иначе, Девушкин одинок; если бы он жил вместе с Варенькой, он бы не писал ей писем. Кроме того, как было хорошо известно Бахтину, в число потенциальных собеседников входят не только упоминающиеся персонажи данного романа, но и персонажи из истории литературы, которых Достоевский пародирует своим полифоническим языком, не говоря уже о его современных и будущих читателях. Мы могли бы сказать, что Макар Девушкин одинок в толпе. В будущих великих романах Достоевского оборонительный, полемический стиль речи будет особенно характерен для живущих в одиночестве героев – например, Человека из подполья, которому этот бесконечный диалог не позволяет вступить в реальные, осмысленные отношения с другими людьми. Этот стиль выдает их абсолютное неверие в добрую волю и, фактически, в само существование другого. В нашем анализе в круг собеседников, на которых «с оглядкой» смотрит Девушкин, входит и читатель [Бахтин 2002: 206]. Своим многословием Девушкин подсказывает нам, что следует заглянуть под верхний слой. Почему, например, он так горячо отстаивает свой выбор жилья? Мы наталкиваемся на многозначительное слово «соблазнило», которое намекает на преступное желание. Удобство того, что представляется неудобным жилищем, прямым текстом связывается с близостью к Вареньке (наличие окна и узость двора). Девушкин переехал в эту комнату не только из экономии, но и для того, чтобы наблюдать за ней. То, что внешне выглядит как самоотверженное и нежное желание присматривать за попавшей в беду девушкой, может быть не менее убедительно истолковано как достойный осуждения вуайеризм. Таким образом, слова Девушкина выдают его противоречивые побуждения.
Ошибочное предположение Девушкина, будто случайно приподнявшаяся занавеска в окне Вареньки имела какой-то скрытый смысл, несомненно связано с другим образом занавески, имеющим эротический подтекст, – с театральным занавесом, скрывавшим от него актрису, в которую он был влюблен в молодости: «Видеть-то я один только краешек занавески видел, зато всё слышал» [Достоевский 1972а: 61]. В литературной традиции слово «актриса» подразумевает женщину легкого поведения. Сравнение голоса этой актрисы с голосом соловья отсылает нас к сквозному «птичьему» мотиву, проходящему через весь роман, и пятнает на первый взгляд невинное сравнение Вареньки с беззаботной весенней птичкой, сделанное в определяющем все дальнейшее содержание романа первом письме: «Сравнил я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшения природы созданной. Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, живущие в заботе и треволнении, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастию небесных птиц» [Достоевский 1972а: 14].
Дважды в первом письме Девушкина его образный язык выдает его противоречивые устремления. Защитник – это хищная птица, а испытываемая Девушкиным жажда власти проявляется в метафорических выражениях: «Встал я сегодня таким ясным соколом»; «Зачем я не птица, не хищная птица!» [Достоевский 1972а: 14]. Для литературоведов социального направления метафора о хищной птице (заимствованная из стихотворения украинского поэта М. П. Петренко) указывает на зарождающееся у Девушкина желание взбунтоваться против репрессивной политической системы, при которой возможна бедность[8 - Возможно, Достоевский узнал об этом стихотворении от своего близкого друга И. Н. Шидловского, что, учитывая значительное личное влияние Шидловского на него, лишь делает этот образ более убедительным. Якубович [Якубович 1991: 54–55] анализирует сложности мотива «хищной птицы» и его появление в русской литературе соответствующего периода с полезными подробностями.]. Однако в то же время она является проявлением хищнических инстинктов по отношению к беззащитной Вареньке. Письмо Девушкина своей «голубушке» от 4 августа усиливает это впечатление: «Не помоги я вам, так уж тут смерть моя, Варенька, тут уж чистая, настоящая смерть, а помоги, так вы тогда у меня улетите, как пташка из гнездышка, которую совы-то эти, хищные птицы заклевать собрались» [Достоевский 1972а: 73]. Девушкин выражает здесь желание спасти Вареньку, но на самом деле сохранение отношений между ними, пусть и ограничивающихся перепиской, зависит от того, чтобы она оставалась в опасности. Хотя Девушкин не в состоянии действовать, поскольку он сублимирует свои желания в литературную форму, для него одновременно характерны побуждения как защитника, так и хищника. Желание защитить неотделимо от желания изнасиловать, и оба они связаны с побуждением восстать против существующего порядка вещей[9 - Джозеф Франк косвенным образом отмечает эту связь, когда говорит об «идеологической борьбе» Девушкина: «борьбе с мятежными мыслями, неожиданно возникающими у него под давлением его эмоционального участия в судьбе Варвары и находящимися в таком противоречии с безусловным повиновением, которое он принимал как неизменную линию поведения до этого момента» [Frank 1976: 140] (курсив мой. – К. А.). В. Е. Ветловская также допускает возможность более широкого истолкования бунта Макара Девушкина. Восставая против существующего порядка, он теряет невинность. См. [Ветловская 1988: 131].].
Устанавливая предпосылки для дальнейшей переписки Вареньки и Девушкина, это первое письмо также привносит эротическое напряжение, которое будет поддерживаться на протяжении всего романа. В процессе переноса на бумагу стыдливо скрываемое – преступные сексуальные желания, мысли о бунте – становится явным. О ключевом значении понятия частной жизни – и сопутствующей ему необходимости хранить тайны – для становления западного романа давно и много говорилось в литературоведении[10 - См. [Watt 1957].]. Значительная часть западной литературы после «Исповеди» Руссо построена на противоречии между осознаваемой автором необходимостью хранить тайны и его же желанием говорить правду. Роман, в особенности эпистолярный роман в том виде, в каком он развивается в XVIII веке, «вторгается в частную сферу, открывая ее в ходе безусловно публичного процесса писания» [Brooks 1993: 32]. Литература неизбежно обращается к тайнам сексуальной жизни, причем рассказчики играют роль вуайеристов. Достоевский выдвигает эти факторы на первый план, выбрав эпиграф из Одоевского, где иронически осуждаются претензии прозаиков на обладание истиной: «Ох уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают!., право бы, запретил им писать; так-таки просто вовсе бы запретил» [Достоевский 1972а: 13]. Слово «подноготная», которое, как напоминает нам Сьюзен Фуссо, означает грязь под ногтями [Fusso 2006: 12], подразумевает многообразные формы натурализма, но в особенности символизирует раскрытие сексуальных секретов[11 - Слово «подноготная» мигрирует из этого эпиграфа в уста преувеличенно сексуального персонажа в одном из следующих романов (Валковский в «Униженных и оскорбленных» (1861)): «Если б только могло быть, чтоб каждый из нас описал всю свою подноготную, <…> то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад» [Достоевский 1972в: 361].]. Это опасная форма эксгибиционизма – подчеркнуто литературная, укорененная в книгопечатании и неотделимая от своего времени и места. Пожалуй, в России,
где по западным образцам был создан совершенно новый литературный язык, тревога по поводу контакта людей с печатной литературой сильнее, чем в Западной Европе. Особенно велика эта опасность для невинных девиц, которых развращает чтение книг, дающих тайные знания и возбуждающих чувства. Наиболее откровенно эта тема была воплощена в литературе через десять лет после публикации «Бедных людей» в тургеневском (также эпистолярном) романе «Фауст» (1856), представляющем собой хронику падения и смерти добродетельной молодой жены, причиной которых стало знакомство с шедевром Гёте. Девушкин осведомлен об опасности пренебрежения табу: «Стихи вздор! За стишки и в школах теперь ребятишек секут…» [Достоевский 1972а: 20], – но тем не менее продолжает писать. С другой стороны, предполагаемый соблазнитель и впоследствии жених Вареньки Быков, человек практичный, избегает мира литературы. Варенька сообщает о его предупреждениях не верить показному альтруизму Девушкина: «[Он сказал], что всё вздор, что всё это романы, что я еще молода и стихи читаю, что романы губят молодых девушек, что книги только нравственность портят и что он терпеть не может никаких книг» [Достоевский 1972а: 100]. Для моей интерпретации «Бедных людей» важнейшее значение имеет то, что Быков находится вне территории литературного творчества, и то, что он цитируется здесь в качестве защитника нравственности. Мы, читатели, защищенные от истины множеством слоев повествования, не в состоянии встретиться с ним; он, будучи реальным существом, не может проникнуть в книгу. Противостояние героев романа ясно выражено: Девушкин является сторонником литературы, Быков – ее противником, а Варенька оказывается между ними, как между молотом и наковальней. «Бедные люди» – это роман о встрече плоти и книги.
Здесь нам стоит вспомнить об архетипическом романе в письмах – переписке средневекового философа Абеляра (1079–1142) и Элоизы, которую некоторые исследователи считают первой современной любовной историей. Бывший бродячий логик (в XII веке существовала и такая профессия) Абеляр поселился в Париже и стал читать лекции по философии. Там он встретился с прекрасной, одаренной блестящим умом Элоизой, которая была более чем на двадцать лет младше его, и ее дядя неблагоразумно доверил ему ее образование. В автобиографии учитель вспоминает о своем удивлении, что «до такой степени сильно он упрашивал меня, что согласился с моими желаниями <…> и следовал из любви, вручая всю ее нашему наставничеству… Я был весьма удивлен такой его простоватостью в этом деле, и про себя не менее изумлялся тому, что он вручал столь нежную овечку голодному волку» [Абеляр 2011: 15]. От уроков философии учитель перешел к урокам любви. Последующие события – соблазнение ученицы, рождение ребенка, двусмысленный брак и борьба за власть, замешанная на гордыне, стыде и семейной чести, – приводят к тому, что Элоизу в конечном счете заточили в монастырь, а оскопленный Абеляр оказался вынужден снова обратиться к ученым занятиям. Их переписка начинается в этот момент. Невозможность очного общения и сексуальное воздержание обусловливают воплощение любви в литературную форму.
Само положение Девушкина в материальном мире маргинально: он представляет собой психологическую абстракцию. Соответственно, он подыскал себе место обитания, максимально открытое окружающему миру и минимально защищенное физически: открытый угол в наиболее доступном для всех помещении в доме[12 - Маргинальное обиталище Макара Девушкина связывает его с Человеком из подполья, который обитает в промежуточном пространстве и чье затруднительное материальное положение во многих отношениях напоминает положение Макара Алексеевича. Оба героя пугающе бестелесны. Кухня может быть истолкована как символическое пространство, в котором появление потусторонних сил более вероятно, чем где-либо еще. См. [Morson 1978: 224–225].]. На протяжении всего романа Девушкин указывает на зыбкость своих связей с материальным миром: «Ну, что я перед ним [Ратазяевым], ну что? Ничего» [Достоевский 1972а: 51]; «Я скрываю, я тщательно от всех всё скрываю, и сам скрываюсь» [Достоевский 1972а: 75]; «до вас, ангельчик мой, я был одинок и как будто спал, а не жил на свете» [Достоевский 1972а: 82]; «я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было» [Достоевский 1972а: 92]. Достоевский метонимически усиливает впечатление бесплотности Девушкина, неоднократно указывая на оборванную одежду своего героя. Девушкина, по-видимому, не заботит его физическая уязвимость перед лицом погоды, хотя обычные жители холодного и дождливого Петербурга имеют все основания ее опасаться. Скорее его одежда служит лишь одной функции: защищать его честь или даже скрывать его стыд. Он высказывает это напрямую, когда сравнивает необходимость для «бедного человека» скрывать свою частную жизнь с необходимостью для Вареньки хранить свою скромность. Причиной стыда, который испытывает Девушкин, наряду с его бедностью являются его тайные желания. Его денежные затруднения лишь отчасти можно считать следствием несправедливой социальной системы. Девушкин имеет постоянную работу и достаточное (хотя и не позволяющее роскошествовать) жалованье; на самом деле то, что он ходит оборванцем, – следствие того, что он безрассудно тратит деньги на подарки Вареньке. Постепенный износ его костюма по ходу действия становится постоянным напоминанием о его желании, сопряженном с чувством собственной вины.
Допустив предположение, что любовь Девушкина к Вареньке не невинна, мы окажемся перед задачей заново осмыслить сюжет «Бедных людей», скептически относясь к тому, что герои говорят о своем прошлом. Относительно биографии Вареньки среди литературоведов существует следующее единодушное мнение: Лишившись отца и его состояния, эта невинная деревенская девушка оказалась оставлена на милость сводни Анны Федоровны, которая взяла ее к себе в дом и стала воспитывать, чтобы продать тому, кто подороже заплатит. Варенька влюбилась в бедного, но благородного юношу по фамилии Покровский, жившего с ней под одной крышей. Покровский умер от болезни, вызванной бедностью. Его биологический отец Быков, расточительный, развратный, жестокий и богатый человек, соблазнил Вареньку и бросил ее так же, как ранее – мать Покровского.
Варенька опозорена и, поскольку гордость не позволяет ей принять плату за свой позор, предпочитает жить в нужде; ее утешает Девушкин, самоотверженный, бедный, но обожающий ее сосед и дальний родственник. Когда в конце концов Быков возвращается, у нее нет другого выхода, кроме как выйти за него замуж, лишив себя нежной романтической любви.
Давайте рассмотрим этот сюжет повнимательнее. Откуда нам известно, что Быков действительно соблазнил Вареньку? Что, если она ему отказала и это проявление строптивости и стало причиной того, что она лишилась покровительства Анны Федоровны? В пользу такого истолкования текста говорят несколько фактов. Во-первых, это сам сюжет. Сравнивая «Бедных людей» с романами Сэмюэля Ричардсона, Виктор Террас указывает на его неправдоподобность:
Зачем Быкову в конце романа возвращаться, чтобы жениться на болезненной и не имеющей за душой ни гроша девушке, которую он уже соблазнил? С точки зрения сюжетных ходов самих по себе история того, как Варенька Доброселова стала г-жой Быковой, не оригинальна и не слишком интересна. Она безусловно неправдоподобна [Terras 1969: 78].
Тезис Терраса вполне обоснован, и, само собой разумеется, ценность «Бедных людей» как литературного произведения никак не зависит от «правдоподобия» их сюжета. Однако предложение руки и сердца, сделанное Быковым в конце романа, было бы вполне правдоподобным, если бы на самом деле ранее Варенька отвергла ухаживания Быкова, одновременно проявив свою добродетельность и воспламенив его желание[13 - Подобно всем остальным известным мне исследователям романа «Бедные люди», Джо Эндрю не ставит под вопрос реальность этого ключевого события; более того, считая Быкова злодеем, он называет прочтение Терраса, в котором сквозит скептицизм, «необычным». Кроме того, Эндрю полагает, что ни Анна Федоровна, ни Быков «не занимают центрального места в диегезисе романа» [Andrew 1998: 174].].
Литературная традиция также свидетельствует в пользу подобной интерпретации, поскольку сюжетная линия Вареньки и Быкова повторяет сюжет сентиментального романа в письмах Ричардсона «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740 год), ставшего заметным явлением в русском литературном мире с момента его перевода на русский язык в 1790 году [Alt-schuller 1989: 95]. Памела, добродетельная, но бедная девица, успешно сопротивляется неоднократным попыткам мистера Б., в доме которого она живет в качестве служанки, соблазнить ее; в конце концов он, покоренный обаянием добродетели девушки, женится на ней. В истории Вареньки многое походит на этот роман. Многочисленные упоминания одежды героя и героини (Памела вышивает своему хозяину жилет, который спешит закончить до того, как покинет его дом; ср. историю жилетки, которую, как пишет Варенька, она шьет Девушкину (письма от 27 июня, 7 июля и 4 августа); имя «мистер Б.» (ср. «г-н Быков»); богатство, влиятельность и явное распутство предполагаемого соблазнителя (включая поучительные напоминания в виде истории ранее соблазненной им девушки и ее ребенка (Салли Годвин и ее дочь в «Памеле»; мать Покровского в «Бедных людях»)) и, главное, торжество героини в конце романа (ее брак с хозяином) – во всех этих элементах роман Достоевского перекликается с книгой Ричардсона.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68361821) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Краткое описание событий той знаменательной ночи см. в примечаниях редакторов в [Достоевский 1972а: 465–466].
2
«Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло всё, что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным» [Достоевский 1976:290].
3
См. [Касаткина 1996].
4
Эмерсон цитирует Джексона по [Jackson 1966: 52].
5
Читатели, желающие изучить в подробностях богословские и философские взгляды Достоевского, могут ознакомиться с некоторыми замечательными современными исследованиями, в том числе: [Knapp 1996; Scanlan, 2002; Cassedy 2005; Jones 2005].
6
См. фундаментальное исследование В. В. Виноградова о русских литературных истоках «Бедных людей» [Виноградов 1929: 291–389]. «The Young Dostoevsky» Виктора Терраса остается наиболее глубоким англоязычным исследованием различных литературных традиций, оказавших влияние на «Бедных людей»; см. [Terras 1969].
7
См. [Rosenshield 1986: 525].
8
Возможно, Достоевский узнал об этом стихотворении от своего близкого друга И. Н. Шидловского, что, учитывая значительное личное влияние Шидловского на него, лишь делает этот образ более убедительным. Якубович [Якубович 1991: 54–55] анализирует сложности мотива «хищной птицы» и его появление в русской литературе соответствующего периода с полезными подробностями.
9
Джозеф Франк косвенным образом отмечает эту связь, когда говорит об «идеологической борьбе» Девушкина: «борьбе с мятежными мыслями, неожиданно возникающими у него под давлением его эмоционального участия в судьбе Варвары и находящимися в таком противоречии с безусловным повиновением, которое он принимал как неизменную линию поведения до этого момента» [Frank 1976: 140] (курсив мой. – К. А.). В. Е. Ветловская также допускает возможность более широкого истолкования бунта Макара Девушкина. Восставая против существующего порядка, он теряет невинность. См. [Ветловская 1988: 131].
10
См. [Watt 1957].
11
Слово «подноготная» мигрирует из этого эпиграфа в уста преувеличенно сексуального персонажа в одном из следующих романов (Валковский в «Униженных и оскорбленных» (1861)): «Если б только могло быть, чтоб каждый из нас описал всю свою подноготную, <…> то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад» [Достоевский 1972в: 361].
12
Маргинальное обиталище Макара Девушкина связывает его с Человеком из подполья, который обитает в промежуточном пространстве и чье затруднительное материальное положение во многих отношениях напоминает положение Макара Алексеевича. Оба героя пугающе бестелесны. Кухня может быть истолкована как символическое пространство, в котором появление потусторонних сил более вероятно, чем где-либо еще. См. [Morson 1978: 224–225].
13
Подобно всем остальным известным мне исследователям романа «Бедные люди», Джо Эндрю не ставит под вопрос реальность этого ключевого события; более того, считая Быкова злодеем, он называет прочтение Терраса, в котором сквозит скептицизм, «необычным». Кроме того, Эндрю полагает, что ни Анна Федоровна, ни Быков «не занимают центрального места в диегезисе романа» [Andrew 1998: 174].
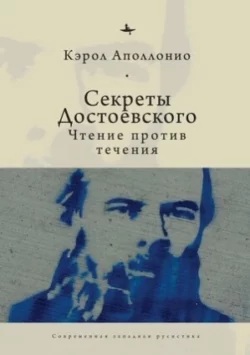
Кэрол Аполлонио
Тип: электронная книга
Жанр: Литературоведение
Язык: на русском языке
Издательство: Библиороссика
Дата публикации: 01.09.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Для подлинного постижения глубинного значения текста требуется не просто поверхностное чтение, требуется «прыжок веры», предполагающий, что в тексте содержится нечто большее, чем просто слова и факты. Исследование американского литературоведа К. Аполлонио, предлагая особый способ чтения – чтение против течения, сквозь факты, – обращается к таким темам, как вопросы любви и денег в «Игроке», носители демонического начала в «Бесах» и стихийной силы в «Братьях Карамазовых».