Рефлекс змеи
Рефлекс змеи
Дик Фрэнсис
Дик Фрэнсис (1920–2010) – один из самых именитых английских авторов, писавших в жанре детектива. За свою жизнь он создал более 30 бестселлеров, получивших международное признание. Его романы посвящены преимущественно миру скачек – Фрэнсис знал его не понаслышке, ведь он родился в семье жокея и сам был знаменитым жокеем. Этот мир полон азарта, здесь кипят нешуточные страсти вокруг великолепных лошадей и крупных ставок в тотализаторах, здесь есть чем поживиться мошенникам. Все это и послужило материалом для увлекательных романов, ставших бестселлерами во многих странах мира.
Переиздание романа опубликовано в сборнике Дика Фрэнсиса в 2022 г.
Рефлекс змеи
© Н. В. Некрасова, перевод, 1999
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022 Издательство Иностранка®
Reflex / Copyright © 1980 by Dick Francis
Глава 1
Задыхаясь и кашляя, я лежал, опираясь на локоть, и отплевывался от забившей рот травы и земли. Придавившая мне ногу лошадь кое-как поднялась и унеслась прочь бешеным галопом. Я подождал, пока внутри все успокоится, – я кувыркнулся с лошади, несущейся со скоростью тридцать миль в час, да еще несколько раз перевернулся в воздухе. Ничего, жив. Кости целы. Просто очередной раз полетел.
Время и место действия: шестнадцатое препятствие, трехмильный стипль-чез, ипподром в Сандауне. Пятница, ноябрь, мелкий, холодный, нудный дождь. Отдышавшись и собравшись с силами, я кое-как встал на ноги. В голове неотвязно крутилась мысль, что взрослому мужчине так жить нельзя.
Эта мысль меня ошарашила. Раньше мне в голову ничего подобного не приходило. Я не знал другого способа зарабатывать себе на хлеб, кроме как скакать на лошади и брать препятствия, а это такая работа, которой нужно отдавать всю душу. Холодное разочарование отозвалось дергающим приступом зубной боли, нежданной и нежеланной, предвещая беспокойство и неприятности.
Я без особых волнений подавил это чувство. Уверил себя в том, что люблю и всегда любил такую жизнь – а как же иначе. Что все путем – за исключением этой погоды, этого падения, этих проигранных скачек… Мелочи жизни, каждодневная рутина, обычное дело.
Я пошлепал по грязи вверх по холму к трибунам в тонких, как бумага, скаковых сапогах, совершенно не годных для ходьбы. Все мои мысли неотвязно крутились вокруг лошади, на которой я стартовал. Я все думал, что мне сказать и чего не надо говорить ее тренеру. Отказался от: «Какого черта вы ожидали, что жеребец прыгнет, если как следует его не натаскали?» – ради: «Ему бы побольше опыта». Думал было высказаться насчет этой «никчемной, трусливой, тупой, недокормленной скотины», но передумал и решил сказать, что надо будет попробовать его в шорах. Тренер все равно устроит мне разнос за падение и скажет хозяину, что я не так повел лошадь к препятствию. Он был как раз из того типа людей, для которых жокей всегда виноват.
Я смиренно возблагодарил небеса за то, что нечасто езжу на лошадях из этой конюшни и сегодня меня взяли только потому, что Стив Миллес, их жокей, был на похоронах – у него умер отец. Если нужны деньги, от скачек просто так не отказываются. Или если тебе нужно имя, чтобы все знали, какой ты полезный и необходимый и что ты вообще есть на свете.
Единственной приятной вещью во время моего падения у препятствия было то, что папаши Стива Миллеса тут не было и он этого не заснял. Он был безжалостным фотографом и фиксировал как раз те моменты, которые жокеи предпочли бы забыть. Все это хранилось у него в коробочке и, вероятно, в настоящий момент укладывалось на вечный покой вместе с ним. «Туда им и дорога», – неласково подумал я. Конец гаденьким довольным смешкам, с которыми Джордж показывал хозяевам лошадей неопровержимые доказательства неудач их жокеев. Конец и автоматической камере, что со скоростью три с половиной кадра в секунду подлавливает где ни попадя, как кто-то теряет равновесие, машет руками, летя в воздухе, и падает носом в грязь.
В то время как прочие спортивные фотографы играют честно и время от времени снимают твои победы, Джордж снимал исключительно позорные и унизительные моменты. Джордж был прирожденным губителем чужих карьер. Может, газеты и станут горевать о том, что больше не видать им его развеселеньких фоток, но, когда Стив сказал в тот день в раздевалке, что его папаша врезался в дерево, мало кто огорчился.
Но, поскольку самого Стива любили, никто особо не высказывался. Стив, однако, услышал молчание и понял, что за этим молчанием стоит. Он годами отчаянно защищал своего отца и потому все понимал.
Я шел под дождем, волоча ноги, и думал – странно, что мы действительно больше не увидим Джорджа Миллеса. Его слишком давно знакомая и слишком привычная физиономия четко возникла у меня в памяти – яркие умные глаза, длинный нос, висячие усы, рот кривится в язвительной усмешечке. Следует признать, что это был потрясающий фотограф, с исключительным чутьем и умением подловить момент. Его объектив всегда был направлен в нужное мгновение в нужную сторону. Юморок у него был своеобразный – недели не прошло еще, как он показывал мне черно-белую глянцевую фотку, когда я спикировал с лошади – носом в грязь, задница кверху, а на обороте надпись: «Филип Нор, коленками назад». Может, кому и было бы смешно – да уж больно злобным был юмор. Может, кто и потерпел бы такое унижение, но злоба прямо-таки перла из его взгляда. В душе он был гадом, затаившимся, выжидавшим, как бы с глумливым хихиканьем ударить побольнее. Слава богу, что он помер.
Когда я наконец-то дошел до весовой и спрятался от дождя, тренер и хозяин лошади уже ждали меня. На их физиономиях была написана готовность порвать меня в клочья. Чего и следовало ожидать.
– Ну, напортачил? – злобно сказал тренер.
– Он слишком рано пошел на препятствие.
– Это твоя работа вести его.
Что толку говорить, что ни один жокей на свете никогда не сможет заставить ни одну лошадь все время прыгать без ошибки, и, уж конечно, не плохо выезженную трусливую скотину. Я просто кивнул и с легким сожалением усмехнулся хозяину.
– Попробуйте его в шорах, – сказал я.
– Это мне решать, – отрезал тренер.
– Цел? – сочувственно спросил хозяин.
Я кивнул. Тренер тут же бесцеремонно придушил этот гуманный порыв сочувствия к жокею и повел свою дойную коровку в сторону – не дай бог, я проговорюсь и скажу правду насчет того, почему лошадь не прыгнула, когда ее заставляли. Я без всякой злобы посмотрел им вслед и пошел к двери весовой.
– Эй, – какой-то молодой человек шагнул мне навстречу, – это вы Филип Нор?
– Верно.
– Мм… могу я переговорить с вами?
Ему было лет двадцать пять. Долговязый, словно аист, серьезный, бледнокожий, как конторский служащий. Черный фланелевый костюм, полосатый галстук. При нем не было бинокля, и вообще похоже было, что он не имеет никакого отношения к скачкам.
– Можете, – ответил я. – Если подождете, пока я схожу к доктору и переоденусь в сухое.
– Доктору? – спросил он с встревоженным видом.
– А, обычная проверка. После падения. Это недолго.
Когда я снова вышел, согревшийся и в уличной одежде, он все еще ждал меня. Он был у паддока почти один – все пошли смотреть последний заезд.
– Я… ну… меня зовут Джереми Фолк. – Он извлек откуда-то из черного пиджака карточку и протянул ее мне. Я взял ее и прочел: «Фолк, Лэнгли-сын и Фолк».
Адвокаты. Адрес в Сент-Олбансе, Хартфордшир.
– В смысле, последний Фолк, – застенчиво указал Джереми, – это я и есть.
– Поздравляю, – ответил я.
Он одарил меня нервной полуулыбкой и прокашлялся.
– Меня послали… ну… я пришел попросить вас… ну… – Он беспомощно замолк. Вид у него был совсем не адвокатский.
– Ну, заканчивайте, – сказал я.
– Попросить вас прийти к вашей бабушке, – нервно выпалил он. Казалось, у него груз спал с плеч.
– Нет, – ответил я.
Он изучающе посмотрел мне в лицо и, казалось, приободрился от моего спокойного вида.
– Она умирает, – сказал он. – И хочет вас видеть.
«Всюду смерть, – подумал я. – Джордж Миллес и мать моей матери. И в обоих случаях ничуточки не жалко».
– Вы поняли? – спросил он.
– Понял.
– И как? В смысле, сегодня?
– Нет, – сказал я. – Не пойду.
– Но вы должны! – Вид у него был обеспокоенный. – В смысле… она старая… умирает… она хочет видеть вас…
– Беда какая.
– И если я не смогу убедить вас, мой дядя… в смысле, «сын»… – Он снова показал карточку, все сильнее волнуясь. – Ну… Фолк – это мой дедушка, а Лэнгли – двоюродный дедушка, и… ну… они послали меня… – Он сглотнул. – Честно говоря, они думают, что я совершенно бесполезен.
– Это уже шантаж, – сказал я.
Легкий блеск в его глазах сказал мне, что он на самом деле не так глуп, как изображал.
– Не хочу я ее видеть, – сказал я.
– Но она же умирает.
– А вы сами видели, что она умирает?
– Ну… нет…
– Готов поспорить, что она вовсе не умирает. Если ей хочется меня увидеть, то она точно заявит, что умирает, поскольку знает, что иначе я к ней не приду.
Вид у него был ошарашенный.
– Но ей же, в конце концов, семьдесят восемь.
Я мрачно глянул на непрекращающийся дождь. Я никогда не навещал свою бабку и не желал ее видеть, умирала она там или нет. Знаю я эти предсмертные раскаяния, эти попытки застраховаться в последнюю минуту на пороге адских врат. Слишком поздно.
– Ответ прежний, – ответил я. – Нет.
Он удрученно пожал плечами и уже готов был сдаться. Вышел на дождь – с непокрытой головой, беззащитный, без зонтика. Через десять шагов обернулся и снова осторожно подошел ко мне:
– Послушайте… вы на самом деле ей нужны, так говорит мой дядя. – Он был так искренен, так настойчив, прямо-таки миссионер. – Вы же не можете вот так просто дать ей умереть.
– Где она? – спросил я.
Он просиял:
– В частной лечебнице. – Он порылся в другом кармане. – Тут у меня адрес. Но, если вы идете, я провожу вас прямо туда. Это в Сент-Олбансе. Вы живете в Ламборне, так? Значит, это не так уж и далеко от вас, правда? В смысле, не за сотни миль или что-нибудь в таком роде.
– Добрых полсотни, думаю.
– Ну… в смысле… вам же всегда приходится ездить жутко много.
Я вздохнул. Хрен редьки не слаще. Либо покорно сдаться, либо быть твердым как скала. И то и другое дрянь. Бабка выбивала из меня упрямство с самого рождения, но это, по-моему, не извиняло меня сейчас, когда она умирает. Да и как я могу презирать ее, как делал в течение долгих лет, если поведу себя как она. Неприятно.
Зимний день уже угасал, электрические фонари разгорались с каждой минутой все ярче, расплывчато просвечивая сквозь дождь. Я подумал о своем пустом доме, о том, что вечер будет заполнить нечем, о двух яйцах, ломте сыра и черном кофе на ужин, о том, что захочу съесть еще что-нибудь и не съем. «Если я пойду, – подумал я, – то, по крайней мере, не буду думать о еде, и это поможет мне в моей постоянной борьбе с весом, а значит, будет не так уж и плохо. Даже если и придется встретиться с бабкой».
– Ладно, – покорно сказал я, – ведите.
Старуха сидела в кровати, выпрямив спину, и жестко смотрела на меня. Если она и собиралась умереть, то уж точно не сегодня вечером. Темные глаза были полны жизни, и в голосе не слышалось смертной слабости.
– Филип, – жестко сказала она и оглядела меня с головы до ног.
– Я.
– Ха.
Она прямо-таки выплюнула это «ха», одновременно торжествующе и презрительно – этого я и ожидал. Ее крутой нрав лишил меня детства и причинил еще большее зло ее собственной дочери. Я с облегчением увидел, что тут не придется выслушивать плаксивых просьб о прощении. Мы по-прежнему, пусть и не так ярко выражено, терпеть не могли друг друга.
– Я знала, что ты прибежишь, – сказала она с неистребимой холодной глумливостью, – когда услышишь о деньгах.
– Какие еще деньги?
– Сто тысяч фунтов, естественно.
– Никто, – сказал я, – не говорил мне ни о каких деньгах.
– Не ври! С чего же еще тебе приходить?
– Мне сказали, что вы умираете.
Она удивленно и злобно зыркнула на меня и осклабилась. Видимо, это должно было изображать улыбку.
– Да. Как и все мы.
– Да, – сказал я, – и с одной и той же скоростью. День за днем.
Она вовсе не походила на розовощекую милую бабушку. Сильное упрямое лицо с глубокими резкими брезгливыми складками у рта. Серо-стальные, до сих пор густые чистые волосы были аккуратно уложены. Бледная кожа усыпана старческими веснушками, темные вены выступали на внутренней стороне рук. Худая, почти тощая женщина. И высокая, насколько я мог судить.
Большая комната, где она лежала, походила скорее на гостиную, в которой поставили кровать, а не на больничную палату. Это очень даже вязалось с тем, что я видел здесь по пути. Сельский дом, приспособленный для новых целей, – отель с сиделками. Всюду ковры, длинные шторы из чинтца[1 - Плотная хлопчатобумажная декоративная ткань.],кресла для посетителей, вазы с цветами. «Хорошо так умирать», – подумал я.
– Я проинструктировала мистера Фолка, – сказала она, – чтобы он сделал тебе предложение.
Я задумался:
– Молодой мистер Фолк? Лет двадцати пяти? Джереми?
– Конечно нет, – нетерпеливо сказала она. – Мистер Фолк, мой адвокат. Я сказала ему, чтобы он доставил тебя сюда. Что он и сделал. Ты здесь.
Я отвернулся от нее и без приглашения сел в кресло. «Почему Джереми не упомянул о ста тысячах фунтов? – подумал я. – Если это, в конце концов, какой-то подвох, то такое легко не забывают».
Моя бабка злобно уставилась на меня, и я ответил ей таким же взглядом. Мне не понравилась ее уверенность в том, что она может меня купить. Меня отталкивало ее презрение, и я не верил ее намерениям.
– Я завещаю тебе сто тысяч фунтов, но на определенных условиях, – сказала она.
– Нет, – ответил я.
– Извиняюсь, что? – Ледяной голос, каменное лицо.
– Я сказал, нет. Никаких денег. Никаких условий.
– Ты не слышал моего предложения.
Я ничего не сказал. На самом-то деле меня начало разбирать любопытство, но я совершенно не собирался ей этого показывать. Поскольку она явно не торопилась, молчание затянулось. Похоже, прокручивала в голове возможные варианты. Я же просто ждал. Я мог делать это бесконечно долго. Мое бессистемное воспитание привило мне эту способность: ждать людей, которые не приходили, обещаний, которые не выполнялись.
Наконец она сказала:
– Ты выше, чем я думала. И упрямее.
Я еще помолчал.
– Где твоя мать? – спросила она.
Моя мать, ее дочь.
– Ветром развеяло, – ответил я.
– Что ты имеешь в виду?
– Думаю, она умерла.
– «Думаю»! – скорее раздраженно, чем обеспокоенно сказала она. – Ты что, не знаешь?
– Она не писала мне, что умерла, потому и не знаю.
– Твоя дерзость просто непристойна!
– Ваше поведение еще до моего рождения, – сказал я, – не дает вам права так говорить.
Она заморгала. Раскрыла рот да так и сидела несколько секунд. Затем плотно закрыла его. На челюстях вздулись желваки, и она мрачно уставилась на меня с устрашающей смесью ярости и злобы. И по этому выражению я понял, что пришлось вытерпеть моей бедной юной матери, и ощутил прилив огромного сочувствия к той беспечной бабочке, что родила меня.
Как-то раз, когда я был еще совсем маленьким, меня одели в новый костюмчик и велели вести себя очень хорошо, поскольку мы с мамой идем к бабушке. Моя мать забрала меня оттуда, где я жил, и мы поехали на машине к большому дому, где меня оставили одного в холле ждать. Из-за закрытой белой крашеной двери доносился крик. Затем с плачем вышла моя мать и за руку потащила меня в машину.
– Идем, Филип. Мы никогда ни о чем больше не будем ее просить. Никогда не забывай, что твоя бабка – злобная тварь!
Я не забыл. Я редко думал об этом, но я до сих пор ясно помню, как сидел на стуле в холле, не доставая ногами до пола, и ждал в жестком новом костюмчике, слушая крики за дверью.
Я никогда по-настоящему не жил с матерью, разве что время от времени выпадала одна-другая мучительная неделя. У нас не было ни дома, ни адреса, ни постоянного пристанища. Она никогда не сидела на месте, потому всегда решала проблему – куда меня девать – весьма просто: спихивала меня на разное время по очереди своим многочисленным друзьям. Это, конечно, было для них как снег на голову, но они, как я теперь понимаю, были чрезвычайно терпеливыми людьми.
– Присмотри за Филипом несколько дней, дорогая, – говорила она, подталкивая меня к очередной чужой леди. – Жизнь сейчас такая невыносимо суматошная, и я прямо ума не приложу, что с ним делать, ты же знаешь, каково это, потому, дорогая Дебора (или Миранда, или Хлоя, или Саманта, или кто еще), будь лапочкой, я заберу его в субботу, честное слово! – Чаще всего она звучно чмокала дорогую Дебору, или Миранду, или Хлою, или Саманту и убегала, помахав ручкой, вся в ореоле веселья.
Приходила суббота, а моя мама… Нет, но в конце концов она всегда возвращалась, полная беспечности и смеха, рассыпаясь в благодарностях, и забирала, так скажем, свои вещи из камеры хранения. Я мог оставаться на складе дни, недели или месяцы: я никогда не знал, когда она приедет, как, подозреваю, и мои гостеприимные хозяева. Думаю, она по большей части платила какие-то деньги за мое содержание, но все как бы в шутку.
Даже мне она казалась очень хорошенькой. Причем была она настолько хорошенькой, что ее обнимали, ей потакали и прямо-таки пьянели в ее присутствии. Только потом, когда их оставляли буквально с ребенком на руках, они начинали сомневаться. Я стал запуганным молчаливым ребенком, который в постоянном напряжении ходил на цыпочках, стараясь никого не побеспокоить, все время боясь, что однажды меня насовсем выставят на улицу.
Оглядываясь назад, я понимаю, что я очень многим обязан Саманте, Деборе, Хлое и прочим. Я никогда не голодал, меня никогда не шпыняли и никогда, в конце концов, не отталкивали совсем. Случайные люди давали мне приют два или три раза, иногда радостно, но по большей части смирившись с судьбой. Когда мне было года три или четыре, кто-то длинноволосый, в браслетах и туземном халате, научил меня читать и писать, но я никогда подолгу нигде не жил, чтобы меня можно было официально отправить в школу. Это было странное, бестолковое, лишенное почвы существование, которое закончилось лет в двенадцать, когда меня отвезли в первое мое долговременное жилище, – тогда я умел выполнять почти всю работу по дому, но не умел любить.
Она оставила меня у двух фотографов, Данкена и Чарли. Поставила в большой фотостудии с голым полом, проявочной, ванной, одной-единственной конфоркой и кроватью за занавеской.
– Милые, присмотрите за ним до субботы, овечки мои… – И хотя я получал поздравительные открытки с днем рождения, подарки на Рождество, ее самой я не видел три года. Затем, когда Данкен уехал, она однажды вдруг влетела в дом, забрала меня у Чарли и отвезла к знакомому, который готовил лошадей для скачек, и его жене в Хэмпшир и заявила своим обалдевшим друзьям:
– Это только до субботы, милые, ему пятнадцать, он мальчик крепкий, он вам навоз чистить будет и все такое…
Еще пару лет или около того приходили открытки, всегда без адреса, так что я и ответить не мог. На мой девятнадцатый день рождения открытки не было, а затем на Рождество не было подарка, и больше я о ней ничего не слышал.
Она, наверное, умерла от наркотиков. Она сильно кололась, как я понял, когда вырос и разобрался в этом деле.
Старуха пялилась на меня с другого конца комнаты, как всегда, неумолимо и сердито, все еще злясь на мои слова.
– Ты мало чего добьешься от меня, если будешь так разговаривать, – сказала она.
– А мне ничего и не надо. – Я встал. – Зря я пришел. Если вы хотели отыскать дочь, то вам следовало начать делать это двадцать лет назад. А что до меня… я не стал бы ее искать ради вас, даже если бы мог.
– Я не хочу, чтобы ты искал Каролину. Думаю, ты прав насчет того, что она умерла. – Эта мысль явно не вызывала у нее скорби. – Я хочу, чтобы ты разыскал свою сестру.
– Мою… кого?
Злые темные глаза проницательно и оценивающе уставились на меня.
– Ты не знал, что у тебя есть сестра? Ну так теперь знаешь. Я завещаю тебе сто тысяч фунтов, если ты разыщешь ее и привезешь ко мне. И не думай, – едко заметила она, прежде чем я успел что-либо сказать, – что сумеешь подсунуть мне какую-нибудь маленькую самозванку и я ей поверю. Я стара, но далеко не дура. Тебе придется доказать мистеру Фолку, что девочка – моя внучка. А мистера Фолка трудно убедить.
Я едва слышал эти ядовитые слова – слишком сильным было потрясение. Ведь я был один, единственный отпрыск этой бабочки. Я ощутил беспричинный, но болезненный укол ревности, оттого что у нее был другой ребенок. Она была только моя, а теперь мне придется делить ее с кем-то, думать о ней по-другому. В смятении я подумал, что в тридцать лет нелепо переживать по этому поводу.
– Ну? – резко спросила моя бабка.
– Нет, – ответил я.
– Это же куча денег, – отрезала она.
– Когда они у тебя есть.
Она снова взбесилась:
– Наглец!
– О да. Ладно, если это все, я пошел. – Я повернулся и направился к двери.
– Постой, – торопливо сказала она. – Ты даже не хочешь посмотреть на ее фотографию? Там, на комоде, фото твоей сестры.
Я глянул через плечо и увидел, как она кивнула на комод в противоположном углу комнаты. Наверное, она заметила, как моя рука чуть задержалась на дверной ручке, поскольку сказала уже более доверительно:
– Ты просто посмотри на нее. Почему бы не посмотреть?
Я, вообще-то, не слишком этого хотел, меня просто подтолкнуло мое непреодолимое любопытство, и я подошел к комоду и посмотрел. Там лежал моментальный снимок, обычная фотография из семейного альбома размером с почтовую карточку. Я взял ее и повернул к свету.
Маленькая девочка лет трех-четырех, верхом на пони.
Ребенок с темно-каштановыми волосами до плеч в краснобелой полосатой футболке и джинсах. Обычный серый валлийский пони с чистой с виду сбруей. Их явно сняли во дворе у денников. Вид у обоих был довольный и сытый, но фотограф стоял слишком далеко, чтобы детское личико было видно в деталях. Может, увеличение немного поможет.
Я перевернул снимок, но на обратной стороне не было написано ничего, что помогло бы понять, откуда ее прислали или кто снимал.
Со смутным разочарованием я снова положил ее на комод и увидел, вздрогнув от тоски по прошлому, лежавший рядом конверт, надписанный рукой моей матери. Письмо было адресовано бабке, миссис Лавинии Нор, в старом доме в Нортгемптоншире, где мне тогда пришлось ждать в холле.
В конверте лежало письмо.
– Что ты делаешь? – в тревоге спросила моя бабка.
– Читаю письмо матери.
– Но я… Почему оно здесь? Положи его сейчас же! Я думала, оно в ящике.
Я не слушал ее. Почерк моей матери – с завитушками, экстравагантный, экстравертный – так ярко всплыл у меня в памяти, что мне показалось, что она здесь, в комнате, болтает без умолку, чуть ли не смеясь, и, как всегда, просит помочь.
Но это письмо, датированное только вторым октября, отнюдь не было веселым.
Дорогая мама!
Я знаю, что сказала, что никогда и ни о чем не буду снова тебя просить. Но я хочу попытаться еще раз, поскольку я, дура, все еще надеюсь, что однажды ты изменишь свое решение. Я посылаю тебе фото моей дочери Аманды, твоей внучки. Она очень миленькая и хорошенькая. Ей сейчас три года, ей нужен настоящий дом, ей нужно ходить в школу и все такое. Я знаю, что ты не хочешь, чтобы рядом с тобой были дети, но, если ты просто дашь ей пособие или даже сделаешь для нее что-нибудь ради бога, она сможет жить у совершенно по-ангельски добрых людей, которые ее любят и хотят оставить у себя, но просто не в силах сделать все для еще одного ребенка, поскольку у них уже своих трое. Если ты будешь регулярно переводить сколько-нибудь денег на их счет, то ты этого даже и не заметишь. А твоя внучка будет воспитываться в счастливом доме. А я не могу ей этого дать и потому в таком отчаянии, что пишу тебе.
У нее другой отец, не тот же, что у Филипа, и ты не можешь ненавидеть ее по той же самой причине, и, если бы ты увидела ее, ты бы ее полюбила. Но даже если ты не захочешь ее видеть, то, пожалуйста, мама, позаботься о ней. Надеюсь вскоре получить от тебя весточку. Пожалуйста, пожалуйста, мама, ответь на это письмо.
Твоя дочь, Каролина
Написано в Пайн-Вудз-Лодж,
Миндл-Бридж, Суссекс.
Я поднял взгляд и посмотрел на упрямую старуху:
– Когда она это написала?
– Много лет назад.
– И вы не ответили, – без обиняков сказал я.
– Нет.
Я подумал, что глупо гневаться по поводу такой давней трагедии. Я посмотрел на конверт, чтобы определить дату письма по печати, но она была стертой и неразборчивой. «Сколько же, – подумал я, – она ждала в Пайн-Вудз-Лодж в надежде, тревоге и отчаянии…» Конечно же, «отчаяние» в отношении моей матери было самым подходящим словом. Отчаяние было в ее смехе и простертых руках – и Господь (или Дебора, или Саманта, или Хлоя) не оставлял ее без ответа. Отчаяние не сделало ее ни мрачной, ни выносливой – но каким же глубоким оно должно было быть, чтобы заставить просить о помощи ее мать.
Я положил письмо, конверт и фотографию в карман пиджака. Мне было гадко, что старуха хранила их все эти годы, отвергая их мольбы, и я смутно ощущал, что они принадлежат мне, а не ей.
– Итак, ты это сделаешь, – сказала она.
– Нет.
– Но ты же взял фотографию.
– Да.
– И тогда?
– Если вы хотите найти Аманду, вам надо нанять частного детектива.
– Уже, – нетерпеливо сказала она. – Конечно же, я нанимала. Троих. И все без толку.
– Если уже трое потерпели неудачу, то ее не найти, – сказал я. – Я ничем не смогу помочь.
– Ну, тут есть стимул получше, – торжествующе сказала она. – За такие деньги ты в лепешку разобьешься!
– Ошибаетесь. – Я с горечью посмотрел на нее через комнату. Она без улыбки ответила мне взглядом со своего усыпанного подушками ложа. – Если я возьму от вас хоть какие-то деньги, меня стошнит.
Я пошел к двери и на сей раз открыл ее, не мешкая.
– Эти деньги получит Аманда, – сказала она мне в спину, – если ты найдешь ее.
Глава 2
Когда я на другой день снова приехал в Сандаун, письмо и фотография все еще лежали у меня в кармане, однако эмоции уже улеглись. Я был способен думать о своей неизвестной сводной сестре без детской злости. Еще один фрагмент прошлого встал на свое место. Но сейчас всеобщее внимание привлекало настоящее в лице Стива Миллеса. Он появился в раздевалке за полтора часа до первого заезда, весь запыхавшийся, с бисеринками мелкого дождя в волосах и праведным гневом в глазах. Он сказал, что дом его матери ограбили, когда все они были на похоронах отца. Мы, полупереодетые для скачек, так и замерли, ошеломленно слушая его. Я окинул взглядом эту сцену – жокеи во всех стадиях одевания, кто в кальсонах, с голой грудью, кто уже в костюме, натягивает нейлоновые брюки в обтяжку и сапоги. Все, застыв, с открытым ртом уставились на Стива.
Почти автоматически я достал свой «Никон» и сделал пару снимков. Они все так привыкли к тому, что я снимаю, что никто не обратил на меня внимания.
– Это просто страшно, – говорил Стив. – Омерзительно. Мама испекла немного печенья и всякого такого прочего для тетушек и других родственников к нашему возвращению с кремации. И все это было разбросано, растоптано, размазано по стенам и по ковру. А на кухне было еще хуже… в ванной тоже… Словно шайка малолетних психов бесилась по всему дому и гадила, как могла. Только вот это были не дети… Полицейские говорят, что дети не украли бы того, что у нас взяли.
– У твоей матери что, куча драгоценностей? – поддел кто-то.
Кое-кто из ребят рассмеялся, и первое напряжение улеглось, однако Стиву вполне искренне сочувствовали, и он продолжал рассказывать всем, кто слушал. Я тоже слушал, и не только потому, что наши вешалки в Сандауне были рядом и выбора у меня все равно не было, но еще и потому, что у нас были неплохие отношения.
– Они обчистили папину проявочную, – рассказывал он. – Просто все оттуда вынесли. Это же бессмысленно… я так полиции и сказал. Ведь они не взяли ничего такого, что можно было бы продать, вроде увеличителя или оборудования для проявки. Вместо этого они забрали все его работы, все фотографии, которые он снял за эти годы, все это пропало. И вот мама среди всего этого разгрома, и папа умер, и теперь у нее не осталось ничего из того, чему он посвятил всю свою жизнь. Ровным счетом ничего. И еще они забрали ее меховое полупальто и даже духи, которые папа подарил ей на день рождения, она даже не успела их открыть… Она просто сидела и плакала…
Он резко осекся. Проглотил комок в горле, словно это было слишком и для него тоже. Хотя он и не жил с родителями, в свои двадцать три года он все еще во многом оставался домашним ребенком, упрямо привязанным к родителям, что восхищает многих. Может, Джорджа Миллеса и ненавидели, но в глазах собственного сына он всегда был великим человеком.
Тонкий в кости, хрупкий, темноглазый, с оттопыренными ушами, Стив казался смешным. Он был очень нервным и впечатлительным. Если его что-то взволновало – пусть даже и не по такому чрезвычайному случаю, как сегодня, – он имел привычку без конца возбужденно это обсуждать.
– Полицейские сказали, что взломщики делают это назло, – говорил Стив, – переворачивают все вверх дном и крадут фотографии. Они сказали, хорошо еще, что они нигде не нассали и не насрали, как часто бывает, и что ей надо радоваться, что они не переломали стулья и диваны и не исцарапали мебель. – Он все рассказывал новоприбывшим о случившемся, но я уже кончил переодеваться и вышел, чтобы участвовать в первом заезде, и до полудня забыл о взломе в доме Миллесов.
Это был день, которого я ждал целый месяц, хотя и старался не слишком заглядывать вперед. Сегодня Дэйлайт бежит в Сандауне на скачках с гандикапом. Большие скачки, хорошая лошадь, так себе соперники и высокие шансы на победу. Такие совпадения довольно редко выпадали на мою долю, так что было чему радоваться, но я предпочитал ничему не верить, пока не оказывался на дистанции. Как мне сказали, Дэйлайт прибыл целым и невредимым. Мне нужно было пройти без потерь только первый заезд, скачку для новичков, а тогда, возможно, я выиграю Большие скачки, и с десяток владельцев на уши встанут, только бы предложить мне своего фаворита для скачек на Золотой кубок.
Обычно моей нормой было два заезда в день, и если я заканчивал сезон в первой десятке, то я был на вершине счастья. Долгие годы я пудрил себе мозги насчет того, что я так мало достиг потому, что я выше и тяжелее, чем нужно для этой работы. Даже при постоянном голодании я весил где-то десять стонов[2 - Стон – старинная английская мера, равная 6,4 кг.] и еще семь кило или чуть меньше без одежды, и потому меня постоянно исключали из бесчисленных заездов, где вес жокея не должен был превышать десяти стонов. По большей части мне выпадали сотни две заездов в сезон, где-то в сорока случаях я побеждал, и я знал, что меня считали «сильным», «надежным», что я «хорош на препятствиях», но «на финише – не первый класс».
Большинство людей думают в молодости, что они обязательно дойдут до вершины мастерства и что восхождение на эту вершину – лишь формальность. Думаю, не будь у них такой веры, они никогда бы и не начали. Где-то по дороге они поднимают взгляд и видят, что до вершины не доберутся. И тогда они находят счастье в том, что смотрят под ноги и наслаждаются тем, что имеют. Лет в двадцать шесть я смирился с мыслью о том, что дальше не продвинусь. Странно, это отнюдь не повергло меня в уныние, наоборот, я осознал это с облегчением. Я никогда не был слишком честолюбив, я просто хотел делать все как можно лучше. Если не могу лучше, так что ж, значит не могу, и все. Но все равно я не находил причин отказываться, если мне прямо-таки навязывали победителей Золотого кубка.
В тот день в Сандауне я закончил скачки для новичков без приключений («хорошо, но без вдохновения»), придя к финишу пятым из девятнадцати. Не так уж и плохо. Лучше у нас с лошадью все равно не получилось бы в тот день. Все как обычно.
Я переоделся в цвета Дэйлайта и пошел себе к паддоку, предвкушая радость грядущей скачки. Тренер Дэйлайта, для которого я скакал регулярно, ждал меня там вместе с владельцем лошади.
Владелец отмахнулся от моего бодрого приветствия насчет того, что как здорово, что дождь прекратился, и без обиняков начал:
– Сегодняшнюю гонку ты проиграешь.
Я улыбнулся:
– Если это будет в моих силах – нет.
– Проиграешь, – отрезал он. – Я поставил на другого.
Наверное, мне не удалось полностью скрыть гнев и гадливость. Он выделывал такое и прежде, но уже года три, как вроде бы притормозил. К тому же он знал, что я этого не люблю.
Виктор Бриггз, владелец Дэйлайта, был крепко сбитым мужчиной за сорок. Чем он занимался и кем он вообще был, я не знал. Нелюдимый, скрытный, он появлялся на скачках с ничего не выражающим, неулыбчивым лицом, говорил со мной мало. Он всегда носил тяжелое темно-синее пальто, черную широкополую шляпу и толстые черные кожаные перчатки. В прошлом он был отчаянным игроком на скачках, и, когда я скакал для него, выбор у меня был один – делать то, что он говорит, или потерять работу. Тренер Гарольд Осборн прямо сказал мне вскоре после того, как я к нему подошел, что, если я не сделаю того, чего хочет Виктор Бриггз, я буду уволен.
Я проигрывал для Бриггза скачки, которые мог бы выиграть. Но такова жизнь. Мне нужно было есть и выплачивать кредит за коттедж. Для этого мне нужна была хорошая большая конюшня, для которой я мог бы скакать, и если я уйду из одной, где мне давали шанс, то я попросту могу и не найти другой. Их не так уж и много, и, даже если не учитывать Виктора Бриггза, Осборн был очень даже прав. И потому, как многие жокеи в подобных щекотливых условиях, я делал то, что мне говорили, и помалкивал.
В самом начале, когда Виктор Бриггз предложил мне солидную сумму наличными за проигрыш, я сказал, что мне таких денег не надо: я проиграю, если придется, но не за деньги. Он сказал, что я молодой надутый дурак, но после того, как я вторично отказался, он стал держать свои деньги в кармане и свое мнение обо мне – при себе.
– Почему бы тебе и не взять? – сказал Гарольд Осборн. – Не забывай, что ты получишь на десять процентов больше, чем если бы ты выиграл. Мистер Бриггз просто возмещает тебе проигрыш, вот и все.
Я покачал головой. Он не настаивал. Я подумал, что я, может, и вправду дурак, но когда-то кто-то – не то Саманта, не то Хлоя внушили мне эту неприятную убежденность в том, что за грехи придется расплачиваться. И после того, как я три с лишним года не сталкивался с этой дилеммой, меня еще более взбесило то, что я снова уткнулся в то же самое.
– Я не могу проиграть, – запротестовал я. – Дэйлайт – лучшая лошадь в конюшне. С ним никто даже в сравнение не идет. Вы сами знаете.
– Просто сделай так, – сказал Виктор Бриггз. – И говори потише, если не хочешь, чтобы распорядитель тебя услышал.
Я глянул на Гарольда Осборна. Он упорно смотрел на то, как лошади вышагивают по кругу, и делал вид, что не слышал слов Виктора Бриггза.
– Гарольд, – позвал я.
Он коротко мазнул по мне безразличным взглядом:
– Виктор прав. Ставки сделаны на другого. Ты будешь стоить нам кучу денег, если выиграешь. Значит, не выигрывай.
– Нам?
Он кивнул:
– Нам. Это правда. Упади, если придется. Проиграй секунду, если хочешь. Но не приходи первым. Понял?
Я кивнул. Я понимал. Снова в те же тиски, как три года назад.
Я повел Дэйлайта рысью к старту. Жизнь, как и прежде, наступала на горло возмущению. Если я не мог себе позволить потерять работу в двадцать три, тем более не могу в тридцать. Меня знали как жокея Осборна. Я семь лет на него работал. Если он вышвырнет меня, то ничего, кроме такой же рутины, в другой конюшне я не добьюсь. Буду скакать во вторую очередь вместо других жокеев и покачусь к забвению. Он ведь не скажет прессе, что избавился от меня потому, что я не хочу больше проигрывать по приказу. Он скажет им (конечно же, с сожалением), что ищет кого-нибудь помоложе… что ему приходится делать то, что лучше для хозяев лошадей… чертовски жаль, но карьере любого жокея приходит конец… конечно же, печально, и все такое прочее, но время-то идет, куда же денешься?
«Будь все проклято», – подумал я. Я не хотел проигрывать эту скачку. Мне гадко было играть нечестно… и десять процентов, которые я потерял бы на этот раз, были достаточно большой суммой, чтобы разозлить меня еще сильнее. Какого хрена Бриггз вернулся к своим делишкам спустя столько времени? Я-то думал, что он завязал, поскольку я довольно многого достиг, работая на него как жокей, чтобы понять, что я, скорее всего, откажусь. Жокей, который стоит достаточно высоко в списке победителей, был избавлен от подобного давления, поскольку, если в его конюшне сглупят и выпихнут его прочь, его тут же с распростертыми объятиями примут в другой. Может, он думал, что я уже прошел пик формы, поскольку стал старше и теперь снова оказался под угрозой остаться без работы.
Мы шагали по кругу, пока судья на старте зачитывал список участников. Я с опаской смотрел на четырех лошадей, которых ставили против Дэйлайта. Среди них не было ни одной стоящей. Ни одной, что хотя бы на бумаге могла обойти моего могучего мерина, именно поэтому зрители сейчас ставили четыре фунта на Дэйлайта, чтобы выиграть один.
Четыре к одному…
Отнюдь не рискуя собственными деньгами при таких шансах, Виктор Бриггз тихой сапой шел на пари с другими и будет вынужден платить, если его лошадь выиграет. Кажется, и Гарольд тоже, – однако я чувствовал, что кое-чем обязан Гарольду.
После того как я семь лет проработал с ним, наши отношения стали более тесными, чем простое сотрудничество тренера и жокея. Я стал относиться к нему если не с теплотой, как к близкому другу, то, по крайней мере, весьма по-приятельски. Он был человеком, полным страстей и обаяния: то впадал в черную депрессию, то взлетал на вершину буйного красноречия, то тиранствовал, то был щедр. Он мог переорать и перематерить любого в Беркшир-Даунсе, и конюхи с тонкой душевной организацией толпами бежали от него. Когда я впервые скакал для него, его бурное восхищение моей ездой было на полной громкости слышно от Уэнтеджа до Суиндона, а сразу после этого и у него дома, когда он откупорил бутылочку шампанского и мы выпили за наше дальнейшее сотрудничество.
Он доверял мне всегда и полностью, и отстаивал меня перед критиками, что сделал бы не каждый тренер. У каждого жокея, рассудительно говорил он, бывает черная полоса, и, когда в такую полосу попадал я, он всегда давал мне работу. Он считал, что я, со своей стороны, буду полностью предан ему и его конюшне, и в последние три года ему легко было так думать.
Судья вызвал лошадей на старт, и я развернул Дэйлайта мордой в нужную сторону.
Старт-машин не было. Для скачки с препятствиями их не используют. Вместо них – эластичная лента.
В холодном злом унижении я решил, что скачку ради Дэйлайта надо бы закончить как можно ближе к старту. Когда на тебя устремлены тысячи биноклей, телекамеры и камеры слежения, когда пронырливые ребята из прессы только на тебя и смотрят, проиграть в любом случае трудно, и, если я сойду с дистанции, когда будет ясно, что Дэйлайт выигрывает, это будет равно самоубийству. А если я просто упаду на последней полумиле, начнется расследование и я могу потерять лицензию. И мне не будет легче от осознания того, что сам это заслужил.
Судья положил руку на рычаг, лента взлетела вверх, и я послал Дэйлайта вперед. Никто из остальных жокеев не захотел возглавить скачку. Мы тронулись медленно, один за другим, отчего мои треволнения только усилились. Дэйлайт никогда не споткнется ни у одного препятствия. Он всегда стабильно прыгал и вряд ли падал хоть раз. Некоторых лошадей никак не подведешь как надо к препятствию – Дэйлайта невозможно было подвести неправильно. Все, что ему было нужно, так это малейший знак жокея, а остальное он сделает сам. Я много раз скакал на нем. Выиграл с ним шесть скачек. Я хорошо его знал.
Обмануть лошадь. Надуть публику.
Надуть.
«Будь все проклято, – подумал я. – Проклятье, проклятье и проклятье».
Я сделал это у третьего препятствия, на склоне у вершины холма, на крутейшем повороте, на пути от трибун. Это было лучшее место, поскольку под таким углом зрители мало что заметили бы, на подъеме при подходе к препятствию – у него в этом году многие падали.
Дэйлайт, сбитый с толку моими неверными посылами и, вероятно, почуяв каким-то телепатическим образом, как все лошади, мое беспокойство и гнев, начал сбиваться с аллюра еще до прыжка и сделал лишний рывок там, где его вообще не нужно было.
«Господи, – думал я, – малыш, я страшно виноват, но ты упадешь, если я сумею». И я послал его в неверный момент, чуть жестче, чем надо, натянув повод, когда он был уже в прыжке, и перенес вес на переднюю часть его плеча.
Он неуклюже приземлился, слегка споткнулся, опустил голову, чтобы выправить равновесие. Этого было недостаточно… но он должен был упасть. Я быстро вынул правую ногу из стремени и упал ему на спину так, что полностью сполз ему на левую сторону, съехал из седла, схватившись за его шею.
В таком положении невозможно было удержаться на спине лошади. Я цеплялся за него еще три неустойчивых шага, затем сполз ему под грудь, окончательно потеряв хватку и грянувшись наземь ему под ноги. Топот копыт, пара перекатов, и лошади промчались галопом мимо меня.
Я сидел на земле, отстегивая шлем, и чувствовал себя совершенной сволочью.
– Невезуха, – говорили мне мимоходом ребята в весовой. – Непер.
До конца дня все было спокойно. Я спрашивал себя – догадался хоть кто-нибудь, но, похоже, нет. Никто не подталкивал меня локтем, не подмигивал, не бросал на меня язвительных взглядов. Просто из-за смятения и чувства вины я не мог оторвать глаз от пола.
– Выше нос, – сказал Стив Миллес, застегивая какой-то оранжево-зеленый камзол. – Это еще не конец света. – Он взял хлыст и шлем. – Завтра будет новый день.
– Ага.
Он ушел на свой заезд, а я мрачно переоделся в уличную одежду. «Все, – думал я. – Конец восторгам, с которыми я пришел на скачки. Конец победам, конец мечтам о десятке воображаемых тренеров, которые стоят на ушах, только бы заполучить меня для скачек на Золотой кубок. Конец надеждам на прибавление в смысле финансов, с которыми у меня стало малость туговато после покупки новой машины. Поражение на всех фронтах».
Я пошел посмотреть забег.
Стив Миллес, скорее из куража, чем по здравому смыслу, повел свою лошадь на второе последнее препятствие каким-то совершенно несуразным аллюром и упал при приземлении. Это было одно из тех тяжелых быстрых падений, при котором ломают кости, и всем было понятно, что со Стивом случилась беда. Он с трудом поднялся на колени, затем сел на корточки, свесив голову и обхватив себя руками. Предплечье, плечо, ребра… что-то повредил.
Его лошадь, целая и невредимая, поднялась и унеслась галопом прочь. Я немного постоял, наблюдая, как двое санитаров осторожно ведут Стива в медпункт. Я подумал, что и у него сегодня неудачный день, вдобавок ко всем семейным бедам. Что же заставляет нас такое делать? Что заставляет нас продолжать, несмотря на все переломы, риск и разочарования? Что все время манит нас к скорости, когда мы можем заработать ровно столько же, спокойно сидя в офисе?
Я снова пошел в весовую, чувствуя, как там, где по мне прошелся Дэйлайт, наливаются и ноют синяки. Завтра я буду весь багрово-черный, но это дело обычное. Ушибы, неизбежно связанные с моей профессией, не особенно меня беспокоили, и я никогда не ломал себе ничего настолько серьезно, чтобы бояться следующего падения. Я и вправду обычно ощущал себя здоровым, знал, что у меня сильное стройное тело, что я представляю собой гармоническое, атлетически сложенное существо. Ничего из ряда вон выходящего. Все на месте. Это было ощущение здоровья.
Я подумал, что утрата иллюзий убьет меня. Если работа уже не кажется стоящей, если люди вроде Виктора Бриггза делают ее до невозможности неприятной, то на этом человек может сломаться. Но еще не сейчас. Я все еще любил такую жизнь и вовсе не был готов расстаться с ней.
Стив вошел в раздевалку в сапогах, брюках и майке. Ключица была зафиксирована скобами, рука на перевязи, голова слегка наклонена в одну сторону.
– Ключицу сломал, – сердито буркнул он, – чертова невезуха!
От боли его тонкое лицо казалось и вовсе тощим, он осунулся, глаза запали, но за злостью он забыл о боли.
Его помощник помог ему переодеться, прикасаясь к нему с выработанной за долгое время осторожностью, и тихонько стянул с него сапоги, чтобы рывок не потревожил плечо. Толпа остальных жокеев вокруг нас толкалась, пела и шутила, пила чай и ела фруктовые пирожные, ребята снимали камзолы и надевали брюки, смеялись, чертыхались и торопились. Конец работы, конец рабочей недели, теперь до понедельника.
– Может, – сказал мне Стив, – ты подбросишь меня домой? – Он говорил робко, словно не был уверен, что наша дружба простирается настолько далеко.
– Думаю, да, – ответил я.
– Мне к маме. Это неподалеку от Аскота.
– Ладно.
– Мою машину кто-нибудь завтра пригонит, – сказал он. – Чертова невезуха.
Я сфотографировал его с помощником, который стягивал с него второй сапог.
– Что ты делаешь со всеми этими снимками? – спросил помощник.
– Сую в ящик.
Он помотал головой – мол, во дает!
– Пустая трата времени.
Стив глянул на «Никон»:
– Папа говорил, что видел кое-какие твои фотографии. Сказал, что когда-нибудь ты вытеснишь его из бизнеса.
– Он просто смеялся надо мной.
– Может, и да. Не знаю. – Он медленно всунул руку в рукав рубахи и дал помощнику застегнуть пуговицы на другом рукаве.
– Ох, – поморщился он.
Джордж Миллес действительно видел несколько моих снимков у меня в машине. Он застал меня, когда я их рассматривал, сидя в машине на стоянке в конце солнечного весеннего дня, поджидая, когда приятель, которого я подвозил, выйдет с ипподрома.
– Прямо Картье Брессон, – сказал Джордж, слегка улыбаясь. Он сунул руку в открытое окно и сцапал пачку фотографий – мы несколько мгновений тянули их каждый к себе. Я не смог остановить его. – Ну-ну, – проговорил он, одну за другой просматривая их. – Лошади в Даунсе, выбегают из тумана. Романтическое дерьмо. – Он отдал мне фотографии. – Сохрани их, парень. Когда-нибудь из тебя выйдет фотограф.
Он пошел через стоянку. Тяжелая сумка с камерой висела у него на плече. Временами он поддергивал ее, чтобы было легче нести. Он был единственным знакомым мне фотографом, с которым я не чувствовал себя как дома.
Данкен и Чарли три года, что я прожил у них, терпеливо учили меня всему, что я только мог усвоить. То, что меня спихнули им в двенадцать лет, значения не имело: Чарли с самого начала сказал, что я могу мыть полы и прибирать проявочную, и я с радостью это делал. Остальному меня учили постепенно, все разжевывая, и наконец я стал постоянно проявлять фотографии Данкена и делал половину рутинной работы за Чарли. Чарли называл меня «наш лаборант». «Он смешивает нам реактивы, – говорил он. – Знаток по части работы со шприцем. Внимательно, Филип, один и четыре десятых миллилитра бензолового спирта». И я точно набирал шприцем небольшие количества реактива и добавлял в проявитель, чувствуя, что я, в конце концов, хоть на что-то гожусь в этом мире.
Помощник надел на Стива куртку, отдал ему его часы и бумажник, и мы осторожно повели Стива к моей машине.
– Я обещал помочь маме разобрать весь тот бардак, когда вернусь. Чертова невезуха.
– Возможно, ей помогут соседи. – Я усадил его в свой новый «форд», включил фары и поехал в сторону Аскота.
– Никак не могу привыкнуть, что папы больше нет, – сказал Стив.
– Что случилось? – спросил я. – В смысле, ты сказал, будто он врезался в дерево…
– Да. – Он вздохнул. – Папа заснул за рулем. По крайней мере, так все считают. Других машин не было, ничего такого. Там был поворот или что-то вроде этого, и он не смог повернуть. Просто проехал прямо вперед. Наверное, так и не убрал ногу с педали… Весь перед в лепешку. – Его передернуло. – Он ехал домой из Донкастера. Мама всегда предупреждала его, чтобы он не ездил по автостраде вечером после трудного дня, но ведь он был не на автостраде… он был куда ближе к дому.
В его голосе звучали усталость и подавленность, – несомненно, это он и чувствовал. Украдкой глянув на него, я понял, что, несмотря на все мои старания вести машину осторожно, ему больно.
– Он на полчасика зашел к приятелю, – сказал Стив. – Они выпили по паре стаканчиков виски. Так глупо. Просто заснул…
Мы долго ехали молча. Он думал о своем, я – о своем.
– Только в прошлую субботу, – проговорил Стив. – Всего неделю назад…
Минуту назад – жив, сейчас – мертв… как все.
– Здесь налево, – сказал Стив.
Мы повернули несколько раз налево, потом направо и наконец выехали на улочку. По одну сторону ее шла живая изгородь, по другую тянулись опрятные домики.
Неподалеку впереди творилось что-то неладное. Горели огни, суетились люди. На дорожке к одному из домов стояла карета «скорой» с открытыми дверьми, на ее крыше вращался синий фонарь. Полицейская машина. Хлопали двери. Толпились любопытные.
– Господи, – проговорил Стив, – это же их дом! Мамин и папин!
Я открыл дверь, но он сидел неподвижно, потрясенно уставившись куда-то перед собой.
– Это мама. Наверняка. Теперь мама.
Судя по голосу, он был близок к истерике. Лицо его дергалось от чудовищного волнения, и глаза в отраженном свете казались огромными.
– Сиди здесь, – деловито приказал я. – Я пойду посмотрю.
Глава 3
Мать Стива, вся в крови, дрожа и кашляя, лежала на софе в гостиной. Какая-то сволочь напала на нее. Нос и губы были разбиты, глаз подбит, на щеке и челюсти свежие кровоподтеки. Одежда ее была разорвана, туфли непонятно где, всклокоченные волосы торчали во все стороны.
Я иногда видел мать Стива на скачках. Это была приятная, хорошо одетая дама лет пятидесяти, уверенная в себе и счастливая, откровенно гордящаяся сыном и мужем. В этой избитой женщине ее просто невозможно было узнать.
Рядом с ней сидел на табурете полицейский и стояла женщина из полиции с окровавленной тряпочкой. На заднем плане маячили двое санитаров, у стены лежали раскрытые носилки. Тут же со скорбным и встревоженным видом нервно переминалась с ноги на ногу какая-то женщина, вроде бы соседка. В комнате все было перевернуто вверх дном, на полу валялись какие-то бумажки, обломки мебели. На стене были следы джема и пирожных, как и рассказывал Стив.
Когда я вошел, полицейский повернул голову:
– Вы врач?
– Нет… – Я объяснил, кто я такой.
– Стив! – воскликнула его мать. Рот ее дергался, руки дрожали. – Стив ранен. – Она говорила с трудом, и все же страх за сына новой мукой прошел по ее и так исстрадавшемуся лицу.
– Все не так страшно, уверяю вас, – торопливо заверил ее я. – Он тут, снаружи. Просто ключицу сломал. Я сейчас приведу его.
Я вышел, рассказал ему все и помог выбраться из машины. Он ссутулился и весь сжался, хотя казалось, что сам он этого не ощущал.
– Почему? – беспомощно спрашивал он, поднимаясь по дорожке. – Почему? За что?
Полицейский в доме задавал те же вопросы, как, впрочем, и все остальные.
– Когда нас прервали, вы рассказывали, что их было двое, с чулками на головах. Верно?
Она едва заметно кивнула.
– Молодые, – сказала она. Это слово у нее вышло коряво – разбитые губы распухли. Она увидела Стива и потянулась к нему, крепко стиснула его руку. Он же, увидев ее, побледнел и осунулся еще больше.
– Белые или цветные? – спросил полицейский.
– Белые.
– Как они были одеты?
– В джинсах.
– Они были в перчатках?
Она прикрыла глаза. Подбитый распух и покраснел.
– Да, – прошептала она.
– Миссис Миллес, пожалуйста, попытайтесь вспомнить, – сказал полицейский, – чего они хотели?
– Они искали сейф, – пробормотала она.
– Что?
– Сейф. Но у нас нет сейфа. Я говорила им. – Две слезинки поползли по ее щекам. – Где сейф, повторяли они. Они избили меня.
– У нас нет сейфа, – прорычал Стив. – Я убью их.
– Хорошо, сэр, – сказал полицейский. – Только спокойно, сэр, будьте любезны.
– Один… начал ломать вещи, – сказала миссис Миллес. – Другой бил меня.
– Скоты, – проговорил Стив.
– Они не говорили, что им нужно? – спросил полицейский.
– Сейф.
– Да, но это было все? Может, они искали деньги? Драгоценности? Серебро? Золотые монеты? Что они в точности говорили, миссис Миллес?
Она слегка сдвинула брови, словно задумавшись. Затем, с трудом выговаривая слова, сказала:
– Они спрашивали только: «Где сейф?»
– Полагаю, вы знаете, – сказал я полицейскому, – что этот дом и вчера грабили?
– Да, сэр. Я сам тут вчера был. – Он несколько мгновений оценивающе смотрел на меня, затем снова повернулся к матери Стива. – Эти двое юнцов в масках говорили что-нибудь о том, что были тут вчера? Попытайтесь припомнить, миссис Миллес.
– Я… не думаю.
– Не торопитесь, – сказал он. – Попытайтесь вспомнить.
Она довольно долго молчала, по щекам ее скатились еще две слезинки. «Бедная женщина, – подумал я. – Столько страданий, столько горя, столько оскорблений… И сколько мужества».
Наконец она сказала:
– Они были… как быки. Они орали. Они были грубы. Они… толкали меня. Толкали. Я открыла переднюю дверь. Они ворвались. Впихнули… меня. Начали… все ломать… Устроили этот разгром… Кричали… «Где сейф? Говори, где сейф»… Били меня. – Она помолчала. – Не думаю… чтобы они что-то говорили… про вчера…
– Убью, – прохрипел Стив.
– Третий раз, – прошептала его мать.
– Что, миссис Миллес? – спросил полицейский.
– Третий раз ограбили. Уже было… два года назад.
– Вы не можете заставлять ее вот так лежать, – прорычал Стив. – Задавать все эти вопросы… Вы вызвали врача?
– Все в порядке, Стив, дорогой, – сказала соседка, подавшись вперед, словно хотела утешить его. – Я позвонила доктору Уильямсу. Он сказал, что сейчас же приедет. – Вид у нее был заботливый и обеспокоенный, но тем не менее она получала удовольствие от всего этого зрелища, и я представлял себе, как она будет рассказывать об этом всем соседям. – Я тут была раньше, помогала твоей матери, Стив, – затараторила она, – но, конечно, я ходила домой – соседняя дверь, ты же знаешь, дорогой, – чтобы приготовить чай для моей семьи, и тут я услышала крики. Мне показалось, что тут что-то не так, милый, и я побежала назад посмотреть, стала звать твою маму, чтобы спросить, все ли в порядке, и тут эти два ужасных юнца выскочили из дому, просто вылетели, и я, конечно, вошла… и тут… твоя бедная мама… потому я позвонила в полицию, и в «скорую», и доктору Уильямсу, и всем остальным. – Она выглядела так, словно ожидала, что ее, по крайней мере, по головке погладят за такое присутствие духа, но Стив сейчас не был способен на это.
Полицейский тоже не оценил ее стараний.
– Вы не помните, на какой машине они уехали? – спросил он.
– Светлая, среднего размера, – твердо ответила она.
– Это все?
– Я не особо обращаю внимание на машины.
Никто не сказал, что на эту ей следовало бы обратить внимание. Но все об этом подумали.
Я прочистил горло и несмело обратился к полицейскому:
– Я не знаю, пригодится ли это, и, конечно, вы можете и своего человека для этого позвать и все такое, но у меня тут в машине камера, если вам, конечно, нужны фотографии всего этого.
Он поднял голову и сказал «да». Потому я принес обе камеры и сделал две серии снимков – цветные и черно-белые, с крупным планом избитого лица и широкоугольные снимки комнаты. Мать Стива безропотно терпела вспышки, и съемка не заняла много времени.
– Вы профессиональный фотограф, сэр? – спросил полицейский.
Я покачал головой:
– Просто у меня большая практика.
Он сказал, куда отослать готовые фотографии. Тут приехал доктор.
– Не уходи пока, – сказал мне Стив. Я увидел в его напряженном лице отчаяние и остался с ним, пока не закончилась вся последовавшая суматоха. Я сидел на лестнице, за дверями гостиной.
– Не знаю, что делать, – сказал он, садясь рядом со мной. – Я в таком виде не могу водить машину, а мне нужно поехать и посмотреть, чтобы с ней все было в порядке. Они заберут ее в больницу на ночь. Может, я поймаю такси?…
Вообще-то, он не просил, но этот вопрос сам по себе был просьбой. Я сдержал вздох и предложил помочь. Он благодарил меня так, словно я бросил ему спасательный круг.
В конце концов я остался с ним на ночь, поскольку, когда мы вернулись из больницы, у него был такой измученный вид, что я не мог просто так уехать и бросить его одного. Я приготовил пару омлетов, потому что к тому времени – а было уже десять – мы умирали с голоду, ведь оба не ели с самого завтрака. Потом я немного прибрался.
Он сидел на краю софы, бледный, измученный, не обращая внимания на свой болезненный перелом. Возможно, он почти и не чувствовал боли, хотя его лицо было полно страдания. Говорил он только о матери.
– Я убью этих ублюдков, – сказал он.
«Смело, но глупо, – подумал я. – Как обычно. Судя по положению вещей, если Стивен со своим весом в девять стонов семь кило встретится с этими двумя ублюдками, то скорее это они его убьют».
Я начал с дальнего угла комнаты, собрал кучу журналов, газет и старых писем, а также поднял дно и крышку от коробки в десять на восемь дюймов, в которой когда-то лежала фотобумага. Старая подружка.
– Что мне со всем этим делать? – спросил я Стива.
– Да просто сложи где-нибудь, – неопределенно сказал он. – Тут кое-что полетело с полки над телевизором.
Деревянная журнальная полка валялась на боку на ковре, пустая.
– А это папина мусорная коробка, вон та, оранжевая, потрепанная. Он держал ее на полке вместе с бумагами. Никогда ничего из нее не выкидывал, просто складывал сюда неудачные снимки, год за годом. Просто смешно. – Он зевнул. – Ты не особо старайся. Мамина соседка приберется.
Я поднял кучку какого-то хлама: прозрачный кусочек пленки шириной дюйма в три и длиной около восьми, несколько лент 35-миллиметровых цветных негативов, проявленных, но пустых, и довольно хорошую фотографию миссис Миллес с пятнами реактива на волосах и шее.
– Это, наверное, было в папиной мусорной коробке, – сказал, зевая, Стив. – Можешь выбросить.
Я сложил все в мусорную корзину и добавил туда же почти черную черно-белую фотографию, разорванную пополам, и несколько цветных негативов в кляксах фиксажа.
– Он хранил их, чтобы не забывать о своих ошибках, – сказал Стив. – Просто невозможно представить, что он больше не вернется…
В бумажной папке была еще одна очень темная фотография, на которой был изображен какой-то человек за столом. Фигура была в тени.
– Тебе она нужна? – спросил я.
Он покачал головой:
– Это все папин хлам.
Я снова положил на журнальную полку женские журналы и поставил несколько деревянных безделушек, сложил письма в кучу на столе. На полу в одной куче валялись обрывки китайских орнаментов для вышивки, обломки старательно разломанной коробки с рукоделием на тонких ножках-подставках, маленькое бюро, перевернутое набок, из ящиков которого при падении водопадом хлынула писчая бумага. Казалось, что весь этот погром был учинен только для вящего шума и устрашения – как и те крики, то избиение, о котором рассказала миссис Миллес. Они устроили этот дикий погром, чтобы запугать ее, но, когда не вышло, они стали ее избивать.
Я снова поставил бюро и засунул в него большую часть бумаги, собрал в кучу разбросанные узоры для гобелена, несколько десятков мотков пряжи. Стало наконец видно ковер.
– Ублюдки, – сказал Стив. – Ненавижу. Всех убью.
– Почему они решили, что у твоей матери есть сейф?
– Кто их знает. Может, они просто грабят только что овдовевших женщин, а про сейф кричат на всякий случай? Я имею в виду, что, если бы у нее был сейф, она сказала бы им, где он, разве не так? Сначала отец погиб, потом вчера, пока мы были на похоронах, был взлом. Такое потрясение. Она сказала бы им. Я знаю, что она сказала бы.
Я кивнул.
– Больше ей не вынести, – сказал он. В голосе его слышались слезы, а глаза потемнели – он старался не заплакать. Я подумал, что скорее это он больше не выдержит. Его-то мать поддерживают сочувствие и лекарства.
– Пора спать, – резко сказал я. – Идем. Я помогу тебе раздеться. Утро вечера мудренее.
Я рано проснулся после этой беспокойной ночи и лежал, глядя на пробивающийся в окно блеклый ноябрьский рассвет. В этой жизни была куча такого, с чем мне не хотелось бы иметь дела, и потому вставать мне было неохота – ситуация, привычная для рода человеческого. «Разве не чудесно, – вяло подумал я, – быть довольным собой, смело смотреть вперед, не думать о полоумных умирающих бабках и собственной гнетущей подлости? Я, по сути, человек искренне беззаботный, принимаю все как есть и потому не люблю, когда меня загоняют в угол, из которого приходится выбираться, то есть что-то делать».
Всю мою жизнь все приходило ко мне само. Я никогда ничего не искал. Я впитывал то, что мне попадалось на пути, где бы то ни было. Как искусство фотографии, поскольку мне встретились Данкен и Чарли. И как конный спорт, поскольку мама подкинула меня хозяину той конюшни для скаковых лошадей. Если бы она оставила меня у фермера, я, вне всякого сомнения, заготавливал бы сено.
Чтобы выжить в течение стольких лет, мне приходилось принимать то, что мне давали, стараться быть полезным, тихим, покладистым, не причинять беспокойства, научиться владеть собой, и потому теперь, когда я возмужал, мне совершенно претили суматоха и борьба.
Я так долго учился не хотеть того, что мне не предлагали, что теперь вообще мало чего хотел. Я не принимал основополагающих решений. Гарольд Осборн предложил мне жилье и работу жокея на его конюшне. Я все это принял. Банк предложил ссуду. Я принял. Местный гараж предложил машину. Я купил ее.
Я понимал, почему я таков, каков есть. Я знал, почему я просто плыву по воле волн. Я сознавал, почему я пассивен, но не имел никакого желания менять жизнь, топать ногами и заявлять, что я, дескать, хозяин своей судьбы.
Я не хотел искать свою сестру и не желал терять работу у Гарольда. И все же по какой-то непонятной причине это бессознательное плавание стало казаться мне все более и более неправильным.
Я в досаде оделся и пошел вниз по лестнице, высматривая по дороге Стива. Он спал без задних ног.
После того ограбления в день похорон пол кое-как вымыли, собрав в кучу битую посуду и рассыпанные крупы. Кофе и сахар те громилы прошлым вечером вывалили на пол, зато молоко и яйца в холодильнике оставили. Я немного попил. Затем, чтобы убить время, я побродил по нижним комнатам, просто глядя по сторонам.
Комната, в которой прежде располагалась проявочная Джорджа Миллеса, наверное, была куда интереснее всех остальных, если бы тут хоть что-нибудь осталось. Но во время первого ограбления здесь тщательнее всего порылись. Бесчисленные неряшливые полосы и потеки на стенах под рядом пустых полок показывали, где стояло оборудование, а пятна на полу – где он хранил свои реактивы.
Он, насколько я знал, составил множество собственных рецептов цветных проявителей и разработал свои способы печати, чего большинство профессиональных фотографов не делают. Проявка цветных слайдов и негативов – дело трудное и требующее точности, и для получения надежного результата спокойнее отдавать их на обработку в коммерческие поточные лаборатории. Данкен и Чарли сдавали все свои пленки на проявку и делали сами только печать с негативов, поскольку это гораздо проще.
Джордж Миллес был мастером высшего разряда. Жаль, что у него характер был такой поганый.
Судя по следам, он работал с двумя увеличителями. Кроме них, наверняка имел в загашнике множество штучек для регулирования выдержки, кучу оборудования для проявки и глянцеватели. Наверное, у него имелись десятки листов фотобумаги различного типа и светонепроницаемые конверты для ее хранения. И конечно, кучи папок, в которых хранились в должном порядке его старые работы, а также красные лампы, мерные стаканы, скоросшиватели и фильтры.
Все, все до клочка исчезло.
Как и большинство серьезных фотографов, он хранил непроявленные пленки в холодильнике. Стив сказал, что они тоже исчезли, и, наверное, они как раз и были причиной погрома на кухне.
Я пошел в гостиную – просто так – и зажег свет, думая, как бы мне побыстрее и не слишком грубо растолкать Стива и сказать ему, что я уезжаю. Полуприбранная комната казалась холодной и мрачной. Жалкое же зрелище предстанет взору бедной миссис Миллес, когда она вернется домой. По привычке и от нечего делать я неторопливо начал с того, на чем кончил вчера. Собрал осколки ваз и безделушек, вымел из-под кресел катушки ниток и обрывки вышивки.
Из-под софы торчал край большого светонепроницаемого конверта – обычная вещь в доме фотографа. Я заглянул в него, но там был только кусок чистого толстого пластика в восемь квадратных дюймов, ровно обрезанный с трех сторон и волнистый с четвертой. Еще мусор. Я сунул пластик назад в конверт и бросил все в корзину.
Пустая картонная коробка лежала открытая на столе. Без особой причины и явно по присущему фотографам любопытству я взял мусорную корзину и снова вывалил ее на ковер. Затем сложил все «ошибки» Джорджа в коробку, в которой он их держал, а потом собрал осколки стекла и фарфора и опять ссыпал их в корзину.
Глядя на фотографии и обрывки пленки, я задавался вопросом: почему Джордж вообще берег их? Фотографы, как и доктора, обычно быстро хоронят свои ошибки и не хранят их тут и там на журнальных полках вечным напоминанием о неудачах. Я всегда любил загадки. Я подумал, что было бы любопытно разобраться, почему Джордж счел интересными именно эти снимки.
Стив спустился по лестнице. В своей пижаме он казался таким хрупким. Он баюкал свою поврежденную руку, вяло взирая на наступивший день.
– Господи, – сказал он, – ты же целую кучу убрал!
– Сколько смог.
– Ну спасибо. – Он увидел мусорную коробку на столе. Все содержимое снова было на месте. – Он обычно держал ее в холодильнике, – сказал он. – Мама рассказывала мне, что как-то раз была ужасная суматоха, когда холодильник сломался и все разморозилось – горох там и все такое. Папе было наплевать на то, что еда, которую она приготовила, погибла. Он только и говорил о том, что какое-то мороженое протекло прямо на его мусорку. – Стив устало улыбнулся при этом воспоминании. – Наверное, это было еще то зрелище. Ей это показалось чрезвычайно забавным, и, пока она смеялась, он становился все злее и злее… – Стив осекся, улыбка погасла. – Не могу поверить, что он не вернется.
– Твой отец часто держал свои пленки в холодильнике?
– Конечно. Естественно. Кучу пленок. Ты же знаешь, что такое фотографы. Всегда психуют, что цветные красители не вечны. Он все переживал, что его работы через двадцать лет погибнут. Говорил, единственный путь сохранить их для потомства – глубокая заморозка, да и то бабушка надвое сказала.
– Ладно… – сказал я. – А взломщики и холодильник опустошили?
– Господи! – У него был испуганный вид. – Не знаю. Я даже и не думал об этом. Но зачем им его пленки?
– Они же украли те, что были в проявочной.
– Но полицейские сказали, что это просто по злобе. На самом деле им нужно было оборудование, они же могут его продать.
– Мм, – ответил я. – Твой отец делал много таких снимков, которые не нравились людям.
– Да, но только шутки ради. – Он, как всегда, защищал Джорджа.
– Давай посмотрим в холодильнике.
– Да. Хорошо. Он там, сзади, в сарайчике.
Стив вынул ключ из кармана фартука, висевшего в кухне, и вышел через заднюю дверь в маленький крытый дворик, с мусорным контейнером и поленницей дров. В кадке на дворе росла петрушка.
– Здесь, – сказал Стив, протягивая мне ключ и кивком показывая на зеленую крашеную дверь в окружающей двор стене. Я вошел и обнаружил огромный холодильник, стоявший между бензиновой газонокосилкой и примерно шестью парами галош.
Я поднял крышку. Внутри, заполняя одну его сторону, угнездившись между бараньими ножками и коробками с булочками и рубленым бифштексом, стояли три серых металлических ящика, каждый из которых был плотно завернут в полиэтилен. На крышке каждого была приклеена скотчем короткая надпись: «НЕ ХРАНИТЬ МОРОЖЕНОГО РЯДОМ С ЭТИМИ ЯЩИКАМИ».
Я рассмеялся.
Стив посмотрел на ящики и надпись и сказал:
– Сам видишь. Мама сказала, что он просто взбеленился, когда все там потекло, но в конце концов ничего не пострадало. Еда вся пропала, но его лучшие диапозитивы уцелели. После этого он и начал хранить их в ящиках.
Я закрыл крышку, мы заперли дверь и пошли обратно в дом.
– Ты правда думаешь, – с сомнением в голосе начал Стив, – что грабители охотились за папиными фотографиями? То есть они ведь всякое украли. Мамины кольца, его запонки, ее шубу и все такое.
– Да… так.
– Ты думаешь, что мне стоит сказать полиции обо всех этих пленках в холодильнике? Я уверен, что мама просто забыла о них. Мы никогда о них и не думали.
– Можешь поговорить с ней об этом, – сказал я. – Посмотрим, что она скажет.
– Да, так будет лучше. – Он чуть повеселел. – Одно хорошо – пусть она и потеряла все номера и даты и названия мест, где эти снимки были сделаны, но у нее, по крайней мере, остались некоторые из лучших его работ. Не все пропало. Не все.
Я помог Стиву одеться и вскоре уехал, поскольку он сказал, что ему уже лучше. Да это и видно было. И я уехал с коробкой неудач Джорджа Миллеса, которую Стив велел выбросить на помойку.
– Ты не против, если я возьму ее себе? – спросил я.
– Да нет, конечно. Я знаю, что ты любишь всю эту возню с пленками, прямо как он… Он любил этот старый хлам. Не знаю почему. В любом случае возьми, если хочешь.
Он вышел на подъездную дорожку и посмотрел, как я укладываю коробку в багажник рядом с двумя моими камерами.
– Ты ведь никуда не ходишь без камеры, да? – сказал он. – Прямо как папа.
– Думаю, нет.
– Папа говорил, что без нее чувствует себя голым.
– Это становится частью тебя. – Я захлопнул багажник и по давней привычке запер его. – Это твой щит. Ты как бы на шаг отходишь от мира. Становишься наблюдателем. Это как бы дает тебе право встать над эмоциями.
Он был весьма удивлен тем, что мне такое приходит в голову, да и я сам был удивлен – не тем, что подумал об этом, а тем, что сказал об этом ему. Я улыбнулся, чтобы превратить все это в шутку. И Стив, сын фотографа, явно облегченно вздохнул.
Где-то час я добирался от Аскота до Ламборна. Было воскресное утро, и я ехал быстро. Перед своим коттеджем я обнаружил большую темную машину.
Мой коттедж был одним из семи стандартных домиков в ряду, построенных при Эдуарде[3 - Имеется в виду царствование короля Эдуарда VII (1901–1910).] для людей среднего достатка. Кроме меня, там сейчас жили школьный учитель, водитель фургона для перевозки лошадей, викарий, ассистент ветеринара, несколько вдов и детей, а также там была пара общаг, набитых конюхами. Один жил только я. В такой тесноте почти неприличным казалось занимать столько места одному.
Мой дом был в центре: два выше, два ниже по улице. Сзади к нему была пристроена современная кухня. Белый кирпичный фасад безо всяких украшений выходил прямо на дорогу, не оставляя места для сада. Новые алюминиевые оконные рамы заменили прежние деревянные, которые уже давно сгнили. Старое потрепанное здание. Не особо впечатляет, но все же дом.
Я медленно проехал мимо машины, повернул на грязную подъездную дорожку в конце квартала, объехал домики сзади и припарковался под рифленой пластиковой крышей навеса позади кухни. По дороге я заметил, как из машины торопливо вышел какой-то человек. Я понял, что он увидел меня. Со своей стороны, я подумал только о том, что в воскресенье он мог бы и оставить меня в покое.
Я прошел через дом с черного хода и открыл переднюю дверь. На пороге стоял Джереми Фолк – худой, высокий, неуклюжий, пользующийся своей неподдельной неуверенностью как рычагом – все как прежде.
– Что, адвокаты по воскресеньям не отдыхают? – спросил я.
– Ну, в общем, я прошу прощения…
– Ладно, – сказал я. – Заходите. Сколько вы тут торчите?
– Да ничего… не волнуйтесь.
Он вошел в дверь и тут же разочарованно заморгал. Я перестроил внутреннюю часть коттеджа так, что бывшая передняя теперь была разделена на прихожую и проявочную, а собственно в той части, которая осталась под прихожую, была теперь картотека да окно, выходящее на улицу. Белые стены, белый кафельный пол – все белое и безликое.
– Сюда, – внутренне забавляясь его растерянностью, сказал я и повел его мимо проявочной и того, что служило раньше кухней, а теперь было скорее ванной и отчасти продолжением прихожей. За ними была новая кухня, а слева – узкая лестница.
– Кофе или поговорим? – спросил я.
– Мм… поговорим.
– Тогда наверх.
Я пошел вверх по лестнице, он следом за мной. Одну из двух спален я использовал как гостиную, поскольку она была самой большой комнатой в доме и с лучшим видом на Даунс. В самой маленькой комнате рядом с этой я спал.
В гостиной были белые стены, белый пол, коричневый ковер, голубые шторы, опускающийся светильник, книжные полки, софа, низкий столик и напольные подушки. Мой гость оценивающе стрелял глазами, оглядывая комнату.
– Ну? – нейтрально начал я.
– Ну… в смысле… хорошая картина.
Он подошел посмотреть поближе на единственную висевшую на стене вещь – бледно-желтый солнечный свет падает на снег сквозь нагие ветви серебристых берез.
– Это… гм… картина?
– Это фотография, – сказал я.
– О! Правда? Похожа на картину. – Он отвернулся и сказал: – Где бы вы стали жить, будь у вас сто тысяч фунтов?
– Я уже сказал ей, что мне не нужны эти деньги. – Я посмотрел на него, неуклюжего, беспомощно стоявшего передо мной. На сей раз он был одет не в свой рабочий черный костюм, а в твидовый пиджак с декоративными кожаными заплатками на локтях. Но под этим тупым видом сообразительности все равно было до конца не скрыть, и я рассеянно подумал, не выбрал ли он эту маску из-за того, что собственная проницательность его смущает.
– Садитесь, – я показал на софу, и он сел, подобрав свои длинные ноги, словно я ему одолжение сделал. Я уселся на подушку, набитую маленькими мягкими шариками, и сказал: – Почему вы ничего не сказали мне о деньгах, когда встречались со мной в Сандауне?
Его чуть не скорчило.
– Я… просто… в смысле, подумал, что лучше сначала взять вас на кровные узы, знаете ли…
– А если бы не удалось, вы попробовали бы на жадность?
– Вроде того.
– И тогда вы просекли бы, с кем имеете дело?
Он заморгал.
– Понимаете ли, – вздохнул я, – я ведь все с полуслова понимаю, так, может, вам просто… бросить дурака валять?
Он расслабился и впервые стал вроде бы естественным и слегка улыбнулся мне – в основном глазами.
– Это становится привычкой, – сказал он.
– Так я и понял.
Он еще раз окинул взглядом комнату. Я сказал:
– Ладно, скажите, что вы видите.
Он так и сделал, не дергаясь и не извиняясь:
– Вы любите одиночество. Эмоционально холодны. Вам не нужна поддержка. И, хотя вы и делаете снимки, тщеславие вам чуждо.
– Принимаю.
– Ой-ой.
– Ладно, – сказал я. – Итак, зачем вы пришли?
– Ну, очевидно, чтобы заставить вас сделать то, чего вы делать не хотите.
– Найти сестру, о которой я не знал?
Он кивнул.
– Зачем?
После короткой паузы, в которую, как я мог представить, он провернул кучу «за» и «против», он сказал:
– Миссис Нор настаивает на том, чтобы ее наследство досталось тому, кого нельзя найти. Это… это желание невозможно удовлетворить.
– Почему она настаивает?
– Не знаю. Она дала такие указания моему деду. Его советов она не слушает. Она стара, надоела ему дальше некуда, моему дяде тоже, потому они спихнули все это на меня.
– Аманду не смогли отыскать три детектива.
– Они не знали, где искать.
– Я тоже, – ответил я.
Он внимательно посмотрел на меня:
– Вы должны бы знать.
– Нет.
– Вы знаете, кто ваш отец? – спросил он.
Глава 4
Я сидел, повернув голову к окну, глядя на небогатую событиями спокойную жизнь Даунса. Тяжелое молчание ушло. А Даунс будет здесь всегда.
– Я не хочу связываться с семейством, к которому не чувствую себя принадлежащим, – сказал я. – И мне не нравится, что это родство затягивает меня в свою паутину. Старуха не затащит меня назад лишь потому, что подобное ей пришло в голову, после стольких-то лет.
Джереми Фолк не дал прямого ответа. Когда он встал, в его движениях снова появилась привычная неуклюжесть. Но не в голосе.
– Я привез отчеты, которые мы получили из трех детективных бюро, – сказал он. – Я их вам оставлю.
– Бесполезно.
– Согласен, – сказал он. Снова окинул взглядом комнату. – Я ясно вижу, что вы не хотите вмешиваться в это дело. Но, боюсь, я буду отравлять вам жизнь, пока вы не согласитесь.
– Делайте ваше грязное дело.
Он улыбнулся:
– Грязное дело свершилось около тридцати лет назад, разве не так? Еще до того, как оба мы родились. А сейчас грязь просто снова всплыла.
– Наше вам спасибо.
Он вытащил длинный пухлый конверт из внутреннего кармана своего деревенского твидового пиджака и осторожно положил его на стол:
– Отчеты не особо длинные. Вы ведь можете просто прочесть их, правда?
Он и не ждал ответа. Он просто с рассеянным видом пошел к двери, показывая, что готов уйти. Я шел за ним вниз по лестнице вплоть до его машины.
– Кстати, – сказал он, неуклюже застыв на полпути к водительскому сиденью, – миссис Нор на самом деле умирает. У нее рак позвоночника. Уже с метастазами. Говорят, сделать ничего нельзя. Она проживет, может, недель шесть или чуть больше. Они не могут сказать. Потому… в смысле… времени нет, понимаете?
Я с удовольствием весь день проработал в проявочной, проявляя и печатая черно-белые снимки миссис Миллес и разгрома в ее доме. Снимки вышли четкие и резкие, так что можно было даже прочесть бумаги на полу, и я вдруг задумался: где же пролегает эта граница между явным тщеславием и просто удовольствием от хорошо сделанной работы? Возможно, тщеславием было вешать на стену серебристые березы… но если отвлечься от содержания, то печатание большого фотоснимка – техническая проблема, и все получилось как надо… да и скульптор разве прячет под мешковиной лучшие свои статуи?
Конверт, который принес Фолк, по-прежнему нераспечатанный, лежал наверху на столе, где Джереми его и оставил. Я, проголодавшись, поел немного помидоров и мюсли, убрался в проявочной, в шесть часов запер дом и пошел вверх по дороге к Гарольду Осборну.
В шесть часов по воскресеньям он ждал меня на рюмочку, и каждое воскресенье от шести до семи мы разговаривали о том, что произошло за прошлую неделю, и обсуждали планы на неделю будущую. Несмотря на свое непредсказуемое настроение, что маятником качалось от депрессии к эйфории, Гарольд был человеком методичным и терпеть не мог, когда что-нибудь мешало нашим посиделкам, которые он называл военными советами. В этот час на телефонные звонки отвечала его жена, записывая, что ему передать и кому перезвонить. Как-то раз при мне у них вышел страшный скандал, поскольку она ворвалась в комнату, чтобы сказать, что собаку сбила машина.
– Могла бы подождать двадцать минут! – взревел он. – Как я теперь могу сосредоточиться на указаниях Филипу насчет Швеппса?
– Но собака! – рыдала она.
– К черту собаку!
Он несколько минут выговаривал ей, а затем вышел на дорогу и стал рыдать над изуродованным телом своего друга. Наверное, в Гарольде было то, чего не было во мне, он был эмоционален, вспыльчив, порой его прямо-таки распирало от чувств, от гнева или любви, он был хитер и обладал утонченным вкусом. Мы были схожи лишь в одном – в нашей вере в то, что мы сможем сделать все как надо, и это молчаливое соглашение было основой мира между нами и держало нас вместе. Он мог бешено орать на меня, понимая, что я не обижусь, и поскольку я хорошо его знал, то и не обижался. Другие жокеи, тренеры и некоторые журналисты часто говорили мне с различной степенью раздражения или насмешки: «Как ты только с этим миришься?» И я всегда честно отвечал: «Легко».
В это воскресенье священный час был прерван еще до того, как успел начаться, поскольку у Гарольда был гость. Я вошел в его дом через вход в конюшни. В гостиной-офисе, полной уютного беспорядка, в одном из кресел сидел Виктор Бриггз.
– Филип! – с улыбкой приветствовал меня Гарольд. – Налей себе. Мы как раз собираемся просмотреть вчерашнюю видеозапись. Садись. Готов? Я включаю.
Виктор Бриггз кивнул мне и пожал руку. «Без перчаток», – подумал я. Холодные бледные сухие руки, в пожатии ничего агрессивного. У него были густые блестящие прямые черные волосы, слегка поднимавшиеся над бровями, образуя мысок посередине лба. Обычно их скрывала широкополая шляпа. Он был без тяжелого синего пальто, в простом темном костюме. Даже сейчас на лице его было замкнутое выражение, словно он боялся выдать свои мысли, но в целом он был явно доволен. Пусть он и не улыбался, но ощущение было такое.
Я открыл банку кока-колы и налил себе в стакан.
– Ты не будешь пить? – спросил Виктор Бриггз.
– Шампанское, – сказал Гарольд. – Он шампанское пьет, не так ли, Филип?
Гарольд был в прекрасном расположении духа. Его рыжевато-каштановые кудри беспорядочно торчали во все стороны, такие же неукротимые, как и его натура. Гарольду было пятьдесят два, а смотрелся он лет на десять моложе – дородный, крупный, живой, мускулистый, шести футов росту, лицо с сильными, но нечеткими чертами, так что оно казалось скорее круглым, чем острым.
Он включил видео и снова сел в кресло, чтобы посмотреть на неудачу Дэйлайта на сандаунских скачках. Доволен был, как будто выиграл Большой национальный приз. «Хорошо, что никто из распорядителей не присматривался, – подумал я. – Иначе вряд ли бы кто ошибся насчет того, чего это тренер радуется проигрышу своей лошади».
На пленке я на Дэйлайте спускался к старту, становился в ряд, пускался с места; комментатор говорил, что ставки на фаворита один к четырем, надо только взять все препятствия, чтобы выиграть. Чистые прыжки на первых двух препятствиях. Сильный ровный подъем мимо трибун. Дэйлайт впереди, задает скорость, но остальные пять всадников идут по пятам. Верхний поворот, прижимается к изгороди… все быстрее вниз… Приближение к третьему препятствию… все выглядит прекрасно, затем винт в воздухе и неуклюжее приземление, фигурка в красном и голубом сползает по шее лошади, затем падает ей под ноги. Стон толпы и спокойный голос комментатора: «Дэйлайт сходит на этом препятствии, теперь лидирует Мушка»…
Остальные участники скачек общей неразличимой кучей вяло дотащились до финиша. Затем еще раз прокрутили сход с дистанции Дэйлайта с замечаниями комментатора. «Вы видите, как конь пытается прибавить и сбрасывает Филипа Нора вперед через голову… голова лошади при приземлении резко опускается, не оставляя жокею шанса… Бедный Филип Нор цепляется за лошадь… безнадежно… всадник и лошадь не получили повреждений».
Гарольд встал и выключил видео.
– Артистично, – сказал он, лучезарно улыбаясь мне сверху вниз. – Я двадцать раз крутил пленку. Просто невозможно пересказать.
– Никто ничего не заподозрил, – сказал Виктор Бриггз. – Один из распорядителей сказал мне: «Как чертовски не повезло».
Где-то в груди Виктора Бриггза таился смех – не вырывающийся на поверхность, а только сотрясающий грудь. Он взял большой конверт, лежавший рядом с его стаканом джина с тоником, и протянул его мне.
– Здесь моя благодарность тебе, Филип.
– Вы очень добры, мистер Бриггз, – сухо сказал я. – Но это ничего не меняет. Я не хочу получать деньги за проигрыш… Ничего не могу с этим поделать.
Виктор Бриггз молча положил конверт. И не он тут же впал в ярость, а Гарольд.
– Филип, – прогремел он, нависая надо мной, – не будь ты таким щепетильным, черт тебя дери! В этом конверте куча денег! Виктор очень щедр. Возьми, скажи спасибо и заткнись.
– Лучше не надо.
– Да плевать мне, что тебе лучше! Когда надо было совершить преступление, ты так не манерничал! Это он от тридцати сребреников, видите ли, нос воротит! Ханжа! Меня тошнит от тебя. И ты возьмешь эти деньги, или мне придется затолкать их тебе в глотку!
– Придется.
– Что придется?
– Затолкать их мне в глотку.
Виктор Бриггз по-настоящему рассмеялся, хотя, когда я посмотрел на него, губы его были по-прежнему сжаты, как будто смех вырвался наружу без его позволения.
– И, – медленно сказал я, – я не хочу больше такого делать.
– Ты сделаешь то, что тебе скажут, – сказал Гарольд.
Виктор Бриггз решительно встал, и оба они внезапно замолкли, глядя на меня.
Мне показалось, что прошла целая вечность, затем Гарольд сказал тихим голосом, в котором было куда больше угрозы, чем в его крике:
– Ты сделаешь то, что тебе скажут, Филип.
Тут и я встал, в свою очередь. Во рту у меня пересохло, но я сумел заговорить безразлично, спокойно и без вызова, насколько это было возможно:
– Пожалуйста… не заставляйте меня повторять вчерашнее.
Глаза Виктора Бриггза сузились.
– Тебе что, лошадь чего-нибудь повредила? Судя по видео, конь по тебе прошелся.
Я покачал головой:
– Нет. Просто из-за проигрыша. Вы же знаете, мне это претит. Просто… я не хочу, чтобы вы просили меня… еще раз.
Снова молчание.
– Послушайте, – сказал я, – всему есть мера. Конечно, я придержу лошадь, если она не на сто процентов в форме и тяжелая гонка выведет ее в другой раз из строя. Конечно, я это сделаю, если в этом будет смысл. Но не так, как было вчера с Дэйлайтом. Я понимаю, что я делал такое… но вчера последний раз.
– Лучше тебе уйти прямо сейчас, Филип, – холодно сказал Гарольд. – Я поговорю с тобой утром.
Я кивнул и ушел без теплых рукопожатий, которыми приветствовали мое прибытие.
«Что они будут делать?» – думал я. Я шел по извилистой темной улочке от дома Гарольда к себе, как сотни раз по воскресеньям, и думал, не в последний ли раз. Если он захочет, он может хоть завтра посадить на своих лошадей других жокеев. Он не был обязан выпускать меня на скачки. Я считался вольнонаемным, поскольку мне платили за скачки владельцы лошадей, я не получал еженедельную плату от тренера, и такого понятия, как «незаконное увольнение», для свободных художников вроде меня не существовало.
Я подумал, что они не отпустят меня просто так. Но ведь три года они честно работали с лошадьми Бриггза, так почему бы не продолжить и в будущем? И если бы они хотели продолжать мошенничество, то почему бы им не взять для этого какого-нибудь другого бедного молодого олуха, только начинающего карьеру, и прижать его, если они хотят проигрывать скачки? Все это глупости. Я положил мою работу к их ногам, как футбольный мяч, и, возможно, сейчас они как раз выбивают его с поля.
Смешно. Я и не знал, что собираюсь сказать то, что сказал. Это просто вырвалось, как вода из новой скважины.
Все эти скачки, которые я, не желая этого, проиграл в прошлом, но ведь проиграл… Почему же сейчас я смотрю на это настолько по-другому? Почему же меня так воротит, когда я думаю о том, чтобы снова помешать Дэйлайту, даже если отказ будет означать конец жокейской карьеры?
Когда же я изменился? И как я этого не заметил? Не знаю. У меня просто было ощущение, что я уже слишком далеко зашел, чтобы поворачивать обратно. Слишком далеко зашел по той дороге, по которой не хотел идти.
Я поднялся по лестнице наверх и прочел три отчета детективов об Аманде, поскольку это в целом было куда лучше, чем думать о Бриггзе и Гарольде.
Два отчета были от весьма крупных бюро и один от детектива-одиночки, и все три проявили немало изобретательности, получив очень мало результатов. Несомненно, они честно отработали свои деньги. Они пространно объясняли, что они так долго делали и почему ничего не выяснили: все трое, что неудивительно, обнаружили примерно одно и то же.
Никто из них поначалу не мог найти никакого намека на регистрацию рождения девочки. Все они сомневались и не верили в то, что ее можно разыскать, но меня это вовсе не удивляло. Я, когда пытался получить паспорт, вдруг обнаружил, что и сам не имею свидетельства о рождении. Вся эта тягомотина заняла несколько месяцев.
Я знал, как меня зовут, знал имя своей матери, дату рождения и то, что родился в Лондоне. Однако официально меня не существовало.
– Но я же есть, – протестовал я, и мне сказали:
– Да, но ведь у вас нет бумаги с подтверждением этого, так?
И были свидетельские показания, тонны и километры бумаги, и, когда я получил разрешение поехать во Францию, я уже пропустил тамошние скачки.
Все детективы перерыли Сомерсет-хауз в поисках записей об Аманде Нор, возраст между десятью и двадцатью пятью, рожденной, вероятно, в Суссексе. Несмотря на ее необычное имя, все они потерпели неудачу.
Я цыкнул зубом, подумав, что смог бы поточнее определить ее возраст.
Она не могла родиться раньше, чем я стал жить у Данкена и Чарли, поскольку до того я довольно часто видел свою мать, раз пять-шесть в год, зачастую по неделе, и я знал бы, если бы у нее был ребенок. Люди, у которых она меня оставляла, обычно говорили о ней, когда думали, что я не слышу, и я постепенно начинал понимать то, что они говорили, хотя порой не сразу, а через несколько лет, но никто из них не упоминал о том, что она беременна.
Значит, мне было по меньшей мере двенадцать, когда родилась Аманда, и, соответственно, ей сейчас не может быть больше восемнадцати.
С другой стороны, она не могла быть младше десяти, я был уверен, что моя мать умерла где-то между Рождеством и моим восемнадцатым днем рождения. Она, видимо, была тогда в таком отчаянии, что послала своей матери письмо и фотографию. Аманде на фотографии было три… значит, если она жива, ей по меньшей мере пятнадцать.
Шестнадцать или семнадцать, скорее всего. Она родилась в те три года, когда я совсем не виделся с матерью и жил у Данкена и Чарли.
Я снова вернулся к отчетам…
Все три детектива получили последний известный адрес Каролины Нор, матери Аманды: Пайн-Вудз-Лодж, Миндл-Бридж, Суссекс. Все трое ездили туда для «наведения справок».
Пайн-Вудз-Лодж, как они довольно горестно описывали, отнюдь не был, как можно было судить по названию, маленькой частной гостиницей с регистрационными журналами, ведущимися бог знает сколько лет, с прилагаемыми адресами. Пайн-Вудз-Лодж был старым особняком в георгианском стиле[4 - Стиль архитектуры конца XVIII – начала XIX в.], пришедшим в упадок и предназначенным под снос. В бывшем танцзале росли деревья. Большая часть здания вообще не имела крыши.
Владела особняком семья, по большей части вымершая лет двадцать пять назад, оставив лишь дальних родственников, у которых не было ни желания, ни денег на поддержание дома. Поначалу они сдавали дом различным организациям (прилагается список по данным агентств по недвижимости), но в последние годы там жили самовольно поселившиеся всякие непонятные личности и бродяги. Здание настолько обветшало, что пять акров, на которых оно было построено, выставлялись на продажу в течение трех месяцев, но если кто-то и хотел бы купить эту землю, то прежде ему пришлось бы снести здание, так что больших денег за нее ожидать не приходилось.
Я просмотрел список арендаторов. Никто из них не задерживался надолго. Частный интернат для престарелых. Женская монашеская община. Некое общество художников. Сумасбродный проект создания клуба для мальчиков. Компания по производству телефильмов. Музыкальный кооператив. Братство высшего милосердия. Корпорация ордена тайной переписки.
Один из детективов, самый настырный, покопался в прошлом арендаторов, насколько мог, и приложил к списку следующие нелестные комментарии.
Дом престарелых – все умирали в результате эвтаназии. Закрыт советом.
Монашки – распущены по причине проституции.
Художники – оставили мерзкие фрески.
Мальчики – переломали все, что еще было целым.
ТВ – были нужны руины для фильма.
Музыканты – пережгли всю проводку.
Братья – религиозные психи.
Почтовики – извращенцы.
Дат по времени аренды не было, но, возможно, если в агентстве по недвижимости могли бы еще дать список, то здесь можно было бы найти еще кое-какие детали. Если я прав насчет того времени, когда мать написала свое отчаянное письмо, то я, по крайней мере, мог бы выяснить, с какой шайкой психов ей пришлось жить.
Конечно, если бы я этого хотел.
Вздохнув, я продолжил чтение.
Копии фотографии Аманды Нор широко показывали в людных местах (в окнах газетных киосков) в окрестностях городка Миндл-Бридж, но никто не вызвался опознать ни ребенка, ни конюшенный двор, ни пони.
В различных периодических и одной центральной воскресной газете (в течение шести недель) помещались объявления (счета прилагаются) насчет того, что если Аманда Нор хочет узнать кое-что о своих правах, то ей следует написать «Фолку, Лэнгли-сыну и Фолку», адвокатам, в Сент-Олбанс, Хартсфордшир.
Один из детективов, тот, который раскапывал информацию начет арендаторов, также проявил инициативу и послал запрос в Пони-клуб, но безрезультатно. Они никогда не слышали о члене клуба по имени Аманда Нор. Более того, он написал в Британскую ассоциацию скачек, но результат был тот же самый.
Широкий опрос школ вокруг Миндл-Бридж не выявил в журналах никого по имени Аманда Нор, ни в прошлом, ни сейчас.
Ее не было на попечении местного совета в Суссексе. Ее вообще ни в каких официальных списках не было. Ни единый врач или дантист не слыхал о ней. Она не проходила конфирмацию, не выходила замуж, не была похоронена или кремирована на территории графства.
Отчеты приходили к одному и тому же выводу: ее куда-то увезли (возможно, под другим именем), и больше она верховой ездой не интересуется.
Я сгреб печатные листы и сложил их в конверт. Надо признать, детективы постарались. Они также выражали свою готовность продолжать поиски в любом графстве страны, если им санкционируют значительные расходы, но успеха никоим образом не гарантировали.
Их совместный гонорар уже сам по себе наверняка был пугающе большим. Однако санкции они вроде бы не получили. Я язвительно усмехнулся, думая про себя, не решила ли старуха отправить меня на поиски Аманды из-за того, что это куда дешевле обойдется? Обещание, взятка… не будет ребенка, не будет и денег.
Я не понимал, почему вдруг ее напоследок обуял интерес к внучке, которую она раньше и знать не хотела. Ведь у нее был собственный сын, мальчик, которого моя мать называла «мой ненавистный младший брат». Ему, наверное, было около десяти, когда я родился. Сейчас, значит, ему около сорока. Возможно, он имеет собственных детей.
Дядя. Кузены и кузины. Сводная сестра. Бабка.
Мне они не были нужны. Я не хотел их знать или вмешиваться в их жизнь. И вовсе не собирался разыскивать Аманду.
Я встал и решил спуститься вниз на кухню, чтобы приготовить что-нибудь из сыра и яиц. И чтобы немного отвлечься от мыслей о Гарольде, я принес из машины мусорную коробку Джорджа Миллеса, открыл ее и выложил на кухонный стол содержимое, просматривая одну вещь задругой.
При ближайшем рассмотрении все равно не стало понятнее, зачем ему было хранить именно этот хлам. Просмотрев его, я с разочарованием решил в конце концов, что впустую потратил время, принеся это сюда.
Я взял рамку, в которой был темный снимок человека в тени за столом и рассеянно подумал, чего ради было трудиться и печатать такой передержанный кадр…
Пожав плечами, я как бы между прочим вытряхнул снимок из рамки. Он скользнул по моей руке… и я нашел одно из сокровищ Джорджа.
Глава 5
На первый взгляд ничего особенного.
К обратной стороне снимка был приклеен конверт, сделанный из специальной бессернистой бумаги, используемой осторожными профессионалами для долговременного хранения проявленных пленок. В конверте лежал негатив.
Это был негатив, с которого и была сделана фотография, но, если фотография была почти черной и местами темно-серой, сам негатив был чистым и четким, со множеством деталей и бликов.
Я положил снимок и негатив рядом.
Сердце у меня не стало биться чаще. Никаких подозрений, никаких предположений не возникло. Только любопытство. И поскольку у меня были и средства, и время, я снова пошел в проявочную и напечатал несколько фотографий размером пять на четыре дюйма, каждую при разной выдержке, от одной до восьми секунд.
Но даже при самой длительной выдержке фотография получилась не такой, как у Джорджа Миллеса, потому я снова начал с лучшей выдержки в шесть секунд и передержал фотографии в проявителе, пока четкие контуры не потемнели и по большей части не исчезли и не остался только серый человек на черном фоне, сидящий за столом. В этот момент я вынул фотографию из кюветы с проявителем и положил ее в закрепитель. Я получил фотографию, почти в точности такую же, как у Джорджа.
Слишком долгое выдерживание снимка в проявителе – самая распространенная ошибка. Если бы Джордж отвлекся и передержал фотографию в проявителе, он просто чертыхнулся бы и выбросил ее. Так почему же он хранил снимок? Да еще и в рамке держал. И приклеил четкий чистый негатив к обратной стороне?
Я так и не понял, пока не включил яркий свет и не рассмотрел как следует лучшую из четырех фотографий. Я просто оцепенел. Я стоял в проявочной, не веря глазам своим.
Наконец, присвистнув, я двинулся с места. Я выключил белый свет и, когда мои глаза снова привыкли к красному, сделал еще одну фотографию, увеличив ее в четыре раза, на более контрастной бумаге, чтобы получить как можно более четкий отпечаток.
Я держал в руках снимок – на нем было двое мужчин, давших в суде присягу, что никогда друг друга не видели.
Обознаться было невозможно. Человек в тени теперь сидел за столиком в уличном кафе где-то во Франции. Сам он был французом, с усиками – он как будто случайно зашел туда и сидел за столиком, на котором стояли стакан и тарелка. Кафе называлось «Серебряный кролик». За полузанавешенным окном виднелась реклама пива и лотереи, в дверях стоял официант в фартуке. В глубине за кассой перед зеркалом сидела женщина и смотрела на улицу. Все детали были очень четкими, с замечательной глубиной фокуса. Джордж Миллес, как всегда, был на высоте.
За столиком снаружи, за окном кафе, сидели двое мужчин. Оба смотрели в камеру, но головы были повернуты друг к другу. Ошибиться было невозможно – они разговаривали друг с другом. Перед каждым стоял бокал с вином, наполовину опустошенный, и бутылка. Также там стояли чашечки кофе и пепельница с положенной на край, наполовину выкуренной сигарой. Все признаки долгой беседы.
Оба они были замешаны в аферу, потрясшую мир скачек восемнадцать месяцев назад, как раскат грома. Слева на фотографии был Элджин Йаксли, владелец пяти дорогих стиплеров, тренировавшихся в Ламборне. В конце сезона скачек все пять были отосланы на местную ферму на несколько недель на выгул, а затем, в полях, все пять были застрелены из винтовки. А застрелил их Теренс О’Три, человек, который был на фотографии справа.
Довольно толковая работа полицейских (которым помогли два паренька, вышедшие погулять на рассвете, когда их родители считали, что они спокойно спят) позволила выследить и опознать О’Три и вызвать его в суд.
Все пять лошадей были хорошо застрахованы. Страховая компания, скрипя зубами и не веря, сделала все, что могла, доказывая, будто бы Йаксли сам нанял О’Три для убийства, но оба упорно это отрицали, и между ними не смогли найти никакой связи.
О’Три сказал, что застрелил лошадей только потому, что, мол… «хотел малость попрактиковаться в стрельбе по цели, откуда мне было знать, ваша честь, что это ценные скаковые лошади». Его отправили с тюрьму на девять месяцев с рекомендацией поставить на учет у психиатра.
Элджин Йаксли с негодованием заявлял о том, что он человек порядочный, и угрожал подать в суд на страховую компанию за клевету, если она сейчас же не заплатит. Он выцарапал у нее всю страховую сумму и затем сошел со скаковой сцены.
«Страховая компания, – думал я, – заплатила бы Джорджу Миллесу хорошие деньги за эту фотографию, если бы знала о ее существовании. Возможно, десять процентов от того, что им не пришлось бы платить Элджину Йаксли». Точной суммы я припомнить не мог, но знал, что вся страховка за пять лошадей достигала ста пятидесяти тысяч фунтов. На самом деле именно размер выплаты так взбеленил страховщиков и заставил их заподозрить мошенничество.
Так почему же Джордж не стал просить вознаграждения? И почему он так тщательно прятал негатив? И почему его дом трижды грабили? Хотя я и так никогда не любил Джорджа Миллеса, возможный ответ на эти вопросы мне не нравился еще больше.
Утром я отправился на конюшню. Гарольд вел себя, как обычно, бурно. Перекрывая резкий свист ноябрьского ветра, бич его голоса хлестал конюхов, и, как я понял, один-другой в конце недели уволятся. Сегодня, если конюх уходит из конюшни, он обычно просто не возвращается ни на следующее утро, никогда вообще. Они втихаря уходят на какую-нибудь другую конюшню, и первые известия, которые получает о них старый хозяин, – это запрос о рекомендации от нового. Заметьте, что для большей части нынешнего поколения конюхов рекомендации – вещь, которую им никогда не дают. Это ведет к спорам и дракам, а кому охота получать в морду, когда гораздо проще увернуться? Конюхи болтаются туда-сюда по британским конюшням, это как бесконечная река, полная водоворотов. И долгая работа на одном и том же месте скорее исключение, чем правило.
– Завтракать, – с ходу прорычал мне Гарольд. – Будь там.
Я кивнул. Обычно я возвращался на завтрак домой, даже если занимался проездкой во вторую смену, что я делал только в те дни, когда не было скачек, да и то не всегда. Завтрак, по мнению жены Гарольда, состоял из огромной яичницы и горы тостов, которые выставлялись на длинный кухонный стол щедро и радушно. Все это пахло и выглядело очень вкусно, и я всегда поддавался соблазну.
– Еще колбаски, Филип? – сказала жена Гарольда, щедро нагребая прямо со сковородки. – А горячей жареной картошечки?
– Женщина, ты убьешь его, – сказал Гарольд, потянувшись за маслом.
Жена Гарольда улыбнулась мне, как умела улыбаться только она. Она думала, что я чересчур худ, и считала, что мне нужна жена. Она часто говорила мне об этом. Я не соглашался с ней и в том и в другом, но, честно говоря, она была права.
– Прошлым вечером, – сказал Гарольд, – мы не говорили о наших планах на будущую неделю.
– Нет.
– В Кемптоне в среду скачет Памфлет, – сказал он. – В двухмильных скачках с препятствиями. Тишу и Шарпенер в четверг…
Некоторое время он говорил о скачках, все время энергично жуя, так что инструкции по поводу скачек он выдавал мне краем рта вперемешку с крошками.
– Понял? – сказал он наконец.
– Да.
Похоже, с работы меня, в конце концов, прямо сейчас вышибать не собирались, и я с благодарностью облегченно вздохнул.
Гарольд глянул в большую кухню, где его жена складывала посуду в посудомоечный агрегат, и сказал:
– Виктору не понравилось твое поведение.
Я не ответил.
– От жокея в первую очередь требуют верности, – сказал Гарольд.
Это была чушь. От жокея в первую очередь требуется, чтобы он отрабатывал свои деньги.
– Как скажете, мой фюрер, – промямлил я.
– Владельцы не станут держать жокеев, которые высказываются по поводу их моральных устоев.
– Тогда владельцам не надо дурить публику.
– Ты кончил есть? – резко спросил он.
– Да, – с сожалением вздохнул я.
– Тогда пошли в офис.
Он пошел впереди меня в красновато-коричневую комнату, полную холодного голубоватого утреннего света. Камин еще не топили.
– Закрой дверь, – сказал он.
Я закрыл.
– Ты должен выбрать, Филип, – сказал он. Он стоял у камина, поставив ногу на кирпич у очага. Большой мужчина в костюме для верховой езды, пахнущий лошадьми, свежим воздухом и яичницей.
Я неопределенно помалкивал.
– Виктору время от времени будет нужно проиграть скачку. И не раз, признаюсь, поскольку это и так очевидно. Но, в конце концов, придется. Он говорит, если ты действительно не хочешь этого делать, то нам придется взять кого-нибудь другого.
– Только для этих скачек?
– Не пори чуши. Ты же не дурак. Ты даже слишком умен, а это небезопасно.
Я покачал головой:
– Почему он снова хочет заняться этой дурью? Он ведь и так за последние три года много выиграл призовых денег, причем честно.
Гарольд пожал плечами:
– Не знаю. Какое это имеет значение? В субботу, когда мы ехали в Сандаун, он сказал мне, что поставил на свою лошадь и что я получу большую долю от выигрыша. Мы делали это и прежде, почему бы не сделать и снова? Все дело упирается в тебя, Филип, а ты из-за маленького мошенничества валишься в обморок, как девица.
Я не знал, что и сказать. Он заговорил прежде, чем я придумал, что ответить.
– Ладно, ты просто подумай, парень, У кого лучшие на этой конюшне лошади? У Виктора. Кто покупает хороших лошадей для того, чтобы заменить старых? Виктор. Кто вовремя оплачивает счета за тренировки? Виктор. У кого в этой конюшне больше лошадей, чему у кого-либо другого? У Виктора. И этого владельца лошадей я меньше всего хочу потерять, особенно потому, что мы были вместе более десяти лет, и потому, что он дал мне большее число победителей, чем я вышколил за последнее время, и, похоже, даст большинство из тех, которых я вышколю в будущем. И от кого, как ты думаешь, прежде всего зависит мой бизнес?
Я уставился на него. Я подумал, что до сих пор не понимал, что он, возможно, в таком же положении, что и я. Делай то, что хочет Виктор, и все.
– Я не хочу терять тебя, Филип, – сказал он. – Ты обидчивый ублюдок, но мы же ладили все эти годы. Однако успех не будет с тобой всю жизнь. Сколько ты занимаешься скачками… десять лет?
Я кивнул.
– Тогда тебе осталось три-четыре года. В лучшем случае пять. Вскоре ты не сможешь так легко отделываться от последствий падений, как сейчас. И в любое время неудачное падение может выбить тебя из колеи надолго. Потому посмотри на дело трезво, Филип. Кто мне нужен больше, ты или Виктор?
В какой-то меланхолии мы вышли во двор, где Гарольд наорал, хотя и довольно вяло, на пару бездельничавших конюхов.
– Дай мне знать, – сказал он, обернувшись ко мне.
– Ладно.
– Я хочу, чтобы ты остался.
Я был приятно удивлен.
– Спасибо, – сказал я.
Он грубовато похлопал меня по плечу – никогда он еще так откровенно не проявлял свою приязнь. И это больше, чем все крики и угрозы, заставило меня захотеть согласиться. Реакция, промелькнуло в голове у меня, старая, как мир. Чаще волю узника ломала доброта, а не пытка. Человек всегда ощетинивается против давления, но доброта подкрадывается сзади и бьет в спину, и воля твоя растворяется в слезах и благодарности. Куда труднее поставить стену против доброты. А я всегда думал, что против Гарольда мне не понадобится отгораживаться…
Инстинктивно я захотел сменить тему разговора и ухватился за ближайшую мысль – о Джордже Миллесе и его фотографиях.
– Мм, – сказал я, когда мы так вот стояли, чувствуя себя слегка неуютно. – Помнишь те пять лошадей Элджина Йаксли, которых застрелили?
– Что? – озадаченно спросил он. – А при чем тут Виктор?
– Ни при чем, – сказал я. – Я просто вчера думал об этом.
Раздражение тотчас же вытеснило мимолетные чувства, что было облегчением для нас обоих.
– Ради бога, – резко сказал он. – Я серьезно. Твоя карьера под угрозой. Можешь делать что хочешь. Можешь идти к черту. Дело твое.
Я кивнул.
Он резко повернулся и сделал два решительных шага. Затем он остановился, обернулся и сказал:
– Если тебя уж так интересуют лошади Элджина Йаксли, то почему бы тебе не спросить Кенни? – Он показал на одного из конюхов, который наливал из крана воду в два ведра. – Он ухаживал за ними.
Гарольд снова отвернулся и твердыми шагами пошел прочь, выражая каждым своим движением гнев и злость.
Я нерешительно побрел к Кенни, не зная толком, о чем его спрашивать, да и вообще не понимая, хочу ли я его расспрашивать.
Кенни был одним из тех людей, чья защита от мира была совсем другой – он был глух к добру и открыт страху. Кенни был прирожденным почти правонарушителем, с которым представители социальных служб обходились с таким, с позволения сказать, пониманием, что он спокойно мог презрительно чихать на все попытки подойти к нему по-доброму.
Он смотрел на меня с нарочито безразличным, почти наглым видом. Это был обычный его вид. Красноватая обветренная кожа, слегка слезящиеся глаза, веснушки.
– Мистер Осборн говорит, что ты работал у Барта Андерфилда, – сказал я.
– И что?
Вода перелилась через край первого ведра. Он наклонился, отодвинул его в сторону и пододвинул ногой под струю второе.
– И ты ухаживал за лошадьми Элджина Йаксли?
– Ну?
– Тебе было жаль, когда их застрелили?
Он пожал плечами:
– Допустим.
– Что сказал насчет этого мистер Андерфилд?
– Чего? – Он уставился прямо мне в лицо. – Да ничего не сказал.
– Он не сердился?
– Насколько я заметил, нет.
– А должен бы, – сказал я.
Кенни снова пожал плечами.
– Да уж по меньшей мере, – сказал я. – У него пристрелили пять лошадей, а такого ни один тренер с такой конюшней, как у него, не может себе позволить.
– Он ничего не сказал. – Второе ведро было почти полно, и Кенни завернул кран. – Похоже было, что эта потеря его не особо заботит. Хотя немного позже кое-что его вывело из себя!
– А что?
Кенни с безразличным видом взял ведра:
– Не знаю. Просто он стал прямо-таки сварливым. Некоторым владельцам лошадей это надоело, и они ушли от него.
– Ты тоже, – сказал я.
– Ага. – Он направился через двор. Вода мягко плескалась при каждом его шаге. Я пошел за ним, предусмотрительно держась на расстоянии, чтобы вода не попала на меня. – Чего же оставаться, если все идет коту под хвост?
– А лошади Йаксли были в хорошей форме, когда их отправили на ферму? – спросил я.
– Конечно. – Вид у него был слегка озадаченный. – А почему ты спрашиваешь?
– Да просто так. Тут кто-то вспомнил про этих лошадей… и мистер Осборн сказал, что ты ухаживал за ними. Мне стало интересно.
– А, – он кивнул. – В суде же был ветеринар, сам знаешь, который сказал, что лошади были в прекрасном состоянии за день до того, как их перестреляли. Он приезжал на ферму, чтобы сделать им какие-то противостолбнячные прививки, и сказал, что осмотрел их и что они были в порядке.
– А ты был на суде?
– Нет. Читал в «Спортинг лайф». – Он подошел к стойлам и поставил ведра перед одной из дверей. – Ну, все?
– Да. Спасибо, Кении.
– Знаешь, я кое-что скажу тебе… – У него был такой вид, словно он сам удивился собственной услужливости.
– Что?
– Насчет мистера Йаксли, – сказал он. – Ты можешь подумать, что он должен бы быть доволен, получив такие деньги, даже пусть и потеряв своих лошадей, но однажды он пришел на конюшню Андерфилда прямо-таки в бешенстве. Прикинь – у Андерфилда испортился характер как раз после этого. И конечно, Йаксли ушел из скачек, и мы больше его никогда не видели. По крайней мере, пока я там служил.
Я в задумчивости пошел домой. Когда я туда добрался, зазвонил телефон.
– Это Джереми Фолк, – сказал знакомый голос.
– Ой, только не снова, – запротестовал я.
– Вы прочли отчеты?
– Да. И искать ее я не собираюсь.
– Да помилосердствуйте, – сказал он.
– Нет. – Я помолчал. – Чтобы отделаться от вас, я немного вам помогу. Но искать будете вы.
– Ладно, – он вздохнул. – В чем вы мне поможете?
Я рассказал ему насчет моих выкладок по поводу возраста Аманды и также предложил ему поискать в агентствах по недвижимости данные по поводу арендаторов Пайн-Вудз-Лодж.
– Моя мать жила там предположительно тринадцать лет назад, – сказал я. – А теперь все это ваше.
– Но я же говорю вам, – он чуть не рыдал, – вы просто не можете на этом остановиться!
– Очень даже могу.
– Я приеду к вам.
– Оставьте меня в покое, – ответил я.
Я поехал в Суиндон, чтобы отдать в проявку цветные пленки, и по пути думал о Барте Андерфилде.
Я знал его, как все знают друг друга, достаточно долго пробыв в мире скачек. Мы иногда сталкивались в деревенских магазинчиках и в домах других людей, а также на ипподромах. Обменивались приветствиями и различными неопределенными замечаниями. Я никогда не выступал на его лошадях, потому что он никогда меня не просил. И думаю, не просил он потому, что недолюбливал меня.
Это был невысокий суетливый человечек, надутый от важности. Он очень любил доверительно сообщать о том, что другие, более удачливые тренеры сделали не так. «Конечно же, Уолвин не должен был скакать в Аскоте так-то и так-то, – говорил он. – На всей дистанции все было не так, это же за милю было видно». Чужаки считали его очень осведомленным человеком.
А в Ламборне его считали дураком. Однако – не настолько, чтобы отдать пять своих лучших лошадей на заклание. Все, несомненно, сочувствовали ему, особенно когда Элджин Йаксли не стал тратить свои страховые деньги на покупку новых равноценных животных, а просто уехал, оставив Барта в дерьме.
Насколько я помнил, эти лошади были, несомненно, хорошими и всегда заслуживали лучшего содержания. Их можно было продать за хорошие деньги. Они были застрахованы, конечно, выше их рыночной цены, но не слишком, если принять во внимание призы, которые они выиграли бы, останься в живых. Совершенно ясно, что убивать их было невыгодно, что в конце концов и принудило страховщиков заплатить.
И никакой связи между Йаксли и Теренсом О’Три.
В Суиндоне мои знакомые из фотолаборатории сказали, что мне повезло, потому что они как раз собирались обработать пачку пленок, и если я немного подожду, то через пару часов получу свои негативы. Я кое-что купил, в назначенное время забрал проявленные пленки и пошел домой.
В полдень я распечатал цветные версии снимков миссис Миллес и отослал их вместе с черно-белыми в полицию. Вечером я все старался – и неудачно – не думать об Аманде, Викторе Бриггзе и Джордже Миллесе, но мои мысли, как ни неприятно, все время кружили вокруг них.
Хуже всего был ультиматум Виктора Бриггза и Гарольда. Жизнь жокея во всех отношениях удовлетворяла меня – физически, духовно и финансово. Я годами гнал мысль о том, что однажды мне придется делать что-нибудь другое: это «однажды» всегда было где-то в туманном будущем и не стояло прямо передо мной.
Единственное, что я знал, кроме лошадей, была фотография, но ведь фотографов везде полным-полно… все снимают, в каждой семье есть фотоаппарат, весь западный мир прямо-таки заполонили фотографы… и, чтобы зарабатывать себе этим на жизнь, надо быть исключительно хорошим фотографом.
Да и вкалывать надо дай боже. Фотографы, с которыми я познакомился на скачках, всегда бегали туда-сюда: то неслись от старта к последнему препятствию, а оттуда к паддоку, прежде чем туда доберется победитель, и затем снова тем же курсом уже на следующий заезд, и так по меньшей мере шесть раз на дню пять-шесть раз в неделю. Некоторые из своих снимков они отправляли в агентства новостей, которые могли предложить их газетам, другие отсылали в журналы, а некоторые подсовывали владельцам лошадей или спонсорам скачек.
Если ты фотограф на скачках, то снимки к тебе сами в руки не придут, ты за ними побегаешь. И когда ты их добудешь, то покупатели не будут толпиться у твоих дверей, тебе еще придется их продавать. Это очень отличалось от жизни Данкена и Чарли, которые в основном снимали натюрморты, всякие кастрюли и сковородки, часы и садовую мебель для рекламы.
На скачках было очень мало фотографов, имеющих постоянную работу. Наверное, меньше десятка. Из них незаурядных человека четыре, и одним из этих четырех был Джордж Миллес.
Если бы я попытался присоединиться к ним, никто не стал бы мне мешать, но и помогать тоже. Я был бы предоставлен сам себе и либо выстоял бы, либо проиграл.
Я подумал, что беготня за кадрами меня не беспокоит, а вот продать… это пугало. Даже если я и считал свои снимки хорошими, протолкнуть их я бы не смог.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/dik-frensis/refleks-zmei-67780247/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Плотная хлопчатобумажная декоративная ткань.
2
Стон – старинная английская мера, равная 6,4 кг.
3
Имеется в виду царствование короля Эдуарда VII (1901–1910).
4
Стиль архитектуры конца XVIII – начала XIX в.
Дик Фрэнсис
Дик Фрэнсис (1920–2010) – один из самых именитых английских авторов, писавших в жанре детектива. За свою жизнь он создал более 30 бестселлеров, получивших международное признание. Его романы посвящены преимущественно миру скачек – Фрэнсис знал его не понаслышке, ведь он родился в семье жокея и сам был знаменитым жокеем. Этот мир полон азарта, здесь кипят нешуточные страсти вокруг великолепных лошадей и крупных ставок в тотализаторах, здесь есть чем поживиться мошенникам. Все это и послужило материалом для увлекательных романов, ставших бестселлерами во многих странах мира.
Переиздание романа опубликовано в сборнике Дика Фрэнсиса в 2022 г.
Рефлекс змеи
© Н. В. Некрасова, перевод, 1999
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022 Издательство Иностранка®
Reflex / Copyright © 1980 by Dick Francis
Глава 1
Задыхаясь и кашляя, я лежал, опираясь на локоть, и отплевывался от забившей рот травы и земли. Придавившая мне ногу лошадь кое-как поднялась и унеслась прочь бешеным галопом. Я подождал, пока внутри все успокоится, – я кувыркнулся с лошади, несущейся со скоростью тридцать миль в час, да еще несколько раз перевернулся в воздухе. Ничего, жив. Кости целы. Просто очередной раз полетел.
Время и место действия: шестнадцатое препятствие, трехмильный стипль-чез, ипподром в Сандауне. Пятница, ноябрь, мелкий, холодный, нудный дождь. Отдышавшись и собравшись с силами, я кое-как встал на ноги. В голове неотвязно крутилась мысль, что взрослому мужчине так жить нельзя.
Эта мысль меня ошарашила. Раньше мне в голову ничего подобного не приходило. Я не знал другого способа зарабатывать себе на хлеб, кроме как скакать на лошади и брать препятствия, а это такая работа, которой нужно отдавать всю душу. Холодное разочарование отозвалось дергающим приступом зубной боли, нежданной и нежеланной, предвещая беспокойство и неприятности.
Я без особых волнений подавил это чувство. Уверил себя в том, что люблю и всегда любил такую жизнь – а как же иначе. Что все путем – за исключением этой погоды, этого падения, этих проигранных скачек… Мелочи жизни, каждодневная рутина, обычное дело.
Я пошлепал по грязи вверх по холму к трибунам в тонких, как бумага, скаковых сапогах, совершенно не годных для ходьбы. Все мои мысли неотвязно крутились вокруг лошади, на которой я стартовал. Я все думал, что мне сказать и чего не надо говорить ее тренеру. Отказался от: «Какого черта вы ожидали, что жеребец прыгнет, если как следует его не натаскали?» – ради: «Ему бы побольше опыта». Думал было высказаться насчет этой «никчемной, трусливой, тупой, недокормленной скотины», но передумал и решил сказать, что надо будет попробовать его в шорах. Тренер все равно устроит мне разнос за падение и скажет хозяину, что я не так повел лошадь к препятствию. Он был как раз из того типа людей, для которых жокей всегда виноват.
Я смиренно возблагодарил небеса за то, что нечасто езжу на лошадях из этой конюшни и сегодня меня взяли только потому, что Стив Миллес, их жокей, был на похоронах – у него умер отец. Если нужны деньги, от скачек просто так не отказываются. Или если тебе нужно имя, чтобы все знали, какой ты полезный и необходимый и что ты вообще есть на свете.
Единственной приятной вещью во время моего падения у препятствия было то, что папаши Стива Миллеса тут не было и он этого не заснял. Он был безжалостным фотографом и фиксировал как раз те моменты, которые жокеи предпочли бы забыть. Все это хранилось у него в коробочке и, вероятно, в настоящий момент укладывалось на вечный покой вместе с ним. «Туда им и дорога», – неласково подумал я. Конец гаденьким довольным смешкам, с которыми Джордж показывал хозяевам лошадей неопровержимые доказательства неудач их жокеев. Конец и автоматической камере, что со скоростью три с половиной кадра в секунду подлавливает где ни попадя, как кто-то теряет равновесие, машет руками, летя в воздухе, и падает носом в грязь.
В то время как прочие спортивные фотографы играют честно и время от времени снимают твои победы, Джордж снимал исключительно позорные и унизительные моменты. Джордж был прирожденным губителем чужих карьер. Может, газеты и станут горевать о том, что больше не видать им его развеселеньких фоток, но, когда Стив сказал в тот день в раздевалке, что его папаша врезался в дерево, мало кто огорчился.
Но, поскольку самого Стива любили, никто особо не высказывался. Стив, однако, услышал молчание и понял, что за этим молчанием стоит. Он годами отчаянно защищал своего отца и потому все понимал.
Я шел под дождем, волоча ноги, и думал – странно, что мы действительно больше не увидим Джорджа Миллеса. Его слишком давно знакомая и слишком привычная физиономия четко возникла у меня в памяти – яркие умные глаза, длинный нос, висячие усы, рот кривится в язвительной усмешечке. Следует признать, что это был потрясающий фотограф, с исключительным чутьем и умением подловить момент. Его объектив всегда был направлен в нужное мгновение в нужную сторону. Юморок у него был своеобразный – недели не прошло еще, как он показывал мне черно-белую глянцевую фотку, когда я спикировал с лошади – носом в грязь, задница кверху, а на обороте надпись: «Филип Нор, коленками назад». Может, кому и было бы смешно – да уж больно злобным был юмор. Может, кто и потерпел бы такое унижение, но злоба прямо-таки перла из его взгляда. В душе он был гадом, затаившимся, выжидавшим, как бы с глумливым хихиканьем ударить побольнее. Слава богу, что он помер.
Когда я наконец-то дошел до весовой и спрятался от дождя, тренер и хозяин лошади уже ждали меня. На их физиономиях была написана готовность порвать меня в клочья. Чего и следовало ожидать.
– Ну, напортачил? – злобно сказал тренер.
– Он слишком рано пошел на препятствие.
– Это твоя работа вести его.
Что толку говорить, что ни один жокей на свете никогда не сможет заставить ни одну лошадь все время прыгать без ошибки, и, уж конечно, не плохо выезженную трусливую скотину. Я просто кивнул и с легким сожалением усмехнулся хозяину.
– Попробуйте его в шорах, – сказал я.
– Это мне решать, – отрезал тренер.
– Цел? – сочувственно спросил хозяин.
Я кивнул. Тренер тут же бесцеремонно придушил этот гуманный порыв сочувствия к жокею и повел свою дойную коровку в сторону – не дай бог, я проговорюсь и скажу правду насчет того, почему лошадь не прыгнула, когда ее заставляли. Я без всякой злобы посмотрел им вслед и пошел к двери весовой.
– Эй, – какой-то молодой человек шагнул мне навстречу, – это вы Филип Нор?
– Верно.
– Мм… могу я переговорить с вами?
Ему было лет двадцать пять. Долговязый, словно аист, серьезный, бледнокожий, как конторский служащий. Черный фланелевый костюм, полосатый галстук. При нем не было бинокля, и вообще похоже было, что он не имеет никакого отношения к скачкам.
– Можете, – ответил я. – Если подождете, пока я схожу к доктору и переоденусь в сухое.
– Доктору? – спросил он с встревоженным видом.
– А, обычная проверка. После падения. Это недолго.
Когда я снова вышел, согревшийся и в уличной одежде, он все еще ждал меня. Он был у паддока почти один – все пошли смотреть последний заезд.
– Я… ну… меня зовут Джереми Фолк. – Он извлек откуда-то из черного пиджака карточку и протянул ее мне. Я взял ее и прочел: «Фолк, Лэнгли-сын и Фолк».
Адвокаты. Адрес в Сент-Олбансе, Хартфордшир.
– В смысле, последний Фолк, – застенчиво указал Джереми, – это я и есть.
– Поздравляю, – ответил я.
Он одарил меня нервной полуулыбкой и прокашлялся.
– Меня послали… ну… я пришел попросить вас… ну… – Он беспомощно замолк. Вид у него был совсем не адвокатский.
– Ну, заканчивайте, – сказал я.
– Попросить вас прийти к вашей бабушке, – нервно выпалил он. Казалось, у него груз спал с плеч.
– Нет, – ответил я.
Он изучающе посмотрел мне в лицо и, казалось, приободрился от моего спокойного вида.
– Она умирает, – сказал он. – И хочет вас видеть.
«Всюду смерть, – подумал я. – Джордж Миллес и мать моей матери. И в обоих случаях ничуточки не жалко».
– Вы поняли? – спросил он.
– Понял.
– И как? В смысле, сегодня?
– Нет, – сказал я. – Не пойду.
– Но вы должны! – Вид у него был обеспокоенный. – В смысле… она старая… умирает… она хочет видеть вас…
– Беда какая.
– И если я не смогу убедить вас, мой дядя… в смысле, «сын»… – Он снова показал карточку, все сильнее волнуясь. – Ну… Фолк – это мой дедушка, а Лэнгли – двоюродный дедушка, и… ну… они послали меня… – Он сглотнул. – Честно говоря, они думают, что я совершенно бесполезен.
– Это уже шантаж, – сказал я.
Легкий блеск в его глазах сказал мне, что он на самом деле не так глуп, как изображал.
– Не хочу я ее видеть, – сказал я.
– Но она же умирает.
– А вы сами видели, что она умирает?
– Ну… нет…
– Готов поспорить, что она вовсе не умирает. Если ей хочется меня увидеть, то она точно заявит, что умирает, поскольку знает, что иначе я к ней не приду.
Вид у него был ошарашенный.
– Но ей же, в конце концов, семьдесят восемь.
Я мрачно глянул на непрекращающийся дождь. Я никогда не навещал свою бабку и не желал ее видеть, умирала она там или нет. Знаю я эти предсмертные раскаяния, эти попытки застраховаться в последнюю минуту на пороге адских врат. Слишком поздно.
– Ответ прежний, – ответил я. – Нет.
Он удрученно пожал плечами и уже готов был сдаться. Вышел на дождь – с непокрытой головой, беззащитный, без зонтика. Через десять шагов обернулся и снова осторожно подошел ко мне:
– Послушайте… вы на самом деле ей нужны, так говорит мой дядя. – Он был так искренен, так настойчив, прямо-таки миссионер. – Вы же не можете вот так просто дать ей умереть.
– Где она? – спросил я.
Он просиял:
– В частной лечебнице. – Он порылся в другом кармане. – Тут у меня адрес. Но, если вы идете, я провожу вас прямо туда. Это в Сент-Олбансе. Вы живете в Ламборне, так? Значит, это не так уж и далеко от вас, правда? В смысле, не за сотни миль или что-нибудь в таком роде.
– Добрых полсотни, думаю.
– Ну… в смысле… вам же всегда приходится ездить жутко много.
Я вздохнул. Хрен редьки не слаще. Либо покорно сдаться, либо быть твердым как скала. И то и другое дрянь. Бабка выбивала из меня упрямство с самого рождения, но это, по-моему, не извиняло меня сейчас, когда она умирает. Да и как я могу презирать ее, как делал в течение долгих лет, если поведу себя как она. Неприятно.
Зимний день уже угасал, электрические фонари разгорались с каждой минутой все ярче, расплывчато просвечивая сквозь дождь. Я подумал о своем пустом доме, о том, что вечер будет заполнить нечем, о двух яйцах, ломте сыра и черном кофе на ужин, о том, что захочу съесть еще что-нибудь и не съем. «Если я пойду, – подумал я, – то, по крайней мере, не буду думать о еде, и это поможет мне в моей постоянной борьбе с весом, а значит, будет не так уж и плохо. Даже если и придется встретиться с бабкой».
– Ладно, – покорно сказал я, – ведите.
Старуха сидела в кровати, выпрямив спину, и жестко смотрела на меня. Если она и собиралась умереть, то уж точно не сегодня вечером. Темные глаза были полны жизни, и в голосе не слышалось смертной слабости.
– Филип, – жестко сказала она и оглядела меня с головы до ног.
– Я.
– Ха.
Она прямо-таки выплюнула это «ха», одновременно торжествующе и презрительно – этого я и ожидал. Ее крутой нрав лишил меня детства и причинил еще большее зло ее собственной дочери. Я с облегчением увидел, что тут не придется выслушивать плаксивых просьб о прощении. Мы по-прежнему, пусть и не так ярко выражено, терпеть не могли друг друга.
– Я знала, что ты прибежишь, – сказала она с неистребимой холодной глумливостью, – когда услышишь о деньгах.
– Какие еще деньги?
– Сто тысяч фунтов, естественно.
– Никто, – сказал я, – не говорил мне ни о каких деньгах.
– Не ври! С чего же еще тебе приходить?
– Мне сказали, что вы умираете.
Она удивленно и злобно зыркнула на меня и осклабилась. Видимо, это должно было изображать улыбку.
– Да. Как и все мы.
– Да, – сказал я, – и с одной и той же скоростью. День за днем.
Она вовсе не походила на розовощекую милую бабушку. Сильное упрямое лицо с глубокими резкими брезгливыми складками у рта. Серо-стальные, до сих пор густые чистые волосы были аккуратно уложены. Бледная кожа усыпана старческими веснушками, темные вены выступали на внутренней стороне рук. Худая, почти тощая женщина. И высокая, насколько я мог судить.
Большая комната, где она лежала, походила скорее на гостиную, в которой поставили кровать, а не на больничную палату. Это очень даже вязалось с тем, что я видел здесь по пути. Сельский дом, приспособленный для новых целей, – отель с сиделками. Всюду ковры, длинные шторы из чинтца[1 - Плотная хлопчатобумажная декоративная ткань.],кресла для посетителей, вазы с цветами. «Хорошо так умирать», – подумал я.
– Я проинструктировала мистера Фолка, – сказала она, – чтобы он сделал тебе предложение.
Я задумался:
– Молодой мистер Фолк? Лет двадцати пяти? Джереми?
– Конечно нет, – нетерпеливо сказала она. – Мистер Фолк, мой адвокат. Я сказала ему, чтобы он доставил тебя сюда. Что он и сделал. Ты здесь.
Я отвернулся от нее и без приглашения сел в кресло. «Почему Джереми не упомянул о ста тысячах фунтов? – подумал я. – Если это, в конце концов, какой-то подвох, то такое легко не забывают».
Моя бабка злобно уставилась на меня, и я ответил ей таким же взглядом. Мне не понравилась ее уверенность в том, что она может меня купить. Меня отталкивало ее презрение, и я не верил ее намерениям.
– Я завещаю тебе сто тысяч фунтов, но на определенных условиях, – сказала она.
– Нет, – ответил я.
– Извиняюсь, что? – Ледяной голос, каменное лицо.
– Я сказал, нет. Никаких денег. Никаких условий.
– Ты не слышал моего предложения.
Я ничего не сказал. На самом-то деле меня начало разбирать любопытство, но я совершенно не собирался ей этого показывать. Поскольку она явно не торопилась, молчание затянулось. Похоже, прокручивала в голове возможные варианты. Я же просто ждал. Я мог делать это бесконечно долго. Мое бессистемное воспитание привило мне эту способность: ждать людей, которые не приходили, обещаний, которые не выполнялись.
Наконец она сказала:
– Ты выше, чем я думала. И упрямее.
Я еще помолчал.
– Где твоя мать? – спросила она.
Моя мать, ее дочь.
– Ветром развеяло, – ответил я.
– Что ты имеешь в виду?
– Думаю, она умерла.
– «Думаю»! – скорее раздраженно, чем обеспокоенно сказала она. – Ты что, не знаешь?
– Она не писала мне, что умерла, потому и не знаю.
– Твоя дерзость просто непристойна!
– Ваше поведение еще до моего рождения, – сказал я, – не дает вам права так говорить.
Она заморгала. Раскрыла рот да так и сидела несколько секунд. Затем плотно закрыла его. На челюстях вздулись желваки, и она мрачно уставилась на меня с устрашающей смесью ярости и злобы. И по этому выражению я понял, что пришлось вытерпеть моей бедной юной матери, и ощутил прилив огромного сочувствия к той беспечной бабочке, что родила меня.
Как-то раз, когда я был еще совсем маленьким, меня одели в новый костюмчик и велели вести себя очень хорошо, поскольку мы с мамой идем к бабушке. Моя мать забрала меня оттуда, где я жил, и мы поехали на машине к большому дому, где меня оставили одного в холле ждать. Из-за закрытой белой крашеной двери доносился крик. Затем с плачем вышла моя мать и за руку потащила меня в машину.
– Идем, Филип. Мы никогда ни о чем больше не будем ее просить. Никогда не забывай, что твоя бабка – злобная тварь!
Я не забыл. Я редко думал об этом, но я до сих пор ясно помню, как сидел на стуле в холле, не доставая ногами до пола, и ждал в жестком новом костюмчике, слушая крики за дверью.
Я никогда по-настоящему не жил с матерью, разве что время от времени выпадала одна-другая мучительная неделя. У нас не было ни дома, ни адреса, ни постоянного пристанища. Она никогда не сидела на месте, потому всегда решала проблему – куда меня девать – весьма просто: спихивала меня на разное время по очереди своим многочисленным друзьям. Это, конечно, было для них как снег на голову, но они, как я теперь понимаю, были чрезвычайно терпеливыми людьми.
– Присмотри за Филипом несколько дней, дорогая, – говорила она, подталкивая меня к очередной чужой леди. – Жизнь сейчас такая невыносимо суматошная, и я прямо ума не приложу, что с ним делать, ты же знаешь, каково это, потому, дорогая Дебора (или Миранда, или Хлоя, или Саманта, или кто еще), будь лапочкой, я заберу его в субботу, честное слово! – Чаще всего она звучно чмокала дорогую Дебору, или Миранду, или Хлою, или Саманту и убегала, помахав ручкой, вся в ореоле веселья.
Приходила суббота, а моя мама… Нет, но в конце концов она всегда возвращалась, полная беспечности и смеха, рассыпаясь в благодарностях, и забирала, так скажем, свои вещи из камеры хранения. Я мог оставаться на складе дни, недели или месяцы: я никогда не знал, когда она приедет, как, подозреваю, и мои гостеприимные хозяева. Думаю, она по большей части платила какие-то деньги за мое содержание, но все как бы в шутку.
Даже мне она казалась очень хорошенькой. Причем была она настолько хорошенькой, что ее обнимали, ей потакали и прямо-таки пьянели в ее присутствии. Только потом, когда их оставляли буквально с ребенком на руках, они начинали сомневаться. Я стал запуганным молчаливым ребенком, который в постоянном напряжении ходил на цыпочках, стараясь никого не побеспокоить, все время боясь, что однажды меня насовсем выставят на улицу.
Оглядываясь назад, я понимаю, что я очень многим обязан Саманте, Деборе, Хлое и прочим. Я никогда не голодал, меня никогда не шпыняли и никогда, в конце концов, не отталкивали совсем. Случайные люди давали мне приют два или три раза, иногда радостно, но по большей части смирившись с судьбой. Когда мне было года три или четыре, кто-то длинноволосый, в браслетах и туземном халате, научил меня читать и писать, но я никогда подолгу нигде не жил, чтобы меня можно было официально отправить в школу. Это было странное, бестолковое, лишенное почвы существование, которое закончилось лет в двенадцать, когда меня отвезли в первое мое долговременное жилище, – тогда я умел выполнять почти всю работу по дому, но не умел любить.
Она оставила меня у двух фотографов, Данкена и Чарли. Поставила в большой фотостудии с голым полом, проявочной, ванной, одной-единственной конфоркой и кроватью за занавеской.
– Милые, присмотрите за ним до субботы, овечки мои… – И хотя я получал поздравительные открытки с днем рождения, подарки на Рождество, ее самой я не видел три года. Затем, когда Данкен уехал, она однажды вдруг влетела в дом, забрала меня у Чарли и отвезла к знакомому, который готовил лошадей для скачек, и его жене в Хэмпшир и заявила своим обалдевшим друзьям:
– Это только до субботы, милые, ему пятнадцать, он мальчик крепкий, он вам навоз чистить будет и все такое…
Еще пару лет или около того приходили открытки, всегда без адреса, так что я и ответить не мог. На мой девятнадцатый день рождения открытки не было, а затем на Рождество не было подарка, и больше я о ней ничего не слышал.
Она, наверное, умерла от наркотиков. Она сильно кололась, как я понял, когда вырос и разобрался в этом деле.
Старуха пялилась на меня с другого конца комнаты, как всегда, неумолимо и сердито, все еще злясь на мои слова.
– Ты мало чего добьешься от меня, если будешь так разговаривать, – сказала она.
– А мне ничего и не надо. – Я встал. – Зря я пришел. Если вы хотели отыскать дочь, то вам следовало начать делать это двадцать лет назад. А что до меня… я не стал бы ее искать ради вас, даже если бы мог.
– Я не хочу, чтобы ты искал Каролину. Думаю, ты прав насчет того, что она умерла. – Эта мысль явно не вызывала у нее скорби. – Я хочу, чтобы ты разыскал свою сестру.
– Мою… кого?
Злые темные глаза проницательно и оценивающе уставились на меня.
– Ты не знал, что у тебя есть сестра? Ну так теперь знаешь. Я завещаю тебе сто тысяч фунтов, если ты разыщешь ее и привезешь ко мне. И не думай, – едко заметила она, прежде чем я успел что-либо сказать, – что сумеешь подсунуть мне какую-нибудь маленькую самозванку и я ей поверю. Я стара, но далеко не дура. Тебе придется доказать мистеру Фолку, что девочка – моя внучка. А мистера Фолка трудно убедить.
Я едва слышал эти ядовитые слова – слишком сильным было потрясение. Ведь я был один, единственный отпрыск этой бабочки. Я ощутил беспричинный, но болезненный укол ревности, оттого что у нее был другой ребенок. Она была только моя, а теперь мне придется делить ее с кем-то, думать о ней по-другому. В смятении я подумал, что в тридцать лет нелепо переживать по этому поводу.
– Ну? – резко спросила моя бабка.
– Нет, – ответил я.
– Это же куча денег, – отрезала она.
– Когда они у тебя есть.
Она снова взбесилась:
– Наглец!
– О да. Ладно, если это все, я пошел. – Я повернулся и направился к двери.
– Постой, – торопливо сказала она. – Ты даже не хочешь посмотреть на ее фотографию? Там, на комоде, фото твоей сестры.
Я глянул через плечо и увидел, как она кивнула на комод в противоположном углу комнаты. Наверное, она заметила, как моя рука чуть задержалась на дверной ручке, поскольку сказала уже более доверительно:
– Ты просто посмотри на нее. Почему бы не посмотреть?
Я, вообще-то, не слишком этого хотел, меня просто подтолкнуло мое непреодолимое любопытство, и я подошел к комоду и посмотрел. Там лежал моментальный снимок, обычная фотография из семейного альбома размером с почтовую карточку. Я взял ее и повернул к свету.
Маленькая девочка лет трех-четырех, верхом на пони.
Ребенок с темно-каштановыми волосами до плеч в краснобелой полосатой футболке и джинсах. Обычный серый валлийский пони с чистой с виду сбруей. Их явно сняли во дворе у денников. Вид у обоих был довольный и сытый, но фотограф стоял слишком далеко, чтобы детское личико было видно в деталях. Может, увеличение немного поможет.
Я перевернул снимок, но на обратной стороне не было написано ничего, что помогло бы понять, откуда ее прислали или кто снимал.
Со смутным разочарованием я снова положил ее на комод и увидел, вздрогнув от тоски по прошлому, лежавший рядом конверт, надписанный рукой моей матери. Письмо было адресовано бабке, миссис Лавинии Нор, в старом доме в Нортгемптоншире, где мне тогда пришлось ждать в холле.
В конверте лежало письмо.
– Что ты делаешь? – в тревоге спросила моя бабка.
– Читаю письмо матери.
– Но я… Почему оно здесь? Положи его сейчас же! Я думала, оно в ящике.
Я не слушал ее. Почерк моей матери – с завитушками, экстравагантный, экстравертный – так ярко всплыл у меня в памяти, что мне показалось, что она здесь, в комнате, болтает без умолку, чуть ли не смеясь, и, как всегда, просит помочь.
Но это письмо, датированное только вторым октября, отнюдь не было веселым.
Дорогая мама!
Я знаю, что сказала, что никогда и ни о чем не буду снова тебя просить. Но я хочу попытаться еще раз, поскольку я, дура, все еще надеюсь, что однажды ты изменишь свое решение. Я посылаю тебе фото моей дочери Аманды, твоей внучки. Она очень миленькая и хорошенькая. Ей сейчас три года, ей нужен настоящий дом, ей нужно ходить в школу и все такое. Я знаю, что ты не хочешь, чтобы рядом с тобой были дети, но, если ты просто дашь ей пособие или даже сделаешь для нее что-нибудь ради бога, она сможет жить у совершенно по-ангельски добрых людей, которые ее любят и хотят оставить у себя, но просто не в силах сделать все для еще одного ребенка, поскольку у них уже своих трое. Если ты будешь регулярно переводить сколько-нибудь денег на их счет, то ты этого даже и не заметишь. А твоя внучка будет воспитываться в счастливом доме. А я не могу ей этого дать и потому в таком отчаянии, что пишу тебе.
У нее другой отец, не тот же, что у Филипа, и ты не можешь ненавидеть ее по той же самой причине, и, если бы ты увидела ее, ты бы ее полюбила. Но даже если ты не захочешь ее видеть, то, пожалуйста, мама, позаботься о ней. Надеюсь вскоре получить от тебя весточку. Пожалуйста, пожалуйста, мама, ответь на это письмо.
Твоя дочь, Каролина
Написано в Пайн-Вудз-Лодж,
Миндл-Бридж, Суссекс.
Я поднял взгляд и посмотрел на упрямую старуху:
– Когда она это написала?
– Много лет назад.
– И вы не ответили, – без обиняков сказал я.
– Нет.
Я подумал, что глупо гневаться по поводу такой давней трагедии. Я посмотрел на конверт, чтобы определить дату письма по печати, но она была стертой и неразборчивой. «Сколько же, – подумал я, – она ждала в Пайн-Вудз-Лодж в надежде, тревоге и отчаянии…» Конечно же, «отчаяние» в отношении моей матери было самым подходящим словом. Отчаяние было в ее смехе и простертых руках – и Господь (или Дебора, или Саманта, или Хлоя) не оставлял ее без ответа. Отчаяние не сделало ее ни мрачной, ни выносливой – но каким же глубоким оно должно было быть, чтобы заставить просить о помощи ее мать.
Я положил письмо, конверт и фотографию в карман пиджака. Мне было гадко, что старуха хранила их все эти годы, отвергая их мольбы, и я смутно ощущал, что они принадлежат мне, а не ей.
– Итак, ты это сделаешь, – сказала она.
– Нет.
– Но ты же взял фотографию.
– Да.
– И тогда?
– Если вы хотите найти Аманду, вам надо нанять частного детектива.
– Уже, – нетерпеливо сказала она. – Конечно же, я нанимала. Троих. И все без толку.
– Если уже трое потерпели неудачу, то ее не найти, – сказал я. – Я ничем не смогу помочь.
– Ну, тут есть стимул получше, – торжествующе сказала она. – За такие деньги ты в лепешку разобьешься!
– Ошибаетесь. – Я с горечью посмотрел на нее через комнату. Она без улыбки ответила мне взглядом со своего усыпанного подушками ложа. – Если я возьму от вас хоть какие-то деньги, меня стошнит.
Я пошел к двери и на сей раз открыл ее, не мешкая.
– Эти деньги получит Аманда, – сказала она мне в спину, – если ты найдешь ее.
Глава 2
Когда я на другой день снова приехал в Сандаун, письмо и фотография все еще лежали у меня в кармане, однако эмоции уже улеглись. Я был способен думать о своей неизвестной сводной сестре без детской злости. Еще один фрагмент прошлого встал на свое место. Но сейчас всеобщее внимание привлекало настоящее в лице Стива Миллеса. Он появился в раздевалке за полтора часа до первого заезда, весь запыхавшийся, с бисеринками мелкого дождя в волосах и праведным гневом в глазах. Он сказал, что дом его матери ограбили, когда все они были на похоронах отца. Мы, полупереодетые для скачек, так и замерли, ошеломленно слушая его. Я окинул взглядом эту сцену – жокеи во всех стадиях одевания, кто в кальсонах, с голой грудью, кто уже в костюме, натягивает нейлоновые брюки в обтяжку и сапоги. Все, застыв, с открытым ртом уставились на Стива.
Почти автоматически я достал свой «Никон» и сделал пару снимков. Они все так привыкли к тому, что я снимаю, что никто не обратил на меня внимания.
– Это просто страшно, – говорил Стив. – Омерзительно. Мама испекла немного печенья и всякого такого прочего для тетушек и других родственников к нашему возвращению с кремации. И все это было разбросано, растоптано, размазано по стенам и по ковру. А на кухне было еще хуже… в ванной тоже… Словно шайка малолетних психов бесилась по всему дому и гадила, как могла. Только вот это были не дети… Полицейские говорят, что дети не украли бы того, что у нас взяли.
– У твоей матери что, куча драгоценностей? – поддел кто-то.
Кое-кто из ребят рассмеялся, и первое напряжение улеглось, однако Стиву вполне искренне сочувствовали, и он продолжал рассказывать всем, кто слушал. Я тоже слушал, и не только потому, что наши вешалки в Сандауне были рядом и выбора у меня все равно не было, но еще и потому, что у нас были неплохие отношения.
– Они обчистили папину проявочную, – рассказывал он. – Просто все оттуда вынесли. Это же бессмысленно… я так полиции и сказал. Ведь они не взяли ничего такого, что можно было бы продать, вроде увеличителя или оборудования для проявки. Вместо этого они забрали все его работы, все фотографии, которые он снял за эти годы, все это пропало. И вот мама среди всего этого разгрома, и папа умер, и теперь у нее не осталось ничего из того, чему он посвятил всю свою жизнь. Ровным счетом ничего. И еще они забрали ее меховое полупальто и даже духи, которые папа подарил ей на день рождения, она даже не успела их открыть… Она просто сидела и плакала…
Он резко осекся. Проглотил комок в горле, словно это было слишком и для него тоже. Хотя он и не жил с родителями, в свои двадцать три года он все еще во многом оставался домашним ребенком, упрямо привязанным к родителям, что восхищает многих. Может, Джорджа Миллеса и ненавидели, но в глазах собственного сына он всегда был великим человеком.
Тонкий в кости, хрупкий, темноглазый, с оттопыренными ушами, Стив казался смешным. Он был очень нервным и впечатлительным. Если его что-то взволновало – пусть даже и не по такому чрезвычайному случаю, как сегодня, – он имел привычку без конца возбужденно это обсуждать.
– Полицейские сказали, что взломщики делают это назло, – говорил Стив, – переворачивают все вверх дном и крадут фотографии. Они сказали, хорошо еще, что они нигде не нассали и не насрали, как часто бывает, и что ей надо радоваться, что они не переломали стулья и диваны и не исцарапали мебель. – Он все рассказывал новоприбывшим о случившемся, но я уже кончил переодеваться и вышел, чтобы участвовать в первом заезде, и до полудня забыл о взломе в доме Миллесов.
Это был день, которого я ждал целый месяц, хотя и старался не слишком заглядывать вперед. Сегодня Дэйлайт бежит в Сандауне на скачках с гандикапом. Большие скачки, хорошая лошадь, так себе соперники и высокие шансы на победу. Такие совпадения довольно редко выпадали на мою долю, так что было чему радоваться, но я предпочитал ничему не верить, пока не оказывался на дистанции. Как мне сказали, Дэйлайт прибыл целым и невредимым. Мне нужно было пройти без потерь только первый заезд, скачку для новичков, а тогда, возможно, я выиграю Большие скачки, и с десяток владельцев на уши встанут, только бы предложить мне своего фаворита для скачек на Золотой кубок.
Обычно моей нормой было два заезда в день, и если я заканчивал сезон в первой десятке, то я был на вершине счастья. Долгие годы я пудрил себе мозги насчет того, что я так мало достиг потому, что я выше и тяжелее, чем нужно для этой работы. Даже при постоянном голодании я весил где-то десять стонов[2 - Стон – старинная английская мера, равная 6,4 кг.] и еще семь кило или чуть меньше без одежды, и потому меня постоянно исключали из бесчисленных заездов, где вес жокея не должен был превышать десяти стонов. По большей части мне выпадали сотни две заездов в сезон, где-то в сорока случаях я побеждал, и я знал, что меня считали «сильным», «надежным», что я «хорош на препятствиях», но «на финише – не первый класс».
Большинство людей думают в молодости, что они обязательно дойдут до вершины мастерства и что восхождение на эту вершину – лишь формальность. Думаю, не будь у них такой веры, они никогда бы и не начали. Где-то по дороге они поднимают взгляд и видят, что до вершины не доберутся. И тогда они находят счастье в том, что смотрят под ноги и наслаждаются тем, что имеют. Лет в двадцать шесть я смирился с мыслью о том, что дальше не продвинусь. Странно, это отнюдь не повергло меня в уныние, наоборот, я осознал это с облегчением. Я никогда не был слишком честолюбив, я просто хотел делать все как можно лучше. Если не могу лучше, так что ж, значит не могу, и все. Но все равно я не находил причин отказываться, если мне прямо-таки навязывали победителей Золотого кубка.
В тот день в Сандауне я закончил скачки для новичков без приключений («хорошо, но без вдохновения»), придя к финишу пятым из девятнадцати. Не так уж и плохо. Лучше у нас с лошадью все равно не получилось бы в тот день. Все как обычно.
Я переоделся в цвета Дэйлайта и пошел себе к паддоку, предвкушая радость грядущей скачки. Тренер Дэйлайта, для которого я скакал регулярно, ждал меня там вместе с владельцем лошади.
Владелец отмахнулся от моего бодрого приветствия насчет того, что как здорово, что дождь прекратился, и без обиняков начал:
– Сегодняшнюю гонку ты проиграешь.
Я улыбнулся:
– Если это будет в моих силах – нет.
– Проиграешь, – отрезал он. – Я поставил на другого.
Наверное, мне не удалось полностью скрыть гнев и гадливость. Он выделывал такое и прежде, но уже года три, как вроде бы притормозил. К тому же он знал, что я этого не люблю.
Виктор Бриггз, владелец Дэйлайта, был крепко сбитым мужчиной за сорок. Чем он занимался и кем он вообще был, я не знал. Нелюдимый, скрытный, он появлялся на скачках с ничего не выражающим, неулыбчивым лицом, говорил со мной мало. Он всегда носил тяжелое темно-синее пальто, черную широкополую шляпу и толстые черные кожаные перчатки. В прошлом он был отчаянным игроком на скачках, и, когда я скакал для него, выбор у меня был один – делать то, что он говорит, или потерять работу. Тренер Гарольд Осборн прямо сказал мне вскоре после того, как я к нему подошел, что, если я не сделаю того, чего хочет Виктор Бриггз, я буду уволен.
Я проигрывал для Бриггза скачки, которые мог бы выиграть. Но такова жизнь. Мне нужно было есть и выплачивать кредит за коттедж. Для этого мне нужна была хорошая большая конюшня, для которой я мог бы скакать, и если я уйду из одной, где мне давали шанс, то я попросту могу и не найти другой. Их не так уж и много, и, даже если не учитывать Виктора Бриггза, Осборн был очень даже прав. И потому, как многие жокеи в подобных щекотливых условиях, я делал то, что мне говорили, и помалкивал.
В самом начале, когда Виктор Бриггз предложил мне солидную сумму наличными за проигрыш, я сказал, что мне таких денег не надо: я проиграю, если придется, но не за деньги. Он сказал, что я молодой надутый дурак, но после того, как я вторично отказался, он стал держать свои деньги в кармане и свое мнение обо мне – при себе.
– Почему бы тебе и не взять? – сказал Гарольд Осборн. – Не забывай, что ты получишь на десять процентов больше, чем если бы ты выиграл. Мистер Бриггз просто возмещает тебе проигрыш, вот и все.
Я покачал головой. Он не настаивал. Я подумал, что я, может, и вправду дурак, но когда-то кто-то – не то Саманта, не то Хлоя внушили мне эту неприятную убежденность в том, что за грехи придется расплачиваться. И после того, как я три с лишним года не сталкивался с этой дилеммой, меня еще более взбесило то, что я снова уткнулся в то же самое.
– Я не могу проиграть, – запротестовал я. – Дэйлайт – лучшая лошадь в конюшне. С ним никто даже в сравнение не идет. Вы сами знаете.
– Просто сделай так, – сказал Виктор Бриггз. – И говори потише, если не хочешь, чтобы распорядитель тебя услышал.
Я глянул на Гарольда Осборна. Он упорно смотрел на то, как лошади вышагивают по кругу, и делал вид, что не слышал слов Виктора Бриггза.
– Гарольд, – позвал я.
Он коротко мазнул по мне безразличным взглядом:
– Виктор прав. Ставки сделаны на другого. Ты будешь стоить нам кучу денег, если выиграешь. Значит, не выигрывай.
– Нам?
Он кивнул:
– Нам. Это правда. Упади, если придется. Проиграй секунду, если хочешь. Но не приходи первым. Понял?
Я кивнул. Я понимал. Снова в те же тиски, как три года назад.
Я повел Дэйлайта рысью к старту. Жизнь, как и прежде, наступала на горло возмущению. Если я не мог себе позволить потерять работу в двадцать три, тем более не могу в тридцать. Меня знали как жокея Осборна. Я семь лет на него работал. Если он вышвырнет меня, то ничего, кроме такой же рутины, в другой конюшне я не добьюсь. Буду скакать во вторую очередь вместо других жокеев и покачусь к забвению. Он ведь не скажет прессе, что избавился от меня потому, что я не хочу больше проигрывать по приказу. Он скажет им (конечно же, с сожалением), что ищет кого-нибудь помоложе… что ему приходится делать то, что лучше для хозяев лошадей… чертовски жаль, но карьере любого жокея приходит конец… конечно же, печально, и все такое прочее, но время-то идет, куда же денешься?
«Будь все проклято», – подумал я. Я не хотел проигрывать эту скачку. Мне гадко было играть нечестно… и десять процентов, которые я потерял бы на этот раз, были достаточно большой суммой, чтобы разозлить меня еще сильнее. Какого хрена Бриггз вернулся к своим делишкам спустя столько времени? Я-то думал, что он завязал, поскольку я довольно многого достиг, работая на него как жокей, чтобы понять, что я, скорее всего, откажусь. Жокей, который стоит достаточно высоко в списке победителей, был избавлен от подобного давления, поскольку, если в его конюшне сглупят и выпихнут его прочь, его тут же с распростертыми объятиями примут в другой. Может, он думал, что я уже прошел пик формы, поскольку стал старше и теперь снова оказался под угрозой остаться без работы.
Мы шагали по кругу, пока судья на старте зачитывал список участников. Я с опаской смотрел на четырех лошадей, которых ставили против Дэйлайта. Среди них не было ни одной стоящей. Ни одной, что хотя бы на бумаге могла обойти моего могучего мерина, именно поэтому зрители сейчас ставили четыре фунта на Дэйлайта, чтобы выиграть один.
Четыре к одному…
Отнюдь не рискуя собственными деньгами при таких шансах, Виктор Бриггз тихой сапой шел на пари с другими и будет вынужден платить, если его лошадь выиграет. Кажется, и Гарольд тоже, – однако я чувствовал, что кое-чем обязан Гарольду.
После того как я семь лет проработал с ним, наши отношения стали более тесными, чем простое сотрудничество тренера и жокея. Я стал относиться к нему если не с теплотой, как к близкому другу, то, по крайней мере, весьма по-приятельски. Он был человеком, полным страстей и обаяния: то впадал в черную депрессию, то взлетал на вершину буйного красноречия, то тиранствовал, то был щедр. Он мог переорать и перематерить любого в Беркшир-Даунсе, и конюхи с тонкой душевной организацией толпами бежали от него. Когда я впервые скакал для него, его бурное восхищение моей ездой было на полной громкости слышно от Уэнтеджа до Суиндона, а сразу после этого и у него дома, когда он откупорил бутылочку шампанского и мы выпили за наше дальнейшее сотрудничество.
Он доверял мне всегда и полностью, и отстаивал меня перед критиками, что сделал бы не каждый тренер. У каждого жокея, рассудительно говорил он, бывает черная полоса, и, когда в такую полосу попадал я, он всегда давал мне работу. Он считал, что я, со своей стороны, буду полностью предан ему и его конюшне, и в последние три года ему легко было так думать.
Судья вызвал лошадей на старт, и я развернул Дэйлайта мордой в нужную сторону.
Старт-машин не было. Для скачки с препятствиями их не используют. Вместо них – эластичная лента.
В холодном злом унижении я решил, что скачку ради Дэйлайта надо бы закончить как можно ближе к старту. Когда на тебя устремлены тысячи биноклей, телекамеры и камеры слежения, когда пронырливые ребята из прессы только на тебя и смотрят, проиграть в любом случае трудно, и, если я сойду с дистанции, когда будет ясно, что Дэйлайт выигрывает, это будет равно самоубийству. А если я просто упаду на последней полумиле, начнется расследование и я могу потерять лицензию. И мне не будет легче от осознания того, что сам это заслужил.
Судья положил руку на рычаг, лента взлетела вверх, и я послал Дэйлайта вперед. Никто из остальных жокеев не захотел возглавить скачку. Мы тронулись медленно, один за другим, отчего мои треволнения только усилились. Дэйлайт никогда не споткнется ни у одного препятствия. Он всегда стабильно прыгал и вряд ли падал хоть раз. Некоторых лошадей никак не подведешь как надо к препятствию – Дэйлайта невозможно было подвести неправильно. Все, что ему было нужно, так это малейший знак жокея, а остальное он сделает сам. Я много раз скакал на нем. Выиграл с ним шесть скачек. Я хорошо его знал.
Обмануть лошадь. Надуть публику.
Надуть.
«Будь все проклято, – подумал я. – Проклятье, проклятье и проклятье».
Я сделал это у третьего препятствия, на склоне у вершины холма, на крутейшем повороте, на пути от трибун. Это было лучшее место, поскольку под таким углом зрители мало что заметили бы, на подъеме при подходе к препятствию – у него в этом году многие падали.
Дэйлайт, сбитый с толку моими неверными посылами и, вероятно, почуяв каким-то телепатическим образом, как все лошади, мое беспокойство и гнев, начал сбиваться с аллюра еще до прыжка и сделал лишний рывок там, где его вообще не нужно было.
«Господи, – думал я, – малыш, я страшно виноват, но ты упадешь, если я сумею». И я послал его в неверный момент, чуть жестче, чем надо, натянув повод, когда он был уже в прыжке, и перенес вес на переднюю часть его плеча.
Он неуклюже приземлился, слегка споткнулся, опустил голову, чтобы выправить равновесие. Этого было недостаточно… но он должен был упасть. Я быстро вынул правую ногу из стремени и упал ему на спину так, что полностью сполз ему на левую сторону, съехал из седла, схватившись за его шею.
В таком положении невозможно было удержаться на спине лошади. Я цеплялся за него еще три неустойчивых шага, затем сполз ему под грудь, окончательно потеряв хватку и грянувшись наземь ему под ноги. Топот копыт, пара перекатов, и лошади промчались галопом мимо меня.
Я сидел на земле, отстегивая шлем, и чувствовал себя совершенной сволочью.
– Невезуха, – говорили мне мимоходом ребята в весовой. – Непер.
До конца дня все было спокойно. Я спрашивал себя – догадался хоть кто-нибудь, но, похоже, нет. Никто не подталкивал меня локтем, не подмигивал, не бросал на меня язвительных взглядов. Просто из-за смятения и чувства вины я не мог оторвать глаз от пола.
– Выше нос, – сказал Стив Миллес, застегивая какой-то оранжево-зеленый камзол. – Это еще не конец света. – Он взял хлыст и шлем. – Завтра будет новый день.
– Ага.
Он ушел на свой заезд, а я мрачно переоделся в уличную одежду. «Все, – думал я. – Конец восторгам, с которыми я пришел на скачки. Конец победам, конец мечтам о десятке воображаемых тренеров, которые стоят на ушах, только бы заполучить меня для скачек на Золотой кубок. Конец надеждам на прибавление в смысле финансов, с которыми у меня стало малость туговато после покупки новой машины. Поражение на всех фронтах».
Я пошел посмотреть забег.
Стив Миллес, скорее из куража, чем по здравому смыслу, повел свою лошадь на второе последнее препятствие каким-то совершенно несуразным аллюром и упал при приземлении. Это было одно из тех тяжелых быстрых падений, при котором ломают кости, и всем было понятно, что со Стивом случилась беда. Он с трудом поднялся на колени, затем сел на корточки, свесив голову и обхватив себя руками. Предплечье, плечо, ребра… что-то повредил.
Его лошадь, целая и невредимая, поднялась и унеслась галопом прочь. Я немного постоял, наблюдая, как двое санитаров осторожно ведут Стива в медпункт. Я подумал, что и у него сегодня неудачный день, вдобавок ко всем семейным бедам. Что же заставляет нас такое делать? Что заставляет нас продолжать, несмотря на все переломы, риск и разочарования? Что все время манит нас к скорости, когда мы можем заработать ровно столько же, спокойно сидя в офисе?
Я снова пошел в весовую, чувствуя, как там, где по мне прошелся Дэйлайт, наливаются и ноют синяки. Завтра я буду весь багрово-черный, но это дело обычное. Ушибы, неизбежно связанные с моей профессией, не особенно меня беспокоили, и я никогда не ломал себе ничего настолько серьезно, чтобы бояться следующего падения. Я и вправду обычно ощущал себя здоровым, знал, что у меня сильное стройное тело, что я представляю собой гармоническое, атлетически сложенное существо. Ничего из ряда вон выходящего. Все на месте. Это было ощущение здоровья.
Я подумал, что утрата иллюзий убьет меня. Если работа уже не кажется стоящей, если люди вроде Виктора Бриггза делают ее до невозможности неприятной, то на этом человек может сломаться. Но еще не сейчас. Я все еще любил такую жизнь и вовсе не был готов расстаться с ней.
Стив вошел в раздевалку в сапогах, брюках и майке. Ключица была зафиксирована скобами, рука на перевязи, голова слегка наклонена в одну сторону.
– Ключицу сломал, – сердито буркнул он, – чертова невезуха!
От боли его тонкое лицо казалось и вовсе тощим, он осунулся, глаза запали, но за злостью он забыл о боли.
Его помощник помог ему переодеться, прикасаясь к нему с выработанной за долгое время осторожностью, и тихонько стянул с него сапоги, чтобы рывок не потревожил плечо. Толпа остальных жокеев вокруг нас толкалась, пела и шутила, пила чай и ела фруктовые пирожные, ребята снимали камзолы и надевали брюки, смеялись, чертыхались и торопились. Конец работы, конец рабочей недели, теперь до понедельника.
– Может, – сказал мне Стив, – ты подбросишь меня домой? – Он говорил робко, словно не был уверен, что наша дружба простирается настолько далеко.
– Думаю, да, – ответил я.
– Мне к маме. Это неподалеку от Аскота.
– Ладно.
– Мою машину кто-нибудь завтра пригонит, – сказал он. – Чертова невезуха.
Я сфотографировал его с помощником, который стягивал с него второй сапог.
– Что ты делаешь со всеми этими снимками? – спросил помощник.
– Сую в ящик.
Он помотал головой – мол, во дает!
– Пустая трата времени.
Стив глянул на «Никон»:
– Папа говорил, что видел кое-какие твои фотографии. Сказал, что когда-нибудь ты вытеснишь его из бизнеса.
– Он просто смеялся надо мной.
– Может, и да. Не знаю. – Он медленно всунул руку в рукав рубахи и дал помощнику застегнуть пуговицы на другом рукаве.
– Ох, – поморщился он.
Джордж Миллес действительно видел несколько моих снимков у меня в машине. Он застал меня, когда я их рассматривал, сидя в машине на стоянке в конце солнечного весеннего дня, поджидая, когда приятель, которого я подвозил, выйдет с ипподрома.
– Прямо Картье Брессон, – сказал Джордж, слегка улыбаясь. Он сунул руку в открытое окно и сцапал пачку фотографий – мы несколько мгновений тянули их каждый к себе. Я не смог остановить его. – Ну-ну, – проговорил он, одну за другой просматривая их. – Лошади в Даунсе, выбегают из тумана. Романтическое дерьмо. – Он отдал мне фотографии. – Сохрани их, парень. Когда-нибудь из тебя выйдет фотограф.
Он пошел через стоянку. Тяжелая сумка с камерой висела у него на плече. Временами он поддергивал ее, чтобы было легче нести. Он был единственным знакомым мне фотографом, с которым я не чувствовал себя как дома.
Данкен и Чарли три года, что я прожил у них, терпеливо учили меня всему, что я только мог усвоить. То, что меня спихнули им в двенадцать лет, значения не имело: Чарли с самого начала сказал, что я могу мыть полы и прибирать проявочную, и я с радостью это делал. Остальному меня учили постепенно, все разжевывая, и наконец я стал постоянно проявлять фотографии Данкена и делал половину рутинной работы за Чарли. Чарли называл меня «наш лаборант». «Он смешивает нам реактивы, – говорил он. – Знаток по части работы со шприцем. Внимательно, Филип, один и четыре десятых миллилитра бензолового спирта». И я точно набирал шприцем небольшие количества реактива и добавлял в проявитель, чувствуя, что я, в конце концов, хоть на что-то гожусь в этом мире.
Помощник надел на Стива куртку, отдал ему его часы и бумажник, и мы осторожно повели Стива к моей машине.
– Я обещал помочь маме разобрать весь тот бардак, когда вернусь. Чертова невезуха.
– Возможно, ей помогут соседи. – Я усадил его в свой новый «форд», включил фары и поехал в сторону Аскота.
– Никак не могу привыкнуть, что папы больше нет, – сказал Стив.
– Что случилось? – спросил я. – В смысле, ты сказал, будто он врезался в дерево…
– Да. – Он вздохнул. – Папа заснул за рулем. По крайней мере, так все считают. Других машин не было, ничего такого. Там был поворот или что-то вроде этого, и он не смог повернуть. Просто проехал прямо вперед. Наверное, так и не убрал ногу с педали… Весь перед в лепешку. – Его передернуло. – Он ехал домой из Донкастера. Мама всегда предупреждала его, чтобы он не ездил по автостраде вечером после трудного дня, но ведь он был не на автостраде… он был куда ближе к дому.
В его голосе звучали усталость и подавленность, – несомненно, это он и чувствовал. Украдкой глянув на него, я понял, что, несмотря на все мои старания вести машину осторожно, ему больно.
– Он на полчасика зашел к приятелю, – сказал Стив. – Они выпили по паре стаканчиков виски. Так глупо. Просто заснул…
Мы долго ехали молча. Он думал о своем, я – о своем.
– Только в прошлую субботу, – проговорил Стив. – Всего неделю назад…
Минуту назад – жив, сейчас – мертв… как все.
– Здесь налево, – сказал Стив.
Мы повернули несколько раз налево, потом направо и наконец выехали на улочку. По одну сторону ее шла живая изгородь, по другую тянулись опрятные домики.
Неподалеку впереди творилось что-то неладное. Горели огни, суетились люди. На дорожке к одному из домов стояла карета «скорой» с открытыми дверьми, на ее крыше вращался синий фонарь. Полицейская машина. Хлопали двери. Толпились любопытные.
– Господи, – проговорил Стив, – это же их дом! Мамин и папин!
Я открыл дверь, но он сидел неподвижно, потрясенно уставившись куда-то перед собой.
– Это мама. Наверняка. Теперь мама.
Судя по голосу, он был близок к истерике. Лицо его дергалось от чудовищного волнения, и глаза в отраженном свете казались огромными.
– Сиди здесь, – деловито приказал я. – Я пойду посмотрю.
Глава 3
Мать Стива, вся в крови, дрожа и кашляя, лежала на софе в гостиной. Какая-то сволочь напала на нее. Нос и губы были разбиты, глаз подбит, на щеке и челюсти свежие кровоподтеки. Одежда ее была разорвана, туфли непонятно где, всклокоченные волосы торчали во все стороны.
Я иногда видел мать Стива на скачках. Это была приятная, хорошо одетая дама лет пятидесяти, уверенная в себе и счастливая, откровенно гордящаяся сыном и мужем. В этой избитой женщине ее просто невозможно было узнать.
Рядом с ней сидел на табурете полицейский и стояла женщина из полиции с окровавленной тряпочкой. На заднем плане маячили двое санитаров, у стены лежали раскрытые носилки. Тут же со скорбным и встревоженным видом нервно переминалась с ноги на ногу какая-то женщина, вроде бы соседка. В комнате все было перевернуто вверх дном, на полу валялись какие-то бумажки, обломки мебели. На стене были следы джема и пирожных, как и рассказывал Стив.
Когда я вошел, полицейский повернул голову:
– Вы врач?
– Нет… – Я объяснил, кто я такой.
– Стив! – воскликнула его мать. Рот ее дергался, руки дрожали. – Стив ранен. – Она говорила с трудом, и все же страх за сына новой мукой прошел по ее и так исстрадавшемуся лицу.
– Все не так страшно, уверяю вас, – торопливо заверил ее я. – Он тут, снаружи. Просто ключицу сломал. Я сейчас приведу его.
Я вышел, рассказал ему все и помог выбраться из машины. Он ссутулился и весь сжался, хотя казалось, что сам он этого не ощущал.
– Почему? – беспомощно спрашивал он, поднимаясь по дорожке. – Почему? За что?
Полицейский в доме задавал те же вопросы, как, впрочем, и все остальные.
– Когда нас прервали, вы рассказывали, что их было двое, с чулками на головах. Верно?
Она едва заметно кивнула.
– Молодые, – сказала она. Это слово у нее вышло коряво – разбитые губы распухли. Она увидела Стива и потянулась к нему, крепко стиснула его руку. Он же, увидев ее, побледнел и осунулся еще больше.
– Белые или цветные? – спросил полицейский.
– Белые.
– Как они были одеты?
– В джинсах.
– Они были в перчатках?
Она прикрыла глаза. Подбитый распух и покраснел.
– Да, – прошептала она.
– Миссис Миллес, пожалуйста, попытайтесь вспомнить, – сказал полицейский, – чего они хотели?
– Они искали сейф, – пробормотала она.
– Что?
– Сейф. Но у нас нет сейфа. Я говорила им. – Две слезинки поползли по ее щекам. – Где сейф, повторяли они. Они избили меня.
– У нас нет сейфа, – прорычал Стив. – Я убью их.
– Хорошо, сэр, – сказал полицейский. – Только спокойно, сэр, будьте любезны.
– Один… начал ломать вещи, – сказала миссис Миллес. – Другой бил меня.
– Скоты, – проговорил Стив.
– Они не говорили, что им нужно? – спросил полицейский.
– Сейф.
– Да, но это было все? Может, они искали деньги? Драгоценности? Серебро? Золотые монеты? Что они в точности говорили, миссис Миллес?
Она слегка сдвинула брови, словно задумавшись. Затем, с трудом выговаривая слова, сказала:
– Они спрашивали только: «Где сейф?»
– Полагаю, вы знаете, – сказал я полицейскому, – что этот дом и вчера грабили?
– Да, сэр. Я сам тут вчера был. – Он несколько мгновений оценивающе смотрел на меня, затем снова повернулся к матери Стива. – Эти двое юнцов в масках говорили что-нибудь о том, что были тут вчера? Попытайтесь припомнить, миссис Миллес.
– Я… не думаю.
– Не торопитесь, – сказал он. – Попытайтесь вспомнить.
Она довольно долго молчала, по щекам ее скатились еще две слезинки. «Бедная женщина, – подумал я. – Столько страданий, столько горя, столько оскорблений… И сколько мужества».
Наконец она сказала:
– Они были… как быки. Они орали. Они были грубы. Они… толкали меня. Толкали. Я открыла переднюю дверь. Они ворвались. Впихнули… меня. Начали… все ломать… Устроили этот разгром… Кричали… «Где сейф? Говори, где сейф»… Били меня. – Она помолчала. – Не думаю… чтобы они что-то говорили… про вчера…
– Убью, – прохрипел Стив.
– Третий раз, – прошептала его мать.
– Что, миссис Миллес? – спросил полицейский.
– Третий раз ограбили. Уже было… два года назад.
– Вы не можете заставлять ее вот так лежать, – прорычал Стив. – Задавать все эти вопросы… Вы вызвали врача?
– Все в порядке, Стив, дорогой, – сказала соседка, подавшись вперед, словно хотела утешить его. – Я позвонила доктору Уильямсу. Он сказал, что сейчас же приедет. – Вид у нее был заботливый и обеспокоенный, но тем не менее она получала удовольствие от всего этого зрелища, и я представлял себе, как она будет рассказывать об этом всем соседям. – Я тут была раньше, помогала твоей матери, Стив, – затараторила она, – но, конечно, я ходила домой – соседняя дверь, ты же знаешь, дорогой, – чтобы приготовить чай для моей семьи, и тут я услышала крики. Мне показалось, что тут что-то не так, милый, и я побежала назад посмотреть, стала звать твою маму, чтобы спросить, все ли в порядке, и тут эти два ужасных юнца выскочили из дому, просто вылетели, и я, конечно, вошла… и тут… твоя бедная мама… потому я позвонила в полицию, и в «скорую», и доктору Уильямсу, и всем остальным. – Она выглядела так, словно ожидала, что ее, по крайней мере, по головке погладят за такое присутствие духа, но Стив сейчас не был способен на это.
Полицейский тоже не оценил ее стараний.
– Вы не помните, на какой машине они уехали? – спросил он.
– Светлая, среднего размера, – твердо ответила она.
– Это все?
– Я не особо обращаю внимание на машины.
Никто не сказал, что на эту ей следовало бы обратить внимание. Но все об этом подумали.
Я прочистил горло и несмело обратился к полицейскому:
– Я не знаю, пригодится ли это, и, конечно, вы можете и своего человека для этого позвать и все такое, но у меня тут в машине камера, если вам, конечно, нужны фотографии всего этого.
Он поднял голову и сказал «да». Потому я принес обе камеры и сделал две серии снимков – цветные и черно-белые, с крупным планом избитого лица и широкоугольные снимки комнаты. Мать Стива безропотно терпела вспышки, и съемка не заняла много времени.
– Вы профессиональный фотограф, сэр? – спросил полицейский.
Я покачал головой:
– Просто у меня большая практика.
Он сказал, куда отослать готовые фотографии. Тут приехал доктор.
– Не уходи пока, – сказал мне Стив. Я увидел в его напряженном лице отчаяние и остался с ним, пока не закончилась вся последовавшая суматоха. Я сидел на лестнице, за дверями гостиной.
– Не знаю, что делать, – сказал он, садясь рядом со мной. – Я в таком виде не могу водить машину, а мне нужно поехать и посмотреть, чтобы с ней все было в порядке. Они заберут ее в больницу на ночь. Может, я поймаю такси?…
Вообще-то, он не просил, но этот вопрос сам по себе был просьбой. Я сдержал вздох и предложил помочь. Он благодарил меня так, словно я бросил ему спасательный круг.
В конце концов я остался с ним на ночь, поскольку, когда мы вернулись из больницы, у него был такой измученный вид, что я не мог просто так уехать и бросить его одного. Я приготовил пару омлетов, потому что к тому времени – а было уже десять – мы умирали с голоду, ведь оба не ели с самого завтрака. Потом я немного прибрался.
Он сидел на краю софы, бледный, измученный, не обращая внимания на свой болезненный перелом. Возможно, он почти и не чувствовал боли, хотя его лицо было полно страдания. Говорил он только о матери.
– Я убью этих ублюдков, – сказал он.
«Смело, но глупо, – подумал я. – Как обычно. Судя по положению вещей, если Стивен со своим весом в девять стонов семь кило встретится с этими двумя ублюдками, то скорее это они его убьют».
Я начал с дальнего угла комнаты, собрал кучу журналов, газет и старых писем, а также поднял дно и крышку от коробки в десять на восемь дюймов, в которой когда-то лежала фотобумага. Старая подружка.
– Что мне со всем этим делать? – спросил я Стива.
– Да просто сложи где-нибудь, – неопределенно сказал он. – Тут кое-что полетело с полки над телевизором.
Деревянная журнальная полка валялась на боку на ковре, пустая.
– А это папина мусорная коробка, вон та, оранжевая, потрепанная. Он держал ее на полке вместе с бумагами. Никогда ничего из нее не выкидывал, просто складывал сюда неудачные снимки, год за годом. Просто смешно. – Он зевнул. – Ты не особо старайся. Мамина соседка приберется.
Я поднял кучку какого-то хлама: прозрачный кусочек пленки шириной дюйма в три и длиной около восьми, несколько лент 35-миллиметровых цветных негативов, проявленных, но пустых, и довольно хорошую фотографию миссис Миллес с пятнами реактива на волосах и шее.
– Это, наверное, было в папиной мусорной коробке, – сказал, зевая, Стив. – Можешь выбросить.
Я сложил все в мусорную корзину и добавил туда же почти черную черно-белую фотографию, разорванную пополам, и несколько цветных негативов в кляксах фиксажа.
– Он хранил их, чтобы не забывать о своих ошибках, – сказал Стив. – Просто невозможно представить, что он больше не вернется…
В бумажной папке была еще одна очень темная фотография, на которой был изображен какой-то человек за столом. Фигура была в тени.
– Тебе она нужна? – спросил я.
Он покачал головой:
– Это все папин хлам.
Я снова положил на журнальную полку женские журналы и поставил несколько деревянных безделушек, сложил письма в кучу на столе. На полу в одной куче валялись обрывки китайских орнаментов для вышивки, обломки старательно разломанной коробки с рукоделием на тонких ножках-подставках, маленькое бюро, перевернутое набок, из ящиков которого при падении водопадом хлынула писчая бумага. Казалось, что весь этот погром был учинен только для вящего шума и устрашения – как и те крики, то избиение, о котором рассказала миссис Миллес. Они устроили этот дикий погром, чтобы запугать ее, но, когда не вышло, они стали ее избивать.
Я снова поставил бюро и засунул в него большую часть бумаги, собрал в кучу разбросанные узоры для гобелена, несколько десятков мотков пряжи. Стало наконец видно ковер.
– Ублюдки, – сказал Стив. – Ненавижу. Всех убью.
– Почему они решили, что у твоей матери есть сейф?
– Кто их знает. Может, они просто грабят только что овдовевших женщин, а про сейф кричат на всякий случай? Я имею в виду, что, если бы у нее был сейф, она сказала бы им, где он, разве не так? Сначала отец погиб, потом вчера, пока мы были на похоронах, был взлом. Такое потрясение. Она сказала бы им. Я знаю, что она сказала бы.
Я кивнул.
– Больше ей не вынести, – сказал он. В голосе его слышались слезы, а глаза потемнели – он старался не заплакать. Я подумал, что скорее это он больше не выдержит. Его-то мать поддерживают сочувствие и лекарства.
– Пора спать, – резко сказал я. – Идем. Я помогу тебе раздеться. Утро вечера мудренее.
Я рано проснулся после этой беспокойной ночи и лежал, глядя на пробивающийся в окно блеклый ноябрьский рассвет. В этой жизни была куча такого, с чем мне не хотелось бы иметь дела, и потому вставать мне было неохота – ситуация, привычная для рода человеческого. «Разве не чудесно, – вяло подумал я, – быть довольным собой, смело смотреть вперед, не думать о полоумных умирающих бабках и собственной гнетущей подлости? Я, по сути, человек искренне беззаботный, принимаю все как есть и потому не люблю, когда меня загоняют в угол, из которого приходится выбираться, то есть что-то делать».
Всю мою жизнь все приходило ко мне само. Я никогда ничего не искал. Я впитывал то, что мне попадалось на пути, где бы то ни было. Как искусство фотографии, поскольку мне встретились Данкен и Чарли. И как конный спорт, поскольку мама подкинула меня хозяину той конюшни для скаковых лошадей. Если бы она оставила меня у фермера, я, вне всякого сомнения, заготавливал бы сено.
Чтобы выжить в течение стольких лет, мне приходилось принимать то, что мне давали, стараться быть полезным, тихим, покладистым, не причинять беспокойства, научиться владеть собой, и потому теперь, когда я возмужал, мне совершенно претили суматоха и борьба.
Я так долго учился не хотеть того, что мне не предлагали, что теперь вообще мало чего хотел. Я не принимал основополагающих решений. Гарольд Осборн предложил мне жилье и работу жокея на его конюшне. Я все это принял. Банк предложил ссуду. Я принял. Местный гараж предложил машину. Я купил ее.
Я понимал, почему я таков, каков есть. Я знал, почему я просто плыву по воле волн. Я сознавал, почему я пассивен, но не имел никакого желания менять жизнь, топать ногами и заявлять, что я, дескать, хозяин своей судьбы.
Я не хотел искать свою сестру и не желал терять работу у Гарольда. И все же по какой-то непонятной причине это бессознательное плавание стало казаться мне все более и более неправильным.
Я в досаде оделся и пошел вниз по лестнице, высматривая по дороге Стива. Он спал без задних ног.
После того ограбления в день похорон пол кое-как вымыли, собрав в кучу битую посуду и рассыпанные крупы. Кофе и сахар те громилы прошлым вечером вывалили на пол, зато молоко и яйца в холодильнике оставили. Я немного попил. Затем, чтобы убить время, я побродил по нижним комнатам, просто глядя по сторонам.
Комната, в которой прежде располагалась проявочная Джорджа Миллеса, наверное, была куда интереснее всех остальных, если бы тут хоть что-нибудь осталось. Но во время первого ограбления здесь тщательнее всего порылись. Бесчисленные неряшливые полосы и потеки на стенах под рядом пустых полок показывали, где стояло оборудование, а пятна на полу – где он хранил свои реактивы.
Он, насколько я знал, составил множество собственных рецептов цветных проявителей и разработал свои способы печати, чего большинство профессиональных фотографов не делают. Проявка цветных слайдов и негативов – дело трудное и требующее точности, и для получения надежного результата спокойнее отдавать их на обработку в коммерческие поточные лаборатории. Данкен и Чарли сдавали все свои пленки на проявку и делали сами только печать с негативов, поскольку это гораздо проще.
Джордж Миллес был мастером высшего разряда. Жаль, что у него характер был такой поганый.
Судя по следам, он работал с двумя увеличителями. Кроме них, наверняка имел в загашнике множество штучек для регулирования выдержки, кучу оборудования для проявки и глянцеватели. Наверное, у него имелись десятки листов фотобумаги различного типа и светонепроницаемые конверты для ее хранения. И конечно, кучи папок, в которых хранились в должном порядке его старые работы, а также красные лампы, мерные стаканы, скоросшиватели и фильтры.
Все, все до клочка исчезло.
Как и большинство серьезных фотографов, он хранил непроявленные пленки в холодильнике. Стив сказал, что они тоже исчезли, и, наверное, они как раз и были причиной погрома на кухне.
Я пошел в гостиную – просто так – и зажег свет, думая, как бы мне побыстрее и не слишком грубо растолкать Стива и сказать ему, что я уезжаю. Полуприбранная комната казалась холодной и мрачной. Жалкое же зрелище предстанет взору бедной миссис Миллес, когда она вернется домой. По привычке и от нечего делать я неторопливо начал с того, на чем кончил вчера. Собрал осколки ваз и безделушек, вымел из-под кресел катушки ниток и обрывки вышивки.
Из-под софы торчал край большого светонепроницаемого конверта – обычная вещь в доме фотографа. Я заглянул в него, но там был только кусок чистого толстого пластика в восемь квадратных дюймов, ровно обрезанный с трех сторон и волнистый с четвертой. Еще мусор. Я сунул пластик назад в конверт и бросил все в корзину.
Пустая картонная коробка лежала открытая на столе. Без особой причины и явно по присущему фотографам любопытству я взял мусорную корзину и снова вывалил ее на ковер. Затем сложил все «ошибки» Джорджа в коробку, в которой он их держал, а потом собрал осколки стекла и фарфора и опять ссыпал их в корзину.
Глядя на фотографии и обрывки пленки, я задавался вопросом: почему Джордж вообще берег их? Фотографы, как и доктора, обычно быстро хоронят свои ошибки и не хранят их тут и там на журнальных полках вечным напоминанием о неудачах. Я всегда любил загадки. Я подумал, что было бы любопытно разобраться, почему Джордж счел интересными именно эти снимки.
Стив спустился по лестнице. В своей пижаме он казался таким хрупким. Он баюкал свою поврежденную руку, вяло взирая на наступивший день.
– Господи, – сказал он, – ты же целую кучу убрал!
– Сколько смог.
– Ну спасибо. – Он увидел мусорную коробку на столе. Все содержимое снова было на месте. – Он обычно держал ее в холодильнике, – сказал он. – Мама рассказывала мне, что как-то раз была ужасная суматоха, когда холодильник сломался и все разморозилось – горох там и все такое. Папе было наплевать на то, что еда, которую она приготовила, погибла. Он только и говорил о том, что какое-то мороженое протекло прямо на его мусорку. – Стив устало улыбнулся при этом воспоминании. – Наверное, это было еще то зрелище. Ей это показалось чрезвычайно забавным, и, пока она смеялась, он становился все злее и злее… – Стив осекся, улыбка погасла. – Не могу поверить, что он не вернется.
– Твой отец часто держал свои пленки в холодильнике?
– Конечно. Естественно. Кучу пленок. Ты же знаешь, что такое фотографы. Всегда психуют, что цветные красители не вечны. Он все переживал, что его работы через двадцать лет погибнут. Говорил, единственный путь сохранить их для потомства – глубокая заморозка, да и то бабушка надвое сказала.
– Ладно… – сказал я. – А взломщики и холодильник опустошили?
– Господи! – У него был испуганный вид. – Не знаю. Я даже и не думал об этом. Но зачем им его пленки?
– Они же украли те, что были в проявочной.
– Но полицейские сказали, что это просто по злобе. На самом деле им нужно было оборудование, они же могут его продать.
– Мм, – ответил я. – Твой отец делал много таких снимков, которые не нравились людям.
– Да, но только шутки ради. – Он, как всегда, защищал Джорджа.
– Давай посмотрим в холодильнике.
– Да. Хорошо. Он там, сзади, в сарайчике.
Стив вынул ключ из кармана фартука, висевшего в кухне, и вышел через заднюю дверь в маленький крытый дворик, с мусорным контейнером и поленницей дров. В кадке на дворе росла петрушка.
– Здесь, – сказал Стив, протягивая мне ключ и кивком показывая на зеленую крашеную дверь в окружающей двор стене. Я вошел и обнаружил огромный холодильник, стоявший между бензиновой газонокосилкой и примерно шестью парами галош.
Я поднял крышку. Внутри, заполняя одну его сторону, угнездившись между бараньими ножками и коробками с булочками и рубленым бифштексом, стояли три серых металлических ящика, каждый из которых был плотно завернут в полиэтилен. На крышке каждого была приклеена скотчем короткая надпись: «НЕ ХРАНИТЬ МОРОЖЕНОГО РЯДОМ С ЭТИМИ ЯЩИКАМИ».
Я рассмеялся.
Стив посмотрел на ящики и надпись и сказал:
– Сам видишь. Мама сказала, что он просто взбеленился, когда все там потекло, но в конце концов ничего не пострадало. Еда вся пропала, но его лучшие диапозитивы уцелели. После этого он и начал хранить их в ящиках.
Я закрыл крышку, мы заперли дверь и пошли обратно в дом.
– Ты правда думаешь, – с сомнением в голосе начал Стив, – что грабители охотились за папиными фотографиями? То есть они ведь всякое украли. Мамины кольца, его запонки, ее шубу и все такое.
– Да… так.
– Ты думаешь, что мне стоит сказать полиции обо всех этих пленках в холодильнике? Я уверен, что мама просто забыла о них. Мы никогда о них и не думали.
– Можешь поговорить с ней об этом, – сказал я. – Посмотрим, что она скажет.
– Да, так будет лучше. – Он чуть повеселел. – Одно хорошо – пусть она и потеряла все номера и даты и названия мест, где эти снимки были сделаны, но у нее, по крайней мере, остались некоторые из лучших его работ. Не все пропало. Не все.
Я помог Стиву одеться и вскоре уехал, поскольку он сказал, что ему уже лучше. Да это и видно было. И я уехал с коробкой неудач Джорджа Миллеса, которую Стив велел выбросить на помойку.
– Ты не против, если я возьму ее себе? – спросил я.
– Да нет, конечно. Я знаю, что ты любишь всю эту возню с пленками, прямо как он… Он любил этот старый хлам. Не знаю почему. В любом случае возьми, если хочешь.
Он вышел на подъездную дорожку и посмотрел, как я укладываю коробку в багажник рядом с двумя моими камерами.
– Ты ведь никуда не ходишь без камеры, да? – сказал он. – Прямо как папа.
– Думаю, нет.
– Папа говорил, что без нее чувствует себя голым.
– Это становится частью тебя. – Я захлопнул багажник и по давней привычке запер его. – Это твой щит. Ты как бы на шаг отходишь от мира. Становишься наблюдателем. Это как бы дает тебе право встать над эмоциями.
Он был весьма удивлен тем, что мне такое приходит в голову, да и я сам был удивлен – не тем, что подумал об этом, а тем, что сказал об этом ему. Я улыбнулся, чтобы превратить все это в шутку. И Стив, сын фотографа, явно облегченно вздохнул.
Где-то час я добирался от Аскота до Ламборна. Было воскресное утро, и я ехал быстро. Перед своим коттеджем я обнаружил большую темную машину.
Мой коттедж был одним из семи стандартных домиков в ряду, построенных при Эдуарде[3 - Имеется в виду царствование короля Эдуарда VII (1901–1910).] для людей среднего достатка. Кроме меня, там сейчас жили школьный учитель, водитель фургона для перевозки лошадей, викарий, ассистент ветеринара, несколько вдов и детей, а также там была пара общаг, набитых конюхами. Один жил только я. В такой тесноте почти неприличным казалось занимать столько места одному.
Мой дом был в центре: два выше, два ниже по улице. Сзади к нему была пристроена современная кухня. Белый кирпичный фасад безо всяких украшений выходил прямо на дорогу, не оставляя места для сада. Новые алюминиевые оконные рамы заменили прежние деревянные, которые уже давно сгнили. Старое потрепанное здание. Не особо впечатляет, но все же дом.
Я медленно проехал мимо машины, повернул на грязную подъездную дорожку в конце квартала, объехал домики сзади и припарковался под рифленой пластиковой крышей навеса позади кухни. По дороге я заметил, как из машины торопливо вышел какой-то человек. Я понял, что он увидел меня. Со своей стороны, я подумал только о том, что в воскресенье он мог бы и оставить меня в покое.
Я прошел через дом с черного хода и открыл переднюю дверь. На пороге стоял Джереми Фолк – худой, высокий, неуклюжий, пользующийся своей неподдельной неуверенностью как рычагом – все как прежде.
– Что, адвокаты по воскресеньям не отдыхают? – спросил я.
– Ну, в общем, я прошу прощения…
– Ладно, – сказал я. – Заходите. Сколько вы тут торчите?
– Да ничего… не волнуйтесь.
Он вошел в дверь и тут же разочарованно заморгал. Я перестроил внутреннюю часть коттеджа так, что бывшая передняя теперь была разделена на прихожую и проявочную, а собственно в той части, которая осталась под прихожую, была теперь картотека да окно, выходящее на улицу. Белые стены, белый кафельный пол – все белое и безликое.
– Сюда, – внутренне забавляясь его растерянностью, сказал я и повел его мимо проявочной и того, что служило раньше кухней, а теперь было скорее ванной и отчасти продолжением прихожей. За ними была новая кухня, а слева – узкая лестница.
– Кофе или поговорим? – спросил я.
– Мм… поговорим.
– Тогда наверх.
Я пошел вверх по лестнице, он следом за мной. Одну из двух спален я использовал как гостиную, поскольку она была самой большой комнатой в доме и с лучшим видом на Даунс. В самой маленькой комнате рядом с этой я спал.
В гостиной были белые стены, белый пол, коричневый ковер, голубые шторы, опускающийся светильник, книжные полки, софа, низкий столик и напольные подушки. Мой гость оценивающе стрелял глазами, оглядывая комнату.
– Ну? – нейтрально начал я.
– Ну… в смысле… хорошая картина.
Он подошел посмотреть поближе на единственную висевшую на стене вещь – бледно-желтый солнечный свет падает на снег сквозь нагие ветви серебристых берез.
– Это… гм… картина?
– Это фотография, – сказал я.
– О! Правда? Похожа на картину. – Он отвернулся и сказал: – Где бы вы стали жить, будь у вас сто тысяч фунтов?
– Я уже сказал ей, что мне не нужны эти деньги. – Я посмотрел на него, неуклюжего, беспомощно стоявшего передо мной. На сей раз он был одет не в свой рабочий черный костюм, а в твидовый пиджак с декоративными кожаными заплатками на локтях. Но под этим тупым видом сообразительности все равно было до конца не скрыть, и я рассеянно подумал, не выбрал ли он эту маску из-за того, что собственная проницательность его смущает.
– Садитесь, – я показал на софу, и он сел, подобрав свои длинные ноги, словно я ему одолжение сделал. Я уселся на подушку, набитую маленькими мягкими шариками, и сказал: – Почему вы ничего не сказали мне о деньгах, когда встречались со мной в Сандауне?
Его чуть не скорчило.
– Я… просто… в смысле, подумал, что лучше сначала взять вас на кровные узы, знаете ли…
– А если бы не удалось, вы попробовали бы на жадность?
– Вроде того.
– И тогда вы просекли бы, с кем имеете дело?
Он заморгал.
– Понимаете ли, – вздохнул я, – я ведь все с полуслова понимаю, так, может, вам просто… бросить дурака валять?
Он расслабился и впервые стал вроде бы естественным и слегка улыбнулся мне – в основном глазами.
– Это становится привычкой, – сказал он.
– Так я и понял.
Он еще раз окинул взглядом комнату. Я сказал:
– Ладно, скажите, что вы видите.
Он так и сделал, не дергаясь и не извиняясь:
– Вы любите одиночество. Эмоционально холодны. Вам не нужна поддержка. И, хотя вы и делаете снимки, тщеславие вам чуждо.
– Принимаю.
– Ой-ой.
– Ладно, – сказал я. – Итак, зачем вы пришли?
– Ну, очевидно, чтобы заставить вас сделать то, чего вы делать не хотите.
– Найти сестру, о которой я не знал?
Он кивнул.
– Зачем?
После короткой паузы, в которую, как я мог представить, он провернул кучу «за» и «против», он сказал:
– Миссис Нор настаивает на том, чтобы ее наследство досталось тому, кого нельзя найти. Это… это желание невозможно удовлетворить.
– Почему она настаивает?
– Не знаю. Она дала такие указания моему деду. Его советов она не слушает. Она стара, надоела ему дальше некуда, моему дяде тоже, потому они спихнули все это на меня.
– Аманду не смогли отыскать три детектива.
– Они не знали, где искать.
– Я тоже, – ответил я.
Он внимательно посмотрел на меня:
– Вы должны бы знать.
– Нет.
– Вы знаете, кто ваш отец? – спросил он.
Глава 4
Я сидел, повернув голову к окну, глядя на небогатую событиями спокойную жизнь Даунса. Тяжелое молчание ушло. А Даунс будет здесь всегда.
– Я не хочу связываться с семейством, к которому не чувствую себя принадлежащим, – сказал я. – И мне не нравится, что это родство затягивает меня в свою паутину. Старуха не затащит меня назад лишь потому, что подобное ей пришло в голову, после стольких-то лет.
Джереми Фолк не дал прямого ответа. Когда он встал, в его движениях снова появилась привычная неуклюжесть. Но не в голосе.
– Я привез отчеты, которые мы получили из трех детективных бюро, – сказал он. – Я их вам оставлю.
– Бесполезно.
– Согласен, – сказал он. Снова окинул взглядом комнату. – Я ясно вижу, что вы не хотите вмешиваться в это дело. Но, боюсь, я буду отравлять вам жизнь, пока вы не согласитесь.
– Делайте ваше грязное дело.
Он улыбнулся:
– Грязное дело свершилось около тридцати лет назад, разве не так? Еще до того, как оба мы родились. А сейчас грязь просто снова всплыла.
– Наше вам спасибо.
Он вытащил длинный пухлый конверт из внутреннего кармана своего деревенского твидового пиджака и осторожно положил его на стол:
– Отчеты не особо длинные. Вы ведь можете просто прочесть их, правда?
Он и не ждал ответа. Он просто с рассеянным видом пошел к двери, показывая, что готов уйти. Я шел за ним вниз по лестнице вплоть до его машины.
– Кстати, – сказал он, неуклюже застыв на полпути к водительскому сиденью, – миссис Нор на самом деле умирает. У нее рак позвоночника. Уже с метастазами. Говорят, сделать ничего нельзя. Она проживет, может, недель шесть или чуть больше. Они не могут сказать. Потому… в смысле… времени нет, понимаете?
Я с удовольствием весь день проработал в проявочной, проявляя и печатая черно-белые снимки миссис Миллес и разгрома в ее доме. Снимки вышли четкие и резкие, так что можно было даже прочесть бумаги на полу, и я вдруг задумался: где же пролегает эта граница между явным тщеславием и просто удовольствием от хорошо сделанной работы? Возможно, тщеславием было вешать на стену серебристые березы… но если отвлечься от содержания, то печатание большого фотоснимка – техническая проблема, и все получилось как надо… да и скульптор разве прячет под мешковиной лучшие свои статуи?
Конверт, который принес Фолк, по-прежнему нераспечатанный, лежал наверху на столе, где Джереми его и оставил. Я, проголодавшись, поел немного помидоров и мюсли, убрался в проявочной, в шесть часов запер дом и пошел вверх по дороге к Гарольду Осборну.
В шесть часов по воскресеньям он ждал меня на рюмочку, и каждое воскресенье от шести до семи мы разговаривали о том, что произошло за прошлую неделю, и обсуждали планы на неделю будущую. Несмотря на свое непредсказуемое настроение, что маятником качалось от депрессии к эйфории, Гарольд был человеком методичным и терпеть не мог, когда что-нибудь мешало нашим посиделкам, которые он называл военными советами. В этот час на телефонные звонки отвечала его жена, записывая, что ему передать и кому перезвонить. Как-то раз при мне у них вышел страшный скандал, поскольку она ворвалась в комнату, чтобы сказать, что собаку сбила машина.
– Могла бы подождать двадцать минут! – взревел он. – Как я теперь могу сосредоточиться на указаниях Филипу насчет Швеппса?
– Но собака! – рыдала она.
– К черту собаку!
Он несколько минут выговаривал ей, а затем вышел на дорогу и стал рыдать над изуродованным телом своего друга. Наверное, в Гарольде было то, чего не было во мне, он был эмоционален, вспыльчив, порой его прямо-таки распирало от чувств, от гнева или любви, он был хитер и обладал утонченным вкусом. Мы были схожи лишь в одном – в нашей вере в то, что мы сможем сделать все как надо, и это молчаливое соглашение было основой мира между нами и держало нас вместе. Он мог бешено орать на меня, понимая, что я не обижусь, и поскольку я хорошо его знал, то и не обижался. Другие жокеи, тренеры и некоторые журналисты часто говорили мне с различной степенью раздражения или насмешки: «Как ты только с этим миришься?» И я всегда честно отвечал: «Легко».
В это воскресенье священный час был прерван еще до того, как успел начаться, поскольку у Гарольда был гость. Я вошел в его дом через вход в конюшни. В гостиной-офисе, полной уютного беспорядка, в одном из кресел сидел Виктор Бриггз.
– Филип! – с улыбкой приветствовал меня Гарольд. – Налей себе. Мы как раз собираемся просмотреть вчерашнюю видеозапись. Садись. Готов? Я включаю.
Виктор Бриггз кивнул мне и пожал руку. «Без перчаток», – подумал я. Холодные бледные сухие руки, в пожатии ничего агрессивного. У него были густые блестящие прямые черные волосы, слегка поднимавшиеся над бровями, образуя мысок посередине лба. Обычно их скрывала широкополая шляпа. Он был без тяжелого синего пальто, в простом темном костюме. Даже сейчас на лице его было замкнутое выражение, словно он боялся выдать свои мысли, но в целом он был явно доволен. Пусть он и не улыбался, но ощущение было такое.
Я открыл банку кока-колы и налил себе в стакан.
– Ты не будешь пить? – спросил Виктор Бриггз.
– Шампанское, – сказал Гарольд. – Он шампанское пьет, не так ли, Филип?
Гарольд был в прекрасном расположении духа. Его рыжевато-каштановые кудри беспорядочно торчали во все стороны, такие же неукротимые, как и его натура. Гарольду было пятьдесят два, а смотрелся он лет на десять моложе – дородный, крупный, живой, мускулистый, шести футов росту, лицо с сильными, но нечеткими чертами, так что оно казалось скорее круглым, чем острым.
Он включил видео и снова сел в кресло, чтобы посмотреть на неудачу Дэйлайта на сандаунских скачках. Доволен был, как будто выиграл Большой национальный приз. «Хорошо, что никто из распорядителей не присматривался, – подумал я. – Иначе вряд ли бы кто ошибся насчет того, чего это тренер радуется проигрышу своей лошади».
На пленке я на Дэйлайте спускался к старту, становился в ряд, пускался с места; комментатор говорил, что ставки на фаворита один к четырем, надо только взять все препятствия, чтобы выиграть. Чистые прыжки на первых двух препятствиях. Сильный ровный подъем мимо трибун. Дэйлайт впереди, задает скорость, но остальные пять всадников идут по пятам. Верхний поворот, прижимается к изгороди… все быстрее вниз… Приближение к третьему препятствию… все выглядит прекрасно, затем винт в воздухе и неуклюжее приземление, фигурка в красном и голубом сползает по шее лошади, затем падает ей под ноги. Стон толпы и спокойный голос комментатора: «Дэйлайт сходит на этом препятствии, теперь лидирует Мушка»…
Остальные участники скачек общей неразличимой кучей вяло дотащились до финиша. Затем еще раз прокрутили сход с дистанции Дэйлайта с замечаниями комментатора. «Вы видите, как конь пытается прибавить и сбрасывает Филипа Нора вперед через голову… голова лошади при приземлении резко опускается, не оставляя жокею шанса… Бедный Филип Нор цепляется за лошадь… безнадежно… всадник и лошадь не получили повреждений».
Гарольд встал и выключил видео.
– Артистично, – сказал он, лучезарно улыбаясь мне сверху вниз. – Я двадцать раз крутил пленку. Просто невозможно пересказать.
– Никто ничего не заподозрил, – сказал Виктор Бриггз. – Один из распорядителей сказал мне: «Как чертовски не повезло».
Где-то в груди Виктора Бриггза таился смех – не вырывающийся на поверхность, а только сотрясающий грудь. Он взял большой конверт, лежавший рядом с его стаканом джина с тоником, и протянул его мне.
– Здесь моя благодарность тебе, Филип.
– Вы очень добры, мистер Бриггз, – сухо сказал я. – Но это ничего не меняет. Я не хочу получать деньги за проигрыш… Ничего не могу с этим поделать.
Виктор Бриггз молча положил конверт. И не он тут же впал в ярость, а Гарольд.
– Филип, – прогремел он, нависая надо мной, – не будь ты таким щепетильным, черт тебя дери! В этом конверте куча денег! Виктор очень щедр. Возьми, скажи спасибо и заткнись.
– Лучше не надо.
– Да плевать мне, что тебе лучше! Когда надо было совершить преступление, ты так не манерничал! Это он от тридцати сребреников, видите ли, нос воротит! Ханжа! Меня тошнит от тебя. И ты возьмешь эти деньги, или мне придется затолкать их тебе в глотку!
– Придется.
– Что придется?
– Затолкать их мне в глотку.
Виктор Бриггз по-настоящему рассмеялся, хотя, когда я посмотрел на него, губы его были по-прежнему сжаты, как будто смех вырвался наружу без его позволения.
– И, – медленно сказал я, – я не хочу больше такого делать.
– Ты сделаешь то, что тебе скажут, – сказал Гарольд.
Виктор Бриггз решительно встал, и оба они внезапно замолкли, глядя на меня.
Мне показалось, что прошла целая вечность, затем Гарольд сказал тихим голосом, в котором было куда больше угрозы, чем в его крике:
– Ты сделаешь то, что тебе скажут, Филип.
Тут и я встал, в свою очередь. Во рту у меня пересохло, но я сумел заговорить безразлично, спокойно и без вызова, насколько это было возможно:
– Пожалуйста… не заставляйте меня повторять вчерашнее.
Глаза Виктора Бриггза сузились.
– Тебе что, лошадь чего-нибудь повредила? Судя по видео, конь по тебе прошелся.
Я покачал головой:
– Нет. Просто из-за проигрыша. Вы же знаете, мне это претит. Просто… я не хочу, чтобы вы просили меня… еще раз.
Снова молчание.
– Послушайте, – сказал я, – всему есть мера. Конечно, я придержу лошадь, если она не на сто процентов в форме и тяжелая гонка выведет ее в другой раз из строя. Конечно, я это сделаю, если в этом будет смысл. Но не так, как было вчера с Дэйлайтом. Я понимаю, что я делал такое… но вчера последний раз.
– Лучше тебе уйти прямо сейчас, Филип, – холодно сказал Гарольд. – Я поговорю с тобой утром.
Я кивнул и ушел без теплых рукопожатий, которыми приветствовали мое прибытие.
«Что они будут делать?» – думал я. Я шел по извилистой темной улочке от дома Гарольда к себе, как сотни раз по воскресеньям, и думал, не в последний ли раз. Если он захочет, он может хоть завтра посадить на своих лошадей других жокеев. Он не был обязан выпускать меня на скачки. Я считался вольнонаемным, поскольку мне платили за скачки владельцы лошадей, я не получал еженедельную плату от тренера, и такого понятия, как «незаконное увольнение», для свободных художников вроде меня не существовало.
Я подумал, что они не отпустят меня просто так. Но ведь три года они честно работали с лошадьми Бриггза, так почему бы не продолжить и в будущем? И если бы они хотели продолжать мошенничество, то почему бы им не взять для этого какого-нибудь другого бедного молодого олуха, только начинающего карьеру, и прижать его, если они хотят проигрывать скачки? Все это глупости. Я положил мою работу к их ногам, как футбольный мяч, и, возможно, сейчас они как раз выбивают его с поля.
Смешно. Я и не знал, что собираюсь сказать то, что сказал. Это просто вырвалось, как вода из новой скважины.
Все эти скачки, которые я, не желая этого, проиграл в прошлом, но ведь проиграл… Почему же сейчас я смотрю на это настолько по-другому? Почему же меня так воротит, когда я думаю о том, чтобы снова помешать Дэйлайту, даже если отказ будет означать конец жокейской карьеры?
Когда же я изменился? И как я этого не заметил? Не знаю. У меня просто было ощущение, что я уже слишком далеко зашел, чтобы поворачивать обратно. Слишком далеко зашел по той дороге, по которой не хотел идти.
Я поднялся по лестнице наверх и прочел три отчета детективов об Аманде, поскольку это в целом было куда лучше, чем думать о Бриггзе и Гарольде.
Два отчета были от весьма крупных бюро и один от детектива-одиночки, и все три проявили немало изобретательности, получив очень мало результатов. Несомненно, они честно отработали свои деньги. Они пространно объясняли, что они так долго делали и почему ничего не выяснили: все трое, что неудивительно, обнаружили примерно одно и то же.
Никто из них поначалу не мог найти никакого намека на регистрацию рождения девочки. Все они сомневались и не верили в то, что ее можно разыскать, но меня это вовсе не удивляло. Я, когда пытался получить паспорт, вдруг обнаружил, что и сам не имею свидетельства о рождении. Вся эта тягомотина заняла несколько месяцев.
Я знал, как меня зовут, знал имя своей матери, дату рождения и то, что родился в Лондоне. Однако официально меня не существовало.
– Но я же есть, – протестовал я, и мне сказали:
– Да, но ведь у вас нет бумаги с подтверждением этого, так?
И были свидетельские показания, тонны и километры бумаги, и, когда я получил разрешение поехать во Францию, я уже пропустил тамошние скачки.
Все детективы перерыли Сомерсет-хауз в поисках записей об Аманде Нор, возраст между десятью и двадцатью пятью, рожденной, вероятно, в Суссексе. Несмотря на ее необычное имя, все они потерпели неудачу.
Я цыкнул зубом, подумав, что смог бы поточнее определить ее возраст.
Она не могла родиться раньше, чем я стал жить у Данкена и Чарли, поскольку до того я довольно часто видел свою мать, раз пять-шесть в год, зачастую по неделе, и я знал бы, если бы у нее был ребенок. Люди, у которых она меня оставляла, обычно говорили о ней, когда думали, что я не слышу, и я постепенно начинал понимать то, что они говорили, хотя порой не сразу, а через несколько лет, но никто из них не упоминал о том, что она беременна.
Значит, мне было по меньшей мере двенадцать, когда родилась Аманда, и, соответственно, ей сейчас не может быть больше восемнадцати.
С другой стороны, она не могла быть младше десяти, я был уверен, что моя мать умерла где-то между Рождеством и моим восемнадцатым днем рождения. Она, видимо, была тогда в таком отчаянии, что послала своей матери письмо и фотографию. Аманде на фотографии было три… значит, если она жива, ей по меньшей мере пятнадцать.
Шестнадцать или семнадцать, скорее всего. Она родилась в те три года, когда я совсем не виделся с матерью и жил у Данкена и Чарли.
Я снова вернулся к отчетам…
Все три детектива получили последний известный адрес Каролины Нор, матери Аманды: Пайн-Вудз-Лодж, Миндл-Бридж, Суссекс. Все трое ездили туда для «наведения справок».
Пайн-Вудз-Лодж, как они довольно горестно описывали, отнюдь не был, как можно было судить по названию, маленькой частной гостиницей с регистрационными журналами, ведущимися бог знает сколько лет, с прилагаемыми адресами. Пайн-Вудз-Лодж был старым особняком в георгианском стиле[4 - Стиль архитектуры конца XVIII – начала XIX в.], пришедшим в упадок и предназначенным под снос. В бывшем танцзале росли деревья. Большая часть здания вообще не имела крыши.
Владела особняком семья, по большей части вымершая лет двадцать пять назад, оставив лишь дальних родственников, у которых не было ни желания, ни денег на поддержание дома. Поначалу они сдавали дом различным организациям (прилагается список по данным агентств по недвижимости), но в последние годы там жили самовольно поселившиеся всякие непонятные личности и бродяги. Здание настолько обветшало, что пять акров, на которых оно было построено, выставлялись на продажу в течение трех месяцев, но если кто-то и хотел бы купить эту землю, то прежде ему пришлось бы снести здание, так что больших денег за нее ожидать не приходилось.
Я просмотрел список арендаторов. Никто из них не задерживался надолго. Частный интернат для престарелых. Женская монашеская община. Некое общество художников. Сумасбродный проект создания клуба для мальчиков. Компания по производству телефильмов. Музыкальный кооператив. Братство высшего милосердия. Корпорация ордена тайной переписки.
Один из детективов, самый настырный, покопался в прошлом арендаторов, насколько мог, и приложил к списку следующие нелестные комментарии.
Дом престарелых – все умирали в результате эвтаназии. Закрыт советом.
Монашки – распущены по причине проституции.
Художники – оставили мерзкие фрески.
Мальчики – переломали все, что еще было целым.
ТВ – были нужны руины для фильма.
Музыканты – пережгли всю проводку.
Братья – религиозные психи.
Почтовики – извращенцы.
Дат по времени аренды не было, но, возможно, если в агентстве по недвижимости могли бы еще дать список, то здесь можно было бы найти еще кое-какие детали. Если я прав насчет того времени, когда мать написала свое отчаянное письмо, то я, по крайней мере, мог бы выяснить, с какой шайкой психов ей пришлось жить.
Конечно, если бы я этого хотел.
Вздохнув, я продолжил чтение.
Копии фотографии Аманды Нор широко показывали в людных местах (в окнах газетных киосков) в окрестностях городка Миндл-Бридж, но никто не вызвался опознать ни ребенка, ни конюшенный двор, ни пони.
В различных периодических и одной центральной воскресной газете (в течение шести недель) помещались объявления (счета прилагаются) насчет того, что если Аманда Нор хочет узнать кое-что о своих правах, то ей следует написать «Фолку, Лэнгли-сыну и Фолку», адвокатам, в Сент-Олбанс, Хартсфордшир.
Один из детективов, тот, который раскапывал информацию начет арендаторов, также проявил инициативу и послал запрос в Пони-клуб, но безрезультатно. Они никогда не слышали о члене клуба по имени Аманда Нор. Более того, он написал в Британскую ассоциацию скачек, но результат был тот же самый.
Широкий опрос школ вокруг Миндл-Бридж не выявил в журналах никого по имени Аманда Нор, ни в прошлом, ни сейчас.
Ее не было на попечении местного совета в Суссексе. Ее вообще ни в каких официальных списках не было. Ни единый врач или дантист не слыхал о ней. Она не проходила конфирмацию, не выходила замуж, не была похоронена или кремирована на территории графства.
Отчеты приходили к одному и тому же выводу: ее куда-то увезли (возможно, под другим именем), и больше она верховой ездой не интересуется.
Я сгреб печатные листы и сложил их в конверт. Надо признать, детективы постарались. Они также выражали свою готовность продолжать поиски в любом графстве страны, если им санкционируют значительные расходы, но успеха никоим образом не гарантировали.
Их совместный гонорар уже сам по себе наверняка был пугающе большим. Однако санкции они вроде бы не получили. Я язвительно усмехнулся, думая про себя, не решила ли старуха отправить меня на поиски Аманды из-за того, что это куда дешевле обойдется? Обещание, взятка… не будет ребенка, не будет и денег.
Я не понимал, почему вдруг ее напоследок обуял интерес к внучке, которую она раньше и знать не хотела. Ведь у нее был собственный сын, мальчик, которого моя мать называла «мой ненавистный младший брат». Ему, наверное, было около десяти, когда я родился. Сейчас, значит, ему около сорока. Возможно, он имеет собственных детей.
Дядя. Кузены и кузины. Сводная сестра. Бабка.
Мне они не были нужны. Я не хотел их знать или вмешиваться в их жизнь. И вовсе не собирался разыскивать Аманду.
Я встал и решил спуститься вниз на кухню, чтобы приготовить что-нибудь из сыра и яиц. И чтобы немного отвлечься от мыслей о Гарольде, я принес из машины мусорную коробку Джорджа Миллеса, открыл ее и выложил на кухонный стол содержимое, просматривая одну вещь задругой.
При ближайшем рассмотрении все равно не стало понятнее, зачем ему было хранить именно этот хлам. Просмотрев его, я с разочарованием решил в конце концов, что впустую потратил время, принеся это сюда.
Я взял рамку, в которой был темный снимок человека в тени за столом и рассеянно подумал, чего ради было трудиться и печатать такой передержанный кадр…
Пожав плечами, я как бы между прочим вытряхнул снимок из рамки. Он скользнул по моей руке… и я нашел одно из сокровищ Джорджа.
Глава 5
На первый взгляд ничего особенного.
К обратной стороне снимка был приклеен конверт, сделанный из специальной бессернистой бумаги, используемой осторожными профессионалами для долговременного хранения проявленных пленок. В конверте лежал негатив.
Это был негатив, с которого и была сделана фотография, но, если фотография была почти черной и местами темно-серой, сам негатив был чистым и четким, со множеством деталей и бликов.
Я положил снимок и негатив рядом.
Сердце у меня не стало биться чаще. Никаких подозрений, никаких предположений не возникло. Только любопытство. И поскольку у меня были и средства, и время, я снова пошел в проявочную и напечатал несколько фотографий размером пять на четыре дюйма, каждую при разной выдержке, от одной до восьми секунд.
Но даже при самой длительной выдержке фотография получилась не такой, как у Джорджа Миллеса, потому я снова начал с лучшей выдержки в шесть секунд и передержал фотографии в проявителе, пока четкие контуры не потемнели и по большей части не исчезли и не остался только серый человек на черном фоне, сидящий за столом. В этот момент я вынул фотографию из кюветы с проявителем и положил ее в закрепитель. Я получил фотографию, почти в точности такую же, как у Джорджа.
Слишком долгое выдерживание снимка в проявителе – самая распространенная ошибка. Если бы Джордж отвлекся и передержал фотографию в проявителе, он просто чертыхнулся бы и выбросил ее. Так почему же он хранил снимок? Да еще и в рамке держал. И приклеил четкий чистый негатив к обратной стороне?
Я так и не понял, пока не включил яркий свет и не рассмотрел как следует лучшую из четырех фотографий. Я просто оцепенел. Я стоял в проявочной, не веря глазам своим.
Наконец, присвистнув, я двинулся с места. Я выключил белый свет и, когда мои глаза снова привыкли к красному, сделал еще одну фотографию, увеличив ее в четыре раза, на более контрастной бумаге, чтобы получить как можно более четкий отпечаток.
Я держал в руках снимок – на нем было двое мужчин, давших в суде присягу, что никогда друг друга не видели.
Обознаться было невозможно. Человек в тени теперь сидел за столиком в уличном кафе где-то во Франции. Сам он был французом, с усиками – он как будто случайно зашел туда и сидел за столиком, на котором стояли стакан и тарелка. Кафе называлось «Серебряный кролик». За полузанавешенным окном виднелась реклама пива и лотереи, в дверях стоял официант в фартуке. В глубине за кассой перед зеркалом сидела женщина и смотрела на улицу. Все детали были очень четкими, с замечательной глубиной фокуса. Джордж Миллес, как всегда, был на высоте.
За столиком снаружи, за окном кафе, сидели двое мужчин. Оба смотрели в камеру, но головы были повернуты друг к другу. Ошибиться было невозможно – они разговаривали друг с другом. Перед каждым стоял бокал с вином, наполовину опустошенный, и бутылка. Также там стояли чашечки кофе и пепельница с положенной на край, наполовину выкуренной сигарой. Все признаки долгой беседы.
Оба они были замешаны в аферу, потрясшую мир скачек восемнадцать месяцев назад, как раскат грома. Слева на фотографии был Элджин Йаксли, владелец пяти дорогих стиплеров, тренировавшихся в Ламборне. В конце сезона скачек все пять были отосланы на местную ферму на несколько недель на выгул, а затем, в полях, все пять были застрелены из винтовки. А застрелил их Теренс О’Три, человек, который был на фотографии справа.
Довольно толковая работа полицейских (которым помогли два паренька, вышедшие погулять на рассвете, когда их родители считали, что они спокойно спят) позволила выследить и опознать О’Три и вызвать его в суд.
Все пять лошадей были хорошо застрахованы. Страховая компания, скрипя зубами и не веря, сделала все, что могла, доказывая, будто бы Йаксли сам нанял О’Три для убийства, но оба упорно это отрицали, и между ними не смогли найти никакой связи.
О’Три сказал, что застрелил лошадей только потому, что, мол… «хотел малость попрактиковаться в стрельбе по цели, откуда мне было знать, ваша честь, что это ценные скаковые лошади». Его отправили с тюрьму на девять месяцев с рекомендацией поставить на учет у психиатра.
Элджин Йаксли с негодованием заявлял о том, что он человек порядочный, и угрожал подать в суд на страховую компанию за клевету, если она сейчас же не заплатит. Он выцарапал у нее всю страховую сумму и затем сошел со скаковой сцены.
«Страховая компания, – думал я, – заплатила бы Джорджу Миллесу хорошие деньги за эту фотографию, если бы знала о ее существовании. Возможно, десять процентов от того, что им не пришлось бы платить Элджину Йаксли». Точной суммы я припомнить не мог, но знал, что вся страховка за пять лошадей достигала ста пятидесяти тысяч фунтов. На самом деле именно размер выплаты так взбеленил страховщиков и заставил их заподозрить мошенничество.
Так почему же Джордж не стал просить вознаграждения? И почему он так тщательно прятал негатив? И почему его дом трижды грабили? Хотя я и так никогда не любил Джорджа Миллеса, возможный ответ на эти вопросы мне не нравился еще больше.
Утром я отправился на конюшню. Гарольд вел себя, как обычно, бурно. Перекрывая резкий свист ноябрьского ветра, бич его голоса хлестал конюхов, и, как я понял, один-другой в конце недели уволятся. Сегодня, если конюх уходит из конюшни, он обычно просто не возвращается ни на следующее утро, никогда вообще. Они втихаря уходят на какую-нибудь другую конюшню, и первые известия, которые получает о них старый хозяин, – это запрос о рекомендации от нового. Заметьте, что для большей части нынешнего поколения конюхов рекомендации – вещь, которую им никогда не дают. Это ведет к спорам и дракам, а кому охота получать в морду, когда гораздо проще увернуться? Конюхи болтаются туда-сюда по британским конюшням, это как бесконечная река, полная водоворотов. И долгая работа на одном и том же месте скорее исключение, чем правило.
– Завтракать, – с ходу прорычал мне Гарольд. – Будь там.
Я кивнул. Обычно я возвращался на завтрак домой, даже если занимался проездкой во вторую смену, что я делал только в те дни, когда не было скачек, да и то не всегда. Завтрак, по мнению жены Гарольда, состоял из огромной яичницы и горы тостов, которые выставлялись на длинный кухонный стол щедро и радушно. Все это пахло и выглядело очень вкусно, и я всегда поддавался соблазну.
– Еще колбаски, Филип? – сказала жена Гарольда, щедро нагребая прямо со сковородки. – А горячей жареной картошечки?
– Женщина, ты убьешь его, – сказал Гарольд, потянувшись за маслом.
Жена Гарольда улыбнулась мне, как умела улыбаться только она. Она думала, что я чересчур худ, и считала, что мне нужна жена. Она часто говорила мне об этом. Я не соглашался с ней и в том и в другом, но, честно говоря, она была права.
– Прошлым вечером, – сказал Гарольд, – мы не говорили о наших планах на будущую неделю.
– Нет.
– В Кемптоне в среду скачет Памфлет, – сказал он. – В двухмильных скачках с препятствиями. Тишу и Шарпенер в четверг…
Некоторое время он говорил о скачках, все время энергично жуя, так что инструкции по поводу скачек он выдавал мне краем рта вперемешку с крошками.
– Понял? – сказал он наконец.
– Да.
Похоже, с работы меня, в конце концов, прямо сейчас вышибать не собирались, и я с благодарностью облегченно вздохнул.
Гарольд глянул в большую кухню, где его жена складывала посуду в посудомоечный агрегат, и сказал:
– Виктору не понравилось твое поведение.
Я не ответил.
– От жокея в первую очередь требуют верности, – сказал Гарольд.
Это была чушь. От жокея в первую очередь требуется, чтобы он отрабатывал свои деньги.
– Как скажете, мой фюрер, – промямлил я.
– Владельцы не станут держать жокеев, которые высказываются по поводу их моральных устоев.
– Тогда владельцам не надо дурить публику.
– Ты кончил есть? – резко спросил он.
– Да, – с сожалением вздохнул я.
– Тогда пошли в офис.
Он пошел впереди меня в красновато-коричневую комнату, полную холодного голубоватого утреннего света. Камин еще не топили.
– Закрой дверь, – сказал он.
Я закрыл.
– Ты должен выбрать, Филип, – сказал он. Он стоял у камина, поставив ногу на кирпич у очага. Большой мужчина в костюме для верховой езды, пахнущий лошадьми, свежим воздухом и яичницей.
Я неопределенно помалкивал.
– Виктору время от времени будет нужно проиграть скачку. И не раз, признаюсь, поскольку это и так очевидно. Но, в конце концов, придется. Он говорит, если ты действительно не хочешь этого делать, то нам придется взять кого-нибудь другого.
– Только для этих скачек?
– Не пори чуши. Ты же не дурак. Ты даже слишком умен, а это небезопасно.
Я покачал головой:
– Почему он снова хочет заняться этой дурью? Он ведь и так за последние три года много выиграл призовых денег, причем честно.
Гарольд пожал плечами:
– Не знаю. Какое это имеет значение? В субботу, когда мы ехали в Сандаун, он сказал мне, что поставил на свою лошадь и что я получу большую долю от выигрыша. Мы делали это и прежде, почему бы не сделать и снова? Все дело упирается в тебя, Филип, а ты из-за маленького мошенничества валишься в обморок, как девица.
Я не знал, что и сказать. Он заговорил прежде, чем я придумал, что ответить.
– Ладно, ты просто подумай, парень, У кого лучшие на этой конюшне лошади? У Виктора. Кто покупает хороших лошадей для того, чтобы заменить старых? Виктор. Кто вовремя оплачивает счета за тренировки? Виктор. У кого в этой конюшне больше лошадей, чему у кого-либо другого? У Виктора. И этого владельца лошадей я меньше всего хочу потерять, особенно потому, что мы были вместе более десяти лет, и потому, что он дал мне большее число победителей, чем я вышколил за последнее время, и, похоже, даст большинство из тех, которых я вышколю в будущем. И от кого, как ты думаешь, прежде всего зависит мой бизнес?
Я уставился на него. Я подумал, что до сих пор не понимал, что он, возможно, в таком же положении, что и я. Делай то, что хочет Виктор, и все.
– Я не хочу терять тебя, Филип, – сказал он. – Ты обидчивый ублюдок, но мы же ладили все эти годы. Однако успех не будет с тобой всю жизнь. Сколько ты занимаешься скачками… десять лет?
Я кивнул.
– Тогда тебе осталось три-четыре года. В лучшем случае пять. Вскоре ты не сможешь так легко отделываться от последствий падений, как сейчас. И в любое время неудачное падение может выбить тебя из колеи надолго. Потому посмотри на дело трезво, Филип. Кто мне нужен больше, ты или Виктор?
В какой-то меланхолии мы вышли во двор, где Гарольд наорал, хотя и довольно вяло, на пару бездельничавших конюхов.
– Дай мне знать, – сказал он, обернувшись ко мне.
– Ладно.
– Я хочу, чтобы ты остался.
Я был приятно удивлен.
– Спасибо, – сказал я.
Он грубовато похлопал меня по плечу – никогда он еще так откровенно не проявлял свою приязнь. И это больше, чем все крики и угрозы, заставило меня захотеть согласиться. Реакция, промелькнуло в голове у меня, старая, как мир. Чаще волю узника ломала доброта, а не пытка. Человек всегда ощетинивается против давления, но доброта подкрадывается сзади и бьет в спину, и воля твоя растворяется в слезах и благодарности. Куда труднее поставить стену против доброты. А я всегда думал, что против Гарольда мне не понадобится отгораживаться…
Инстинктивно я захотел сменить тему разговора и ухватился за ближайшую мысль – о Джордже Миллесе и его фотографиях.
– Мм, – сказал я, когда мы так вот стояли, чувствуя себя слегка неуютно. – Помнишь те пять лошадей Элджина Йаксли, которых застрелили?
– Что? – озадаченно спросил он. – А при чем тут Виктор?
– Ни при чем, – сказал я. – Я просто вчера думал об этом.
Раздражение тотчас же вытеснило мимолетные чувства, что было облегчением для нас обоих.
– Ради бога, – резко сказал он. – Я серьезно. Твоя карьера под угрозой. Можешь делать что хочешь. Можешь идти к черту. Дело твое.
Я кивнул.
Он резко повернулся и сделал два решительных шага. Затем он остановился, обернулся и сказал:
– Если тебя уж так интересуют лошади Элджина Йаксли, то почему бы тебе не спросить Кенни? – Он показал на одного из конюхов, который наливал из крана воду в два ведра. – Он ухаживал за ними.
Гарольд снова отвернулся и твердыми шагами пошел прочь, выражая каждым своим движением гнев и злость.
Я нерешительно побрел к Кенни, не зная толком, о чем его спрашивать, да и вообще не понимая, хочу ли я его расспрашивать.
Кенни был одним из тех людей, чья защита от мира была совсем другой – он был глух к добру и открыт страху. Кенни был прирожденным почти правонарушителем, с которым представители социальных служб обходились с таким, с позволения сказать, пониманием, что он спокойно мог презрительно чихать на все попытки подойти к нему по-доброму.
Он смотрел на меня с нарочито безразличным, почти наглым видом. Это был обычный его вид. Красноватая обветренная кожа, слегка слезящиеся глаза, веснушки.
– Мистер Осборн говорит, что ты работал у Барта Андерфилда, – сказал я.
– И что?
Вода перелилась через край первого ведра. Он наклонился, отодвинул его в сторону и пододвинул ногой под струю второе.
– И ты ухаживал за лошадьми Элджина Йаксли?
– Ну?
– Тебе было жаль, когда их застрелили?
Он пожал плечами:
– Допустим.
– Что сказал насчет этого мистер Андерфилд?
– Чего? – Он уставился прямо мне в лицо. – Да ничего не сказал.
– Он не сердился?
– Насколько я заметил, нет.
– А должен бы, – сказал я.
Кенни снова пожал плечами.
– Да уж по меньшей мере, – сказал я. – У него пристрелили пять лошадей, а такого ни один тренер с такой конюшней, как у него, не может себе позволить.
– Он ничего не сказал. – Второе ведро было почти полно, и Кенни завернул кран. – Похоже было, что эта потеря его не особо заботит. Хотя немного позже кое-что его вывело из себя!
– А что?
Кенни с безразличным видом взял ведра:
– Не знаю. Просто он стал прямо-таки сварливым. Некоторым владельцам лошадей это надоело, и они ушли от него.
– Ты тоже, – сказал я.
– Ага. – Он направился через двор. Вода мягко плескалась при каждом его шаге. Я пошел за ним, предусмотрительно держась на расстоянии, чтобы вода не попала на меня. – Чего же оставаться, если все идет коту под хвост?
– А лошади Йаксли были в хорошей форме, когда их отправили на ферму? – спросил я.
– Конечно. – Вид у него был слегка озадаченный. – А почему ты спрашиваешь?
– Да просто так. Тут кто-то вспомнил про этих лошадей… и мистер Осборн сказал, что ты ухаживал за ними. Мне стало интересно.
– А, – он кивнул. – В суде же был ветеринар, сам знаешь, который сказал, что лошади были в прекрасном состоянии за день до того, как их перестреляли. Он приезжал на ферму, чтобы сделать им какие-то противостолбнячные прививки, и сказал, что осмотрел их и что они были в порядке.
– А ты был на суде?
– Нет. Читал в «Спортинг лайф». – Он подошел к стойлам и поставил ведра перед одной из дверей. – Ну, все?
– Да. Спасибо, Кении.
– Знаешь, я кое-что скажу тебе… – У него был такой вид, словно он сам удивился собственной услужливости.
– Что?
– Насчет мистера Йаксли, – сказал он. – Ты можешь подумать, что он должен бы быть доволен, получив такие деньги, даже пусть и потеряв своих лошадей, но однажды он пришел на конюшню Андерфилда прямо-таки в бешенстве. Прикинь – у Андерфилда испортился характер как раз после этого. И конечно, Йаксли ушел из скачек, и мы больше его никогда не видели. По крайней мере, пока я там служил.
Я в задумчивости пошел домой. Когда я туда добрался, зазвонил телефон.
– Это Джереми Фолк, – сказал знакомый голос.
– Ой, только не снова, – запротестовал я.
– Вы прочли отчеты?
– Да. И искать ее я не собираюсь.
– Да помилосердствуйте, – сказал он.
– Нет. – Я помолчал. – Чтобы отделаться от вас, я немного вам помогу. Но искать будете вы.
– Ладно, – он вздохнул. – В чем вы мне поможете?
Я рассказал ему насчет моих выкладок по поводу возраста Аманды и также предложил ему поискать в агентствах по недвижимости данные по поводу арендаторов Пайн-Вудз-Лодж.
– Моя мать жила там предположительно тринадцать лет назад, – сказал я. – А теперь все это ваше.
– Но я же говорю вам, – он чуть не рыдал, – вы просто не можете на этом остановиться!
– Очень даже могу.
– Я приеду к вам.
– Оставьте меня в покое, – ответил я.
Я поехал в Суиндон, чтобы отдать в проявку цветные пленки, и по пути думал о Барте Андерфилде.
Я знал его, как все знают друг друга, достаточно долго пробыв в мире скачек. Мы иногда сталкивались в деревенских магазинчиках и в домах других людей, а также на ипподромах. Обменивались приветствиями и различными неопределенными замечаниями. Я никогда не выступал на его лошадях, потому что он никогда меня не просил. И думаю, не просил он потому, что недолюбливал меня.
Это был невысокий суетливый человечек, надутый от важности. Он очень любил доверительно сообщать о том, что другие, более удачливые тренеры сделали не так. «Конечно же, Уолвин не должен был скакать в Аскоте так-то и так-то, – говорил он. – На всей дистанции все было не так, это же за милю было видно». Чужаки считали его очень осведомленным человеком.
А в Ламборне его считали дураком. Однако – не настолько, чтобы отдать пять своих лучших лошадей на заклание. Все, несомненно, сочувствовали ему, особенно когда Элджин Йаксли не стал тратить свои страховые деньги на покупку новых равноценных животных, а просто уехал, оставив Барта в дерьме.
Насколько я помнил, эти лошади были, несомненно, хорошими и всегда заслуживали лучшего содержания. Их можно было продать за хорошие деньги. Они были застрахованы, конечно, выше их рыночной цены, но не слишком, если принять во внимание призы, которые они выиграли бы, останься в живых. Совершенно ясно, что убивать их было невыгодно, что в конце концов и принудило страховщиков заплатить.
И никакой связи между Йаксли и Теренсом О’Три.
В Суиндоне мои знакомые из фотолаборатории сказали, что мне повезло, потому что они как раз собирались обработать пачку пленок, и если я немного подожду, то через пару часов получу свои негативы. Я кое-что купил, в назначенное время забрал проявленные пленки и пошел домой.
В полдень я распечатал цветные версии снимков миссис Миллес и отослал их вместе с черно-белыми в полицию. Вечером я все старался – и неудачно – не думать об Аманде, Викторе Бриггзе и Джордже Миллесе, но мои мысли, как ни неприятно, все время кружили вокруг них.
Хуже всего был ультиматум Виктора Бриггза и Гарольда. Жизнь жокея во всех отношениях удовлетворяла меня – физически, духовно и финансово. Я годами гнал мысль о том, что однажды мне придется делать что-нибудь другое: это «однажды» всегда было где-то в туманном будущем и не стояло прямо передо мной.
Единственное, что я знал, кроме лошадей, была фотография, но ведь фотографов везде полным-полно… все снимают, в каждой семье есть фотоаппарат, весь западный мир прямо-таки заполонили фотографы… и, чтобы зарабатывать себе этим на жизнь, надо быть исключительно хорошим фотографом.
Да и вкалывать надо дай боже. Фотографы, с которыми я познакомился на скачках, всегда бегали туда-сюда: то неслись от старта к последнему препятствию, а оттуда к паддоку, прежде чем туда доберется победитель, и затем снова тем же курсом уже на следующий заезд, и так по меньшей мере шесть раз на дню пять-шесть раз в неделю. Некоторые из своих снимков они отправляли в агентства новостей, которые могли предложить их газетам, другие отсылали в журналы, а некоторые подсовывали владельцам лошадей или спонсорам скачек.
Если ты фотограф на скачках, то снимки к тебе сами в руки не придут, ты за ними побегаешь. И когда ты их добудешь, то покупатели не будут толпиться у твоих дверей, тебе еще придется их продавать. Это очень отличалось от жизни Данкена и Чарли, которые в основном снимали натюрморты, всякие кастрюли и сковородки, часы и садовую мебель для рекламы.
На скачках было очень мало фотографов, имеющих постоянную работу. Наверное, меньше десятка. Из них незаурядных человека четыре, и одним из этих четырех был Джордж Миллес.
Если бы я попытался присоединиться к ним, никто не стал бы мне мешать, но и помогать тоже. Я был бы предоставлен сам себе и либо выстоял бы, либо проиграл.
Я подумал, что беготня за кадрами меня не беспокоит, а вот продать… это пугало. Даже если я и считал свои снимки хорошими, протолкнуть их я бы не смог.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/dik-frensis/refleks-zmei-67780247/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Плотная хлопчатобумажная декоративная ткань.
2
Стон – старинная английская мера, равная 6,4 кг.
3
Имеется в виду царствование короля Эдуарда VII (1901–1910).
4
Стиль архитектуры конца XVIII – начала XIX в.
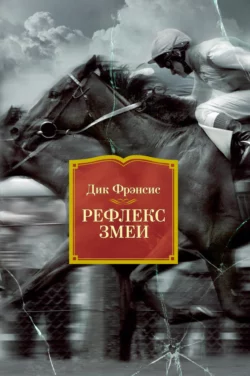
Дик Фрэнсис
Тип: электронная книга
Жанр: Современные детективы
Язык: на русском языке
Издательство: Азбука-Аттикус
Дата публикации: 13.09.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Дик Фрэнсис (1920–2010) – один из самых именитых английских авторов, писавших в жанре детектива. За свою жизнь он создал более 30 бестселлеров, получивших международное признание. Его романы посвящены преимущественно миру скачек – Фрэнсис знал его не понаслышке, ведь он родился в семье жокея и сам был знаменитым жокеем. Этот мир полон азарта, здесь кипят нешуточные страсти вокруг великолепных лошадей и крупных ставок в тотализаторах, здесь есть чем поживиться мошенникам. Все это и послужило материалом для увлекательных романов, ставших бестселлерами во многих странах мира.