Сердце искателя приключений
Эрнст Юнгер
Книга выдающегося немецкого мыслителя Эрнста Юнгера (1895–1998) представляет собой сборник эссе-скетчей эпохи Веймарской республики, балансирующих на грани фиктивного дневника и политического манифеста. Одинокое и отважное сердце искателя приключений живет среди катастроф, где гибнут старые ценности и иерархии бюргерского мира. «Пылающие огнем сновидческие пейзажи» Первой мировой войны приоткрыли для автора завесу, за которой скрывался демонический мир, непроницаемый для дневного света разума, и вот сновидение, где грезится удивительное и волшебное, становится у Юнгера парадигмой для толкования опыта действительности. Состояние современной цивилизации – это запутанный сон. Загадочные образы монотонного движения техники, символика смерти, вторжение в бюргерский мир разрушительных демонических сил – вся эта «ночная сторона» жизни, детально выписанная в «Сердце искателя приключений», находится в глубокой связи не только с опытом войны, но и с жизнью большого города.
Второе издание дополнено переводом эссе Юнгера «Сицилийское письмо лунному человеку» и новым послесловием переводчика.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Эрнст Юнгер
Сердце искателя приключений
Das Abenteuerliche Herz. Zweite Fassung. Figuren und Capriccios
Sizilischer Brief an den Mann im Mond
© Klett-Cotta – 1930, 1938, 1979 J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart
© А. Михайловский, перевод и послесловие, 2019
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2021
* * *
Сицилийское письмо лунному человеку
Ernst J?nger
Sizilischer Brief
an den Mann im Mond
(S?mtliche Werke. Bd. 9. S. 11–22.
Впервые напечатано в 1930 году)
1
Приветствую тебя, маг и друг волшебников, друг одиноких, друг героев, друг влюбленных, друг добрых и злых, хранитель ночных тайн! Скажи мне, ведь если есть кто-то посвященный, значит, есть нечто большее, чем возможно знать?
Я хорошо помню тот час, когда твой лик, большой, внушающий ужас, появился в окне. Твой свет проник в комнату как призрачный меч, от прикосновения которого всякое движение замирает. Восходя над широко раскинувшимися каменными обителями, ты видишь нас спящих, плотно прижавшихся друг к другу, с бледными лицами, как те несчетные белые личинки, что покоятся в дальних ходах муравейника, пока ветер гуляет в бескрайнем еловом лесу. Мы должны представляться тебе обитателями морской бездны, фауной океанских глубин, а может быть, и вовсе какими-то невиданными существами.
Моя небольшая комната тоже как будто лежит на дне моря, я сижу на кровати, объятый одиночеством, нарушить которое не под силу ни одному человеку. В этом странном свете обычные предметы подобны безмолвным и бездвижным моллюскам, прикрытым завесой водорослей. С ними произошло какое-то загадочное превращение, и, может быть, за этой маской они скрывают тайну жизни и смерти? Кому не знакомы эти минуты неопределенного ожидания, когда мы чувствуем поблизости присутствие неизведанного и чутко прислушиваемся в надежде уловить его голос. Тогда в каждом шорохе нам начинает чудиться нечто таинственное. В потрескивании перекрытий, в легком звоне бокала, которого коснулась невидимая рука, как будто само пространство заряжено напряжением некоего существа, жаждущего смысла, ловящего неясные сигналы.
Язык научил нас крайне презрительно относиться к вещам. Громкие слова подобны сетке координат на географической карте, но разве горсть земли не больше всей мировой картографии? В былые времена именование безымянного являлось жизненной необходимостью. На обветшалых оградах или придорожных столбах начертаны знаки, которых не замечают идущие мимо горожане. Но бездомный бродяга умеет читать их, они служат ему ключом к тайнам этой местности со всеми ее опасностями и укромными местами.
Ребенок тоже такой бродяга, ведь он только недавно вышел из темных ворот, оставив за спиной нашу вневременную родину. Оттого-то он еще способен понимать рунический язык вещей, который говорит о глубоком родстве бытия.
2
В те дни я боялся тебя, боялся твоего недоброго магнетизма и верил, что стоит раз прямо взглянуть на твой мерцающий светозарный лик, как, лишившись привычного земного притяжения, я тут же окажусь втянутым в пустоту космического пространства. Порой мне снилось, будто, оставив всякую осторожность, я в белой ночной сорочке до пят уносился как безвольная щепка по волнам яростного потока, возносясь над ландшафтом, в глубине которого прятались ночные леса, а крыши деревень, дворцов и церквей отливали черным серебром. Вся местность как будто обращалась к моей душе на угрожающем языке какой-то неведомой геометрии.
Во время этих полетов во сне тело мое деревенело, большие пальцы ног загибались к ступням, кулаки сжимались, а голова откидывалась назад. Я не испытывал страха: мною владело чувство безмерного одиночества в пустынном мире, которым правят таинственные молчаливые силы.
3
Потом этот образ сменился огнями северного сияния, первые всполохи которого заставляют горячие и гордые сердца биться чаще. Порой приходится стыдиться безумия своих экстазов, затем понимаешь их важность. Ведь нет сил отказаться от восторга познания, от ощущения того, что за каждым триумфом жизни скрывается абсолютное, что просвещение глубже любого просвещения, ибо в нем скрыта как искра вечного света, так и тень вечного мрака.
Свет мешается с тьмой! Устыдится ли храброе сердце этого рывка в бесконечность? Одиночества солдата в осадных траншеях, измеряемого миллиметрами и секундами? Вылазки за нейтральную полосу, где с математической точностью выстроена неприступная линия обороны с постами часовых и поблескивающими дулами пулеметов и фантастических орудий?
Мысль сознательно замирает на границе, где числа становятся символами, кружит возле обоих полюсов бесконечного, возле атома и звезды, и собирает военные трофеи на бесконечном поле возможностей. Неужели ни разу не случалось ученику чародея, заглянув в хищный искусственный глаз телескопа, испытать восторг при виде вращения зубчатых колес вселенной, которые и не снились ни одному психологу?
Здесь возникает опасность, но тот, кто любит опасность, любит и опасные ответы. И чем острее вопрос, тем острее будет ответ. Свет более заметен ночью, нежели днем. Кто почувствовал вкус сомнения, тот обречен на то, чтобы отправиться на поиски удивительного не по эту, а по ту сторону ясности. Кто хоть раз усомнился, тот должен сомневаться сильнее, если не хочет отчаяться. Что ты разглядел в бесконечном, некое число или некий знак? Этого вопроса достаточно, чтобы в ответе на него обнаружился тот или иной склад ума. Но каждый должен занять свою позицию, чтобы в принципе суметь дать ответ. Счастлив тот простак, что не знает запутанных тропинок сомнения, но какое же это упоение идти по самому краю бездны!
Тем не менее в какой-то момент я не удивился, узнав, что черты лунного человека были сложены игрой светотени равнин и кратеров, пыльных морей и потоками застывшей лавы. Я вспоминаю странное признание Свидригайлова, когда он высказывает подозрение, что вечность – это всего одна пустая комнатка с белыми стенами, и по всем углам черные пауки. Ты туда входишь, и вот и вся вечность.
Да, а почему бы и нет? Мы дышим и не замечаем воздуха. Так и тот не замечает потустороннего, потому что для него и так вся жизнь – сплошь привидения.
Значит, нам нужна новая топография.
4
Коловорот мыслит иначе, чем клещи, захватывающие последовательно то одну точку, то другую. Сверло рассверливает материал вращательным движением, но в каждой из множества точек, которые проходит спираль, острию сверла придается усилие и направление[1 - «У винта путь прямой и кривой». Гераклит. Фрагмент 59, Diels-Kranz. – Здесь и ниже – примечания переводчика.]. Это отношение между случайным и необходимым, которые не только не исключают друг друга, но взаимно обусловлены, в равной степени присуще понятиям и образам того языка, который претендует на предельную возможность понимания. Каждое слово в нем поворачивается на своей бессловесной оси. Это язык моей мечты, он должен быть предельно ясным и в то же время темным, как выражение некоего высшего одиночества, ведь только так человек делается способным к высшей любви. Существуют кристаллы, способные преломлять свет только в одном направлении.
Но разве ты сам не мастер искусно загадывать загадки? Загадки, где сообщению подлежит только сам вопрос, а не его решение. Так охотник умело расставляет силки, но не в силах загнать в них дичь. Стало быть, важно увидеть не решение, а саму загадку.
5
Ты наблюдал за людской жизнью в местах, где темный лес уступает место садам, где разноцветные лампионы бросают вкруг себя мягкие лучи света, где слышна волшебная музыка. Ты видел влюбленные пары, молча удаляющиеся в темноте; твой свет ложился на их лица, похожие на бледные маски, тогда как от вожделения у них перехватывало дыхание, а тела сковывал страх. Ты видел пьяницу, бредущего напролом через заросли кустарника.
Твой крупный диск поднимался над тростниковой крышей дома возле реки в ту июньскую ночь, когда один из твоих учеников заключил с тобою тесный союз. На утрамбованном полу гумна стоял празднично накрытый стол. Оружие и доспехи висели на стенах, убранных еловыми ветвями, поблескивая в табачном дыму. Где та юность, что вскоре так беспечно сломала печать смертной тайны и узнала заранее уготованные для нее тяжкие испытания? Она была здесь, она здесь осталась. Помнишь первое опьянение, что заставляет сердце биться, как парус под ветром? Помнишь первое погружение в бездну, на дне которой природные духи излучают первозданную мощь? Тогда ты его полюбил. Разве можно не любить цветок, что расцвел, скрытый от глаз в полной глуши? Помнишь час переполняющего избытка, когда мы вырываемся на простор, покидая проторенные пути привычного? Только так учатся летать, и лишь в сомнении заложена высшая цель.
Я вижу его так, как будто это происходит сейчас, ведь память неподвластна неумолимым законам времен. В тот миг, когда огонь вина испепеляет годовые кольца, образовавшиеся вокруг этого диковинного сердца, мы понимаем, что в сути не изменились. О память, ключ к сокровенному гештальту человеческого опыта! Я убежден, что ты сродни темному, горькому, пьянящему вину смерти как последний решающий триумф бытия над существованием. Привет вам, горемычные гуляки! Пейте до дна за свое здоровье! Кто мы такие, как не свои собственные зеркальные отражения? А там, где мы сидим вдвоем – я и мой зеркальный двойник, всегда есть третий – Бог.
И вот твой подопечный, вырвавшись из безумного шума, замирает перед приземистыми воротами, над которыми в ночном свете поблескивает белый лошадиный череп. Теплый воздух, напоенный ароматами трав, действует на него как наркотический дымок горящего пороха. Раздается дикий крик, и он сломя голову мчится по безлюдным просторам. Он бежит по верху каменной ограды, опоясывающей луг, и падает, не чувствуя боли, в высокую траву. А затем продолжает бежать, испытывая прилив сил, бьющих из какого-то невидимого источника. Зонтики высокого борщевика кажутся антеннами пришельцев, горячее брожение земных соков, горьковатый запах дикой моркови и крапчатого болиголова – все это похоже на страницы открытой волшебной книги, повествующей о глубинных таинственных соответствиях. Нет более никаких мыслей, только свой ства бессознательно перетекают друг в друга. В этом царстве ликующей жизни еще нет имен.
Он шагнул в заросли камыша на берегу реки, с илистого дна поднялись пузырьки воздуха. Вода будто руками охватила разгоряченную грудь, и отражение лица поплыло вниз по темному зеркалу воды. Вдали раздался шум запруды и обольстил слух, чуткий к первозданному языку. С темного дна поднялись на поверхность отражения звезд. Там, где река искрилась в водоворотах, они начали свой танец.
На другом берегу простирается лес, из его чащи тянутся сотни рук, стремясь поймать и затащить к себе беззащитную жизнь. Корни нитяными завитками уходят глубоко в землю, ветви сплетаются в паучью паутину, и кажется, что в ней бьются изменчивые личины неизвестных существ. Над головой недружелюбно смыкается решетка из ветвей деревьев, наполненных слепой природной мощью, в то время как у корней жизнь мешается со смертью во влажном испарении гнилостного распада.
Внезапно открывается просека, и тогда твой свет с карающей неотвратимостью разрезает тьму. Буковые стволы отливают серебром, кора дуба вызывает в памяти потемневшую бронзу древних мечей. Кроны деревьев выстроены в соответствии с принципами архитектуры. Каждая веточка, каждый кустик ежевики несут на себе отблеск твоего света, который сообщает им неуловимое тайное значение. Они как будто заворожены каким-то великим событием, перед лицом которого все становится исполненным смысла, а случайность оборачивается строгой необходимостью. Как часть математического уравнения, записанного люминесцентными чернилами.
Поистине удивительна простота линий утраченной родины, незаметно вписанных в сложный окружающий ландшафт! Отрадный символ, вписанный в еще более глубокий символ.
6
Что еще придает смысл существованию, как не этот загадочный луч света, изредка озаряющий внутреннее запустение? И человек желает говорить – пусть несовершенной будет его речь – о том, что превышает человеческое в нем.
Для нашего времени характерны усилия наладить контакт с далекими планетами. Не только сама задача, но и технические методы ее решения представляют собой странную смесь трезвого расчета и игры воображения. Разве не удивительно желание при помощи навигационных огней прочертить в небе над Сахарой графическое изображение теоремы Пифагора? Казалось бы, какое нам дело до того, является ли математика универсальным языком вселенной или нет? Но нет, в этом желании мы слышим забытый язык пирамид, намек на священный исток искусства, отзвук торжественного знания творения о своем потаенном смысле, причем в сочетании со всеми атрибутами абстрактного мышления и элементами современной техники.
Достигнут ли наши радиосигналы, посланные в ледяные просторы космоса, адресата? Сумеет ли он понять язык земных гор и рек, преобразованный в волновую пульсацию? На какой язык будет переведено наше послание?
Эти странные тибетцы, из чьих высокогорных монастырей-обсерваторий звучат монотонные мантры! У кого хватит смелости поднять на смех молельные мельницы после наших пейзажей с миллионами вращающихся колес? Бешеное беспокойство заставляет двигаться стрелки часов и пропеллеры аэропланов. Сладкий и опасный опиум скорости!
Но разве в центре подвижного колеса не скрыт покой? Покой – это праязык скорости. Прибегая к разным способам перевода, мы можем увеличить скорость, но это будет лишь переводом с языка покоя. Но в силах ли человек познать собственный язык?
С небес ты взираешь на наши города. Ты помнишь города прошлого и увидишь будущие мегаполисы. Каждый дом построен согласно замыслу строителя, чтобы служить целям владельца. Одни улицы узки и изогнуты, как будто случайно нанесены на карту города, подобно межам крестьянских полей, прочерченным когда-то давным-давно. Другие улицы проложены прямо, и на них стоят особняки влиятельных горожан. Окаменелости минувших эпох наслаиваются друг на друга. Геология человеческой души – отдельная отрасль научного знания. Церкви и правительственные здания, виллы, доходные дома, базары и концертные залы, железнодорожные вокзалы, промышленные кварталы – все включено в круг кровообращения. Транспорт жизненно необходим, одиночество – редчайшее исключение.
Со столь отдаленной точки зрения гигантские хранилища наших органических и механических мощностей могут представляться и совершенно иначе. Даже глаз наблюдателя, вооруженный самым мощным телескопом, без труда уловит некоторые странные особенности городского ландшафта. И хотя удаленный наблюдатель будет созерцать те же самые вещи, однако они повернутся к нему другой своей стороной. Все различия архитектурных эпох окажутся как бы стертыми. Нельзя будет увидеть, что соборы и рыцарские замки были построены тысячу лет назад, а универмаги и фабрики – только вчера; зато станет заметна лежащая в их основе модель, их общая кристаллическая структура, образовавшаяся из первоначального материала. От наблюдателя будет сокрыто и множество целей, которые преследовали заказчики и строители. Двое горожан – два замкнутых в себе мира – идут по одной улице, но расстояние между ними вполне может быть соизмеримо с расстоянием между южным и северным полюсами Земли. Для тебя, космического наблюдателя, привязанного к Земле, наши события представляются неподвижными одинокими жизненными феноменами, не важно где зародившимися – в вулканической пыли или в испарениях летучих химических элементов. Какая возвышенная драма, век за веком наблюдать проявление все новых форм, заполняющих однообразно враждебные бесконечные пространства Земли. В этом мне видится исконное глубинное и сочувственное единство жизни, которое вбирает в себя и благотворные, и враждебные влияния.
Нам, нижним жителям, редко удается понять просвечивающий в целях смысл. И все-таки нам следует сосредоточиться на упражнениях по развитию стереоскопического зрения, которое позволит увидеть вещи в их скрытой, близкой к центру покоя телесности. Необходимость – это особое измерение. Мы привыкли жить по ее законам, при этом чувствуя присутствие необходимости лишь в значительных событиях жизни. Нас окружают тайные знаки, аллегории, ключи от неизвестных дверей. Имея постоянно перед глазами этот неявный мир, мы подобны слепцу, который хоть и потерял зрение, но все же не утратил способность воспринимать источник света как теплоту.
Разве дело не обстоит так, что в каждый момент видимый нами слепец движется в свете, в то время как сам он окружен непроницаемой темнотой? Нам редко удается распознать собственный образ в подобных зеркалах вневременного свойства. Даже наш язык остается для нас неясным в своем значении, язык, каждый слог которого одновременно и преходящ, и вечен. Символы – знаки того, что нам все же дано сознание нашей собственной ценности. Выступая из сокрытого, они являются проекциями форм, благодаря которым мы словно зажигаем прожектор и посылаем по световому лучу сигнал в неизвестность на языке, внятном богам. Таким образом, таинственная связь событий, цепь усилий, составляющих ядро нашей истории, истории непрекращающейся войны людей и богов, оказывается единственным, что достойно изучения.
7
Сравнительный метод, позволяющий созерцать вещи в соответствии с их положением в необходимом пространстве, – это самая замечательная охранная грамота, которая у нас есть. В основе его лежит стремление к выражению существенного, а в кронах светится сама сущность.
Это вид высшей тригонометрии, которая занята вычислением скрытых от взора неподвижных звезд.
8
Ранним утром я поднялся на отроги Монте-Галло. Красная земля садов была еще подернута дымкой тумана, а под лимонными деревьями распускались красные и желтые соцветия весенних сарацинов, складывающихся в узор восточного ковра. Там, где последние листья опунции выглядывали поверх кирпичной стены, начинались горные луга, а за ними высились скалы, поросшие многолетним молочаем. Тропа вела дальше, в узкое ущелье среди голых скал.
Не знаю, как описать пережитое, но вдруг меня осенило, что эта долина настойчиво обращается к путнику на своем языке камней, как будто сам ландшафт сознательно сложился здесь для важного сообщения, как если бы в нем присутствовала какая-то скрытая сила. Всем великим умам это открывалось в той или иной степени, и все же редко бывают мгновения, когда человек, познав одушевленную жизнь природы, сталкивается с предельно ясным телесным выражением этой жизни. И вообще я думаю, что они вновь стали возможны совсем недавно. Именно такое мгновение я пережил в тот час – я почувствовал, как глаза этой долины остановились на мне. Иными словами, я отчетливо понял, что у этой долины был свой демон.
Именно теперь, в опьянении от этого открытия, мой взгляд упал на твой уже бледный диск, висевший над гребнем гор и видимый, пожалуй, лишь из глубины долины. И тут во мне вновь внезапно пробудился образ человека на Луне. Конечно, лунный пейзаж с его скалами и впадинами – сфера компетенции астрономической топографии. Однако не менее очевидно и то, что его можно постичь средствами магической тригонометрии, о которой шла речь. Постичь то, что он в то же время является областью духов, а фантазии с ее проницательным детским взглядом, рисовавшей на луне лицо человека, доступны древние руны и демонический язык. В это мгновение я был потрясен, увидев, как обе маски одного и того же бытия нераздельно слились друг с другом. Ибо впервые исчез мучительный разлом, считавшийся мною – правнуком идеалистического, внуком романтического и сыном материалистического поколения – неустранимым. И произошло это не так, как если бы некое «или – или» просто сменилось на «и так, и так». Нет, действительное столь же волшебно, как и волшебство действительно.
Я увидел нечто удивительное и пришел в восторг. Похожее чувство возникает при взгляде на двойные фигуры в стереоскопе: в тот самый момент, когда они сливаются в один образ, из глубины рождается новое, третье измерение.
Так и произошло: само время отдало нас во власть старым заклинаниям, давно забытым, но никуда не исчезавшим. Мы чувствуем, как великие дела исподволь наполняются смыслом, и мы все участвуем в них как зачарованные.
Сердце искателя приключений
Вторая редакция
Фигуры и каприччо
Семя всего, что есть в моем уме,
я нахожу везде.
Гаман
Стало быть, все это существует.
Сердце искателя приключений.
Первая редакция
Тигровая лилия
Штеглиц
Lilium tigrinum. Сильно выгнутые лепестки воскового красного цвета с нежными светящимися вкраплениями множества овальных иссиня-черных пятен. Расположение пятен указывает на постепенное угасание живой, порождающей их силы. На кончиках лепестков они совершенно отсутствуют, в то время как у дна чашечки выделены столь отчетливо, что возвышаются на мясистых наростах как на ходулях. Тычинки наркотического цвета, каким бывает темный красно-коричневый бархат, растертый в пудру.
Это зрелище напоминает шатер индийского факира: внутри звучит тихая, приготовляющая музыка.
Летучие рыбы
Штеглиц
Без всякой цели, ради одного удовольствия я обеими руками ловил в аквариуме маленьких, но очень юрких перламутрово-голубых рыбок. Когда ускользнуть было некуда, они поднимались над гладью воды и, двигая своими крошечными плавничками как крыльями, грациозно зависали среди комнаты. Описав в воздухе множество кривых, они снова ныряли в воду. Одна среда сменялась другой, и в этом чередовании было что-то чрезвычайно радостное.
Полеты во сне
Штралау
Полеты во сне чем-то похожи на воспоминание об особой духовной силе. Собственно, я имею в виду, скорее, парение во сне, когда сохраняется ощущение тяжести. В сумерках мы скользим над самой поверхностью земли, и, как только ее касаемся, сон исчезает. Мы парим над ступенями лестницы, вылетая из дверей дома, и время от времени поднимаемся над небольшими препятствиями, вроде кустарника или изгороди. При этом мы отталкиваемся, совершая небольшое усилие, которое ощущается в напряженных локтях и сжатых кулаках. Половина тела вытянута, как будто мы удобно расположились в кресле; мы летим ногами вперед. Эти сны приятны, но бывают и другие, коварные, когда сновидец в застывшей позе летит, повернувшись лицом к земле. Словно в столбняке он поднимается с кровати, причем ноги его остаются неподвижными, а тело как бы описывает круг. Затем он летит по ночным улицам и площадям, а иногда, как рыба, выныривает перед одинокими прохожими, пристально смотря в их изумленные лица.
Каким беззаботным кажется, по сравнению с этим, тот высокий полет, который можно видеть на старых изображениях парящих людей. Немало таких изображений можно найти в Помпеях. Здесь люди кружатся в радостном удивительном вихре, который чудесным образом совсем не колышет их волосы и одежды.
Каменистое русло
Гослар
Свои книги потому так неохотно берешь в руки, что перед ними ощущаешь себя фальшивомонетчиком. Ты побывал в пещере Али-Бабы и вынес на свет лишь жалкую пригоршню серебра. И еще тебе кажется, будто возвращаешься к тому, что давно уже сбросил с себя, как змея сбрасывает свою поблекшую кожу.
То же самое происходит со мной и при виде этих заметок, в которые я не заглядывал почти десять лет. Я слышал, что они с поразительным постоянством находят каждые три месяца по пятнадцать новых читателей. Такая притягательность чем-то напоминает цветок silene nocti?ora[2 - Смолёвка ночецветная (лат.).], чашечка которого раскрывается только один-единственный раз ночью и собирает вокруг себя крошечный рой крылатых гостей.
И все же для автора повторное открытие уже завершенного имеет особую ценность – дается редкостная возможность увидеть язык глазами скульптора и работать над ним как над статуей, извлекая его из куска материи. Именно так я надеюсь еще более четко выписать то, что, должно быть, захватило читателя. Сначала нужно безбоязненно вычеркивать лишнее, а потом пополнять текст из запасов. И еще стоит добавить несколько запретных фрагментов, которые тогда были отложены впрок, – ведь в том, что касается приправ, набиваешь руку лишь со временем.
Наглядным примером этого многообразия служат для меня высохшие русла ручьев, которые нередко встречаются путникам в Альпах. В этих ложбинах мы находим грубые камни, отшлифованную гальку, блестящие осколки и песок – пестрые фрагменты горной породы, осенью или весной вынесенные горным потоком на равнину с вершин. Иногда мы берем в руку какой-нибудь камень и вертим его перед глазами: может быть, это горный хрусталь, может быть, расколотая раковина улитки с удивительным завитком спирали, а может, это кусочек бледного сталактита из таинственных пещер, где беззвучно кружатся летучие мыши. Вот родина каприччо, ночных шуток – тихое, но небезопасное наслаждение для нашего ума, уединившегося в своей театральной ложе. Однако попадаются и куски гранита, отшлифованные в жерновах ледников, где мир, как на выгравированных картах, кажется немного меньше, но зато более ясным и стройным, ибо высший порядок кроется в многообразии мира, как в картинке-перевертыше. Удивительные головоломки – по мере удаления от них мы приближаемся к разгадке.
Итак, в материале недостатка нет, и все же язык должен что-то добавить к нему. Своими заклинаниями он должен призвать воду, которая будет играя журчать над камнями – поток стремительный и прозрачный.
О кристаллографии
Юберлинген
Мне кажется, что за последние годы я кое-чему научился, овладев в языке приемом, который позволяет высветить слово и сделать его прозрачным. Именно он лучше всего годится для того, чтобы устранить некий разлад, нередко овладевающий нами, – разлад между поверхностью и глубиной жизни. Иногда нам мнится, будто суть глубины в том, чтобы порождать поверхность, раскрашенную в цвета радуги кожу мира, распаляющую наш взор. Но тогда этот пестрый узор опять-таки оборачивается покрывалом из знаков и букв, сквозь которое глубина повествует нам о своих тайнах. Живем ли мы снаружи, или внутри – нас неизменно пронзает боль, как если бы мы всякий раз отворачивались от великолепных сокровищ. Нас охватывает беспокойство – как во время суровых наслаждений одиночества, так и за праздничным столом, уставленным всеми яствами мира.
Итак, прозрачность позволяет нашему взору видеть глубину и поверхность одновременно. Прозрачностью обладает кристалл, каковой можно назвать некой сущностью, способной образовывать внутреннюю поверхность и в то же время обращать свою глубину вовне. Здесь мне хотелось бы высказать предположение: не создан ли вообще весь мир, вплоть до мельчайших деталей, по типу кристаллов, но так, что наш взор лишь изредка способен их различать? На это указывают таинственные знаки: каждый человек, пожалуй, хотя бы раз испытывал, как в какой-то важный момент просветляются все люди и вещи, как вдруг начинает кружиться голова и охватывает трепет. Такое происходит в присутствии смерти, хотя вообще всякая весомая сила, например красота, производит такое действие, в особенности же оно свойственно истине. Возьмем любой пример: постижение перворастения есть не что иное, как восприятие подлинно кристаллического характера в благоприятный момент. Подобно этому в разговоре о вещах, затрагивающих наше существо, голоса становятся прозрачными: мы понимаем нашего собеседника помимо слов, в другом, решающем смысле. Кроме того, мы можем догадываться о тех случаях, когда подобного рода взгляд не вызван необычным состоянием просветления, но соответствует пышному цветению жизни.
Что же касается специфического употребления этого слова, то оно связано с тем, что язык тоже имеет глубину и поверхность. Мы используем множество оборотов, которые обладают как очевидным, так и скрытым значением, и то, что в мире зримого – прозрачность, в языке – таинственное созвучие. В фигурах речи, прежде всего в сравнении, есть то, что способно преодолеть иллюзию противоположностей. Но без сноровки не обойтись – если в первом случае, желая увидеть красоту низших животных, используют отшлифованное стекло, то во втором нужно смело насаживать червя на крючок, если желаешь выловить какое-то удивительное существо, обитающее в темных водах. Как бы то ни было, вещи не должны являться автору по одиночке, возникая по воле случая, ведь ему дано слово, чтобы говорить о всеедином.
Фиолетовый эндивий
Штеглиц
Я зашел в роскошную деликатесную лавку: меня привлек выставленный на витрине эндивий, совершенно особенная разновидность фиолетового цвета. Я нисколько не был удивлен, когда продавец объяснил мне, что единственный сорт мяса, к которому подходит гарнир из эндивия, – человечина. Об этом я и сам смутно догадывался.
Завязался обстоятельный разговор о способах приготовления, а затем мы спустились в погреб, где люди были развешаны по стенам, словно зайцы в лавке торговца дичью. Продавец особо подчеркнул, что передо мной туши людей, забитых исключительно на охоте, а не просто откормленных на ферме: «Конечно, не такие жирные, но зато – поверьте! – гораздо ароматнее». Руки, ноги и головы лежали в отдельных мисках, возле которых были маленькие ярлычки с ценами.
Когда мы поднимались по лестнице, я заметил: «Не знал, что цивилизация в этом городе шагнула так далеко вперед». Продавец на мгновение насторожился, но потом любезно улыбнулся в ответ.
В квартале слепых
Юберлинген
Всю ночь я провел в квартале развлечений какого-то большого города, не ведая, в какой стране света я нахожусь. Что-то напоминало мне марокканские базары, а что-то – ярмарки, какие не редкость в предместьях Берлина. Под утро я забрел в закоулок, где еще не бывал, хотя жизнь там кипела ключом. Здесь были разбиты шатры, и перед каждым было выставлено напоказ по десять-двадцать танцовщиц. Я видел, как некоторые прохожие выбирали себе пару и входили в палатку для танцев. Я решил присоединиться к ним, хотя девушки не понравились мне своей неряшливой одеждой и одинаковыми невыразительными лицами. Впрочем, стоило к ним прикоснуться, как они сразу же оживали. Мне не понравилось и в шатре: музыка была слишком громкой, цвета – слишком пестрыми. Шатер производил загадочное впечатление, и, когда мой взгляд скользнул по ковру, на котором мы танцевали, я нашел отгадку. Ковер расцвечивали круглые орнаменты, не вытканные, а как бы нанесенные тонкими пробковыми кружочками на лишенную ворса материю. Я тут же понял, что благодаря этой незаметной уловке девушки, танцуя, не покидали пределов ковра. Все танцовщицы были слепыми.
Выйдя из шатра, я почувствовал голод. Прямо напротив находилась закусочная, где меня принял хозяин в рубашке с засученными рукавами. Когда я заказал завтрак, он подозвал к моему столику юношу, который должен был развлечь меня беседой, и ушел готовить кофе с булочками. Только сейчас я понял, что попал в квартал слепых, ибо мой собеседник тоже не видел солнечного света. Хозяин держал его в качестве некой философской приманки, чтобы завлекать к себе посетителей. Ему могли предлагать любую тему, о которой он из-за своей слепоты обнаруживал неожиданное и непривычное мнение. А поскольку он был лишен зрения, то его рассуждения сообщали посетителям приятное чувство собственного превосходства, которое они к тому же пытались сделать еще сильнее, вынуждая его говорить об учении о свете или чем-то подобном.
Теперь я вспомнил, что эта пивнушка славилась как любимое кафе берлинских метафизиков. Судьба молодого человека из этого заведения вызвала у меня жалость, усиливавшуюся по мере того, как я замечал, что он и в самом деле высказывал глубокие и смелые мысли, которым недоставало лишь немного эмпирии. Желая его ободрить, я стал размышлять на тему, в которой каждый из нас – как слепой, так и зрячий – мог почувствовать свое превосходство, ибо мне не хотелось унизить его ни поражением, ни легкой победой. Так в продолжение завтрака мы вели великолепную беседу «О непредвиденном».
Ужас
Берлин
Бывают тонкие, но широкие листы жести, с помощью которых в небольших театрах обычно имитируют гром. Я представляю себе множество таких листов жести, еще более тонких и гулких, но не сложенных стопкой, как страницы книги, а закрепленных на расстоянии друг от друга.
Я поднимаю тебя на верхний лист этой мощной конструкции, и под тяжестью твоего тела он с лязгом разрывается на две части. Ты падаешь и оказываешься на втором листе, который разлетается с еще большим грохотом. Ты продолжаешь падать – на третий, четвертый, пятый лист, и чем сильнее становится падение, тем быстрее следуют друг за другом удары, их стремительный темп похож на барабанную дробь. Падение и барабанная дробь набирают бешеный темп, превращаясь в мощные раскаты грома, которые в конце концов взрывают границы сознания.
Обычно так выглядит ужас (Entsetzen), парализующий человека, – ужас, который нельзя назвать ни трепетом (Grauen), ни страхом (Angst), ни боязнью (Furcht). Скорее, он чем-то близок к онемению (Grausen), испытываемому при виде лица Горгоны с распущенными волосами и искаженным в безмолвном крике ртом. Трепет (Grauen) испытывают не столько при виде, сколько в предчувствии чего-то зловещего, но именно поэтому он крепче сковывает человека. Боязнь (Furcht) далека от последнего предела и может вполне соседствовать с надеждой, а испуг (Schreck) – это как раз то, что испытывают, когда рвется верхний лист. Но потом, в смертельном падении, грохот литавр усиливается, разгораются зловещие огни – уже не как предостережение, но как подтверждение самого страшного, что как раз и вызывает ужас.
Догадываешься ли ты о том, что происходит в этом падении, которое, быть может, нам придется однажды совершить, в падении, которое отделяет момент, когда мы узнаем о гибели, и саму эту гибель?
Чужой
Лейпциг
Я спал в одном старинном доме и был разбужен чередой странных звуков. Монотонный гул «дон, дон, дон» сразу же вселил в меня предельное беспокойство. Я спрыгнул с кровати и, ничего не понимая, словно спросонья, обежал вокруг стола. Схватился за скатерть – она соскользнула. Тут мне стало ясно: это не сон, все наяву. Страх усиливался, а «дон, дон» звучало все более быстро и угрожающе. Звук издавала встроенная в стену сигнализация, предупреждавшая об опасности. Я подбежал к окну, откуда был виден запущенный переулок, зажатый между стен колодца, а над ним – яркий зубчатый хвост кометы. Внизу стояла группа людей – мужчины в высоких остроконечных шляпах, женщины и девочки, одетые старомодно и неряшливо. Видимо, они тоже только что выбежали из своих домов на улицу и теперь возбужденно гудели. До меня донеслись слова: «Чужой снова в городе».
Обернувшись, я увидел на своей кровати человека. Я хотел было выпрыгнуть в окно, но ноги были как будто прикованы к полу. Фигура медленно поднялась и навела на меня взгляд. Глаза горели огнем, смотрели на меня все более пристально и расширялись, приобретая жуткое угрожающее выражение. Однако в тот самый момент, когда их величина и пламень стали невыносимы, они лопнули и рассыпались искрами, как падают пылающие угли сквозь колосник. Остались лишь черные, выжженные глазницы, как абсолютное ничто, скрытое за последней вуалью ужаса.
«Тристрам Шенди»
Берлин
Удобное издание «Тристрама Шенди» в картонной коробочке сопровождало меня во время сражения при Бапоме, было оно со мной и тогда, когда мы стояли у Фаврёй. Поскольку мы были вынуждены ждать на артиллерийских позициях с утра до послеполуденного времени, нас очень быстро одолела скука, хотя положение было вовсе не безопасным. Я начал листать книжку, и очень скоро мое спутанное, прерываемое вспышками огней чтение как некий таинственный побочный голос зазвучало в противоречивой гармонии с внешними событиями. Я несколько раз прерывался, и, когда мне удалось прочесть несколько глав, пришел долгожданный приказ атаковать; я убрал книжку и уже к заходу солнца лежал раненый.
В лазарете я снова подхватил нить повествования, как если бы все, что произошло в промежутке, было лишь сном или частью самой книги, чем-то вроде экскурса, обладающего особой духовной силой. Мне дали морфия, и чтение продолжалось то наяву, то в полусне, так что разные душевные состояния делали лишенный строгой геометрии текст с тысячами улочек и переулков еще более запутанным. Лихорадка, с которой я боролся при помощи бургундского и кодеина, обстрел и бомбежка позиций, откуда войска уже начали отступать, почти забыв о нашем существовании, лишь усугубляли путаницу. Поэтому все, что сохранилось у меня в памяти от тех дней, – это сентиментальные переживания вперемешку с диким возбуждением, после которого даже извержение вулкана оставило бы меня равнодушным, а бедный Йорик и простодушный дядя Тоби казались такими близкими персонажами, каких только можно себе представить.
При таких торжественных обстоятельствах я вступил в тайный орден шендистов, верность которому сохранил до сего дня.
Одинокие стражи
Берлин
Сведенборг осуждает «духовную скупость», которая прячет под замком его грезы и прозрения.
Но как тогда быть с презрением духа к тем, кто разменивает себя на мелкую монету и пускает ее в оборот, как быть с его аристократическим уединением в волшебных дворцах Ариоста? Невыразимое теряет свою ценность, когда его выражают и сообщают другому: оно подобно золоту, в которое перед чеканкой добавляют медь. Кто пытается уловить свои сны на рассвете и видит, как они выскальзывают из сети его мыслей, тот похож на неаполитанского рыбака, от которого уходит стремительная стайка серебристых рыб, случайно выплывшая из глубин залива.
В собраниях Лейпцигского минералогического института я видел кусок горного хрусталя величиной с фут, найденный при прокладке туннеля через недра Сен-Готарда, – одинокий и редкий сон материи.
Нигромонтан передал мне знание о том, что среди нас есть избранные люди, давно покинувшие библиотеки и пыльные арены и занятые работой в прикровенных местах, в своем внутреннем Тибете. Он говорил о людях, уединявшихся ночами в своих кельях, неподвижных словно скалы, в недрах которых поблескивает мощный поток. Снаружи этот поток вращает мельничные колеса и приводит в движение армию машин, внутри же он просто бурлит и питает сердца, эти жаркие трепетные колыбели всякой силы и власти, навсегда скрытые от внешнего света.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/ernst-unger/serdce-iskatelya-priklucheniy/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
«У винта путь прямой и кривой». Гераклит. Фрагмент 59, Diels-Kranz. – Здесь и ниже – примечания переводчика.
2
Смолёвка ночецветная (лат.).
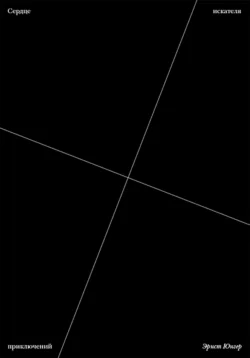
Эрнст Юнгер
Тип: электронная книга
Жанр: Социальная философия
Язык: на русском языке
Издательство: Ад Маргинем Пресс
Дата публикации: 06.11.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Книга выдающегося немецкого мыслителя Эрнста Юнгера (1895–1998) представляет собой сборник эссе-скетчей эпохи Веймарской республики, балансирующих на грани фиктивного дневника и политического манифеста. Одинокое и отважное сердце искателя приключений живет среди катастроф, где гибнут старые ценности и иерархии бюргерского мира. «Пылающие огнем сновидческие пейзажи» Первой мировой войны приоткрыли для автора завесу, за которой скрывался демонический мир, непроницаемый для дневного света разума, и вот сновидение, где грезится удивительное и волшебное, становится у Юнгера парадигмой для толкования опыта действительности. Состояние современной цивилизации – это запутанный сон. Загадочные образы монотонного движения техники, символика смерти, вторжение в бюргерский мир разрушительных демонических сил – вся эта «ночная сторона» жизни, детально выписанная в «Сердце искателя приключений», находится в глубокой связи не только с опытом войны, но и с жизнью большого города.