Изнанка
Изнанка
Лилия Волкова
Изнанка судьбы. Романы Лилии Волковой
У всех и всего на свете есть оборотная сторона: у добряков и циников, событий и явлений, у бескорыстной помощи и показного равнодушия. И хотя чужую изнанку бывает непросто разглядеть, неприглядную правду можно использовать в своих интересах.
Эту нехитрую истину Андрей уяснил еще в отрочестве и тогда же проверил ее на практике. Талантливый, холодный, откровенный до неприличия, к людям он относится, как к разномастным тканям – с отрешенным любопытством исследователя, а на пути к успеху готов, кажется, на все.
Катя – совсем другая: доверчивая и отчаянно влюбленная; юная и совсем не знающая себя. Жизни этих двоих однажды соединятся – словно лоскуты, прошитые невидимой швейной машинкой. И каждому из них предстоит пройти через потери и предательство, познать отчаяние и надежду, почти умереть и возродиться заново – то вместе, то порознь, то совсем рядом друг с другом.
Роман «Изнанка» – пестрое покрывало из разнофактурных материалов, роман о предназначении, о поиске себя, о дружбе и соперничестве, о ненависти и любви во всех их проявлениях.
Лилия Волкова
Изнанка
© Волкова Л., 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей.
Оскар Уайльд
Всякую тайну можно так или иначе узнать, можно выхватить ее из уст другого человека ласками или пытками, но тайна будущего спрятана, утаена от нас так, как будто никакого будущего и никакой тайны и нет.
Нина Берберова
I
Андрей
Слева – облезлая стена гаража. Справа – шершавый бетон панельной хрущевки. За спиной – узкая щель, воняющая дерьмом и блевотиной. Зажали. Все.
Он, конечно, нарывался. На уроки и обратно шел не безопасной дорогой, мимо универмага и химчистки, а хамырями. Проходя по школьному коридору, не опускал голову и не отводил глаза. Наказание за такую дерзость следовало неотвратимо, как день после ночи, как головная боль после пива, украденного из отцовских запасов: пендель, щипок, подзатыльник, мерзкие слова в спину. Но под внимательно-змеиными взглядами учителей его врагам было не развернуться. То ли дело загаженные пустыри, заросшие сорной травой, или полузаброшенные дороги с ржавыми «ракушками» по обочинам. Или, как сегодня, задняя стена обшарпанной хрущобы с зажмуренными глазами окон. Начало ноября. Середина буднего дня. Никто ничего не увидит и не услышит.
Он нарывался. Но сегодня для решающей встречи был категорически неудачный день. Андрей был в обновке – долгожданной, фасонистой. Куртку из мелкорубчатого импортного вельвета мать дошила вчера поздно вечером. Повезло: одна из клиенток купила больше материала, чем нужно на костюм. Брала в Москве, за большие деньги, как сказала мать. Ширина у ткани была нестандартная, осталось много обрезков, которые благодарная заказчица забирать не стала. Даже не обрезков – роскошных лоскутов, из которых мать за пару вечеров соорудила Андрею куртку. Вчера она все гнала его в постель, но он ходил кругами – уже готовый ко сну, наспех умытый и с остатками мятного «Жемчуга» на зубах. «Ты только нос моешь. А щеки? А шею?» – мать отвлекалась от шитья и, лизнув носовой платок, оттирала с его лица то ли реальную, то ли воображаемую грязь. Андрей сердился, прятался в своей комнате, но потом снова вскакивал с кушетки и на цыпочках шел на кухню, где сидела за столом мать. Швейная машинка – старенькая, но надежная, подольский клон безотказного «Зингера», была уже зачехлена. Мать пришивала пуговицы, тоже шикарные, металлические, почти фирменные. Все, последняя! Он выхватил куртку из рук матери, надел – мгновенно! – и вышел в прихожую, к гардеробу с зеркальной дверцей. С синими сатиновыми трусами и клетчатыми тапками куртка, конечно, смотрелась не так чтобы очень. Надо бы джинсы, сапоги вроде ковбойских… Ну и ладно, вещь все равно получилась классная, рыжая, как львиная шкура. И что из лоскутов – совсем незаметно. Умеет мать, не зря заказы косяком идут. А карманы – объемные, с широкой обстрочкой – он придумал сам, точнее, подсмотрел у актера во французском боевике. Как там его?.. Да неважно! Андрей встал перед зеркалом прямо, повернулся в профиль, втянул живот и выдвинул челюсть.
– Ну что, доволен? – С кухни вышла мать, снова что-то стерла с его щеки. – Когда ж ты умываться научишься? Такой большой, а…
– Нормально. Пасиб. Я надену завтра? – Увертываясь от ее руки, неловко и болезненно изогнул шею. Вельветовый воротник мягко прильнул к ней, будто обнял.
– А не застынешь? Вроде мороз обещали.
– Я свитер пододену. Все, я спать! – Последние слова он выкрикнул шепотом уже из своей комнаты. Там аккуратно снял куртку, повесил на спинку стула, сдвинул его ближе к изголовью кушетки. Приподнял один рукав и устроил рядом с подушкой, лег, положил руку на бархатистую ткань и моментально уснул.
Сейчас он стоял, зажатый в вонючем углу, и жалел только об одном: что не додумался снять обновку и сунуть в сумку. Напротив стояли враги. Их было трое: Калякин, Калашов и Никонов.
Заводилой был Петька Калякин, которого Андрей помнил пухлым малолеткой, шкодливым, но добродушным. Уже во втором классе Калякин сполз с неуверенных «четверок» на полновесные «трояки»; а в нынешнем восьмом не слишком успешно балансировал между «удом» и «неудом» по всем предметам, включая поведение. За последний год он сильно изменился: Андрею иногда казалось, что Петька вырос раза в два – и в высоту, и в ширину. Вечно какой-то замызганный, с огромными ногами в уродливых ботинках местной артели, с лицом, напоминающим разваренную картошку в мундире.
– Ну что, Барганов, допрыгался, говнюк? Довыступался, сморчок. Страшно, да? А ты не бойсь! Мы тебя постепенно. Сначала вот Серёня тебя маленько…
Калашов, которого все и всегда называли только Серёней, внешне был полной противоположностью Калякина: стройный, даже изящный, невысокий – всего на полголовы выше самого Андрея, все восемь школьных лет стоявшего на физкультуре последним. Серёня неплохо учился; кажется, даже читал книжки. Только в лице его была какая-то мерзотность и почти неуловимая схожесть то ли с крысой, то ли с хорьком.
– Давай, Серёня, готовсь! И ты, Никонов, тоже! Че ты там? Иди сюда, придурок!
Зачем Калякину в его свите понадобился Никонов – сутулый, почти горбатый парень с унылым лицом и непропорционально длинными руками, Андрей мог только догадываться. Похоже, Петьке просто нравилось иметь неограниченную власть, пусть даже над недоумком. Но ради этого терпеть Никонова? Каждый день, не только в школе, смотреть на его слюнявый полуоткрытый рот; на то, как длинными пальцами он без конца ковыряется в носу, вечно заложенном, делающим его голос тошнотворно гнусавым? А хуже всего было то, что Никонов жрал свои сопли! Андрея передернуло.
– Че дергаешься, Барганов? Страшно? Или холодно? Че, не греет куртец? Пацаны, прикиньте, какой у этого недомерка куртец модный! – Калякин смачно поцокал языком. – Откуда, Барганов? Папаша из Ма-асквы привез? Он же у тебя ма-асквич бывший, кажется? Или мамаша у клиентов матерьяльчик притырила? Моя мать говорит, что она от каждого заказа хоть кусочек, да урвет. Слышь, а твой папаша себе бабу по размеру подбирал – той же тараканьей породы?
Андрей молчал. И даже не шевелился. Только что-то дергалось над левым глазом и подрагивали губы. Не от страха. От слов, готовых сорваться с языка, от недавно обретенного знания, пока некрепкого, не проверенного настоящим делом. Еще даже не знания – подозрения.
– Никонов! – Калякин обернулся. – Ну, где ты там? Опять сопли жуешь? Мля, не подходи ко мне! Вытри руки, придурок! О! Точно! Давай, вытирай! Об куртец баргановский! Мяконько будет! – Калякин заржал и, зайдя за спину Никонова, распяленной ладонью толкнул его на Андрея.
Ни увернуться, ни оттолкнуть Никонова Барганов не успел; вымазанные в слизи пальцы ткнулись куда-то в плечо. Или в грудь. Он не понял. Но именно это прикосновение сработало как спусковой крючок – и он заговорил, глядя Никонову прямо в лицо. Лицо человека, которого он, наверное, мог бы даже пожалеть – если б все сложилось иначе.
– Ты дебил, Никонов. Ты хоть догадываешься об этом? Хоть на это твоих убогих мозгов хватает? А знаешь, почему ты дебил? Потому что отец твой – алкаш. И всегда был алкашом, и мать твоя боялась от него рожать, потому что от алкашей только дебилы рождаются!
Уже после первых слов Никонов стал пятиться, не отводя от Андрея широко раскрытых, почти выпученных глаз. Двигался он медленно – будто хотел непременно дослушать до конца.
– Ты, Никонов, уже так свою мать достал, что она тебя в интернат для дефективных хочет сдать. И будут там тебя всякой дрянью колоть. И проживешь ты там, Никонов, всю свою жизнь и сдохнешь там, привязанный к кровати, никому не нужный, вообще никому!
Последнюю фразу Андрей почти выкрикнул и, казалось, вместе со словами вытолкнул из легких весь воздух, весь до последнего глотка. На мгновенье дыхание перехватило. На долю мгновения.
– Так. Кто там у нас следующий? Серёня у нас следующий!
Никонов, сообразивший, что с ним разговор закончен, сказал в пространство – с паузами, будто во сне: «Мне домой. Я домой» и побрел прочь. Калякин что-то буркнул ему в спину, но потом махнул ручищей и посмотрел на Барганова удивленно и даже как-то весело.
– А ты, смотрю, осмелел, сморчок. Разговорился. Все, что ль? Ну, ща получишь свое! Серёня!
– А вот это правильно. Сейчас Серёня, а потом и до тебя очередь дойдет.
«Правду говорить легко и приятно», – вспомнил Андрей. Отец часто говорил эту фразу, когда уговаривал его признаться в чем-нибудь постыдном. Вроде это из какой-то знаменитой книги. Андрей не читал и отцу не верил, а зря. Так и есть.
– Ага, Серёня. Он у нас ссыкун. Ты знал, Калякин, что твой лучший друг ссытся в постель каждую ночь? И под простыней у него – у тебя, Серёня! – клеенка, как у сосунка. И как же тебе в институт ехать поступать? В общаге-то как? Тоже клеенку подстилать? А с бабой в койку как? Заснули сухие, проснулись – в луже! Мать тебя по врачам таскает, только без толку. Всю жизнь будешь ссаться и мочой вонять!
Остолбеневший Калашов вдруг очнулся, кинулся на Андрея, дал под дых, потом с размаху вмазал по лицу, стал совать мелкие кулаки в подбородок, в скулы, в нос. На верхнюю губу Андрея потекло горячее и соленое, и он засмеялся разбитым ртом.
– Ну, Калякин, вот и твоя очередь пришла!
– Заткнись, гад! Молчи, гнида! – Петька пытался отодвинуть от Андрея мельтешащего Серёню, задвигая их обоих в тесный вонючий угол.
– Эй, нет! – Андрей потянул носом кровавую жижу, сглотнул, ощерился. Он был сейчас как перегретый паровой котел: давление росло, распирало изнутри грудную клетку и гортань, давило на небо, добавляя голосу вибрирующих обертонов. – У твоего отца, Петька, рак. И осталось ему пару месяцев, не больше. А тебе не сказали! Потому что ты, Петька, отца любишь. Он же герой у тебя! Танкист бывший, в Афгане воевал. Ты же любишь его, да? Он, может, единственный человек на земле, кого ты любишь. Мать-то твою за что любить? Все знают, что она гулящая и спит в гостинице с командировочными, когда на смену выходит. Скоро ты, Петька, с одной только матерью останешься…
Калякин бил Андрея ногами, заодно попадая по Серёне. Тот в конце концов отполз в сторону; сидел, скорчившись, на земле и подвывал. Калякин тоже, кажется, плакал – если считать плачем хриплый звериный вой, который Андрей слышал сквозь грохот в ушах. Пульс бил в барабанные перепонки одновременно торжественно и тревожно. Но он удачно упал: кувалды калякинских ног не доставали до головы, били в основном по нижней части свернувшегося в почти клубок тела. Но и туда взбешенный, слепой от ярости и боли Калякин попадал через раз: ватные удары по живой плоти чередовались с беззвучной долбежкой по стене хрущевки; каждая встреча тяжелых ботинок с металлом гаража знаменовалась дребезжанием, переходящим в гулкий, почти колокольный звон. Этот набат спас Андрея от смерти: рано или поздно Калякин, конечно, догадался бы пустить в ход руки-оглобли и вытащить врага из спасительной щели. Но тут над их головами с треском распахнулось окно, и визгливый голос проорал:
– Пошли вон, недоноски! Нет покою от вас, выродки! Каждый день кому-то морду бьют!
Вопли из окна произвели на Калякина эффект, противоположный тому, на который, видимо, рассчитывала нечаянная Андреева защитница: он стал молотить по врагу чаще и прицельнее.
– Вон пошли, вон, во?о-он! Милицию вызову! Милиция, милиция! Ноль-два! Ноль-два! Набираю, набираю уже!
Надежда на скорое окончание экзекуции подействовала на Андрея как анестезия: пинки отдавались уже не болью, а сгустками жара. Вспыхнув в ногах, они прокатывались по телу, разлетались жалящими искрами внутри черепа; и на какое-то время Андрей перестал воспринимать реальность и себя в ней. А когда очнулся, понял, что стало тихо.
Он выбрался из расщелины между гаражом и стеной дома, поднялся на слабые ноги, медленно прошел несколько метров. Подобрал свою сумку. Достал первую попавшуюся тетрадь, вырвал несколько страниц, морщась, обтер лицо, высморкался. Посмотрел вверх: солнца видно не было, но свет пробивался сквозь туманную пелену и заставлял щуриться. Сузив глаза, Андрей глядел на низкое белесое небо – долго, пока с лица не сошла неосознаваемая гримаса боли. Опустив голову, он заметил в окне плохо различимое лицо и улыбнулся ему разбитыми губами. Цветастая штора задернулась резко, со странным звоном, слышным даже через стекло.
Он стянул с себя куртку, бросил ее на землю, тут же, рядом с клетчатыми листками, густо усеянными кровавыми кляксами. И потом, позже, он ни разу не купил и не сшил себе ни одной вещи из вельвета. Но в 1999 году вышла песня, которую он полюбил сразу и навсегда: Сантана и Роб Томас, «Smooth». Если б звуки можно было потрогать руками, эта музыка на ощупь была бы точь-в-точь как та куртка: рыжая, мягкая, в бархатистый рубчик. С пустыря, где осталась лежать его изгаженная обновка, Андрей шел в одном свитере, со вкусом крови во рту и твердой уверенностью в том, что его побили в последний раз. Потому что тех, кого боятся, не бьют. Сторонятся. Ненавидят. Могут убить. Но не бьют.
Дома никого не было: отец уехал в какой-то колхоз за материалом, мать минимум до шести на работе. Прямо в коридоре Андрей разделся до белья, сваливая грязную одежду на пол; встал перед зеркальной дверцей гардероба. На разбитое лицо смотреть было неприятно, но он смотрел. И на него из зеркала жестко и внимательно глянул кто-то новый, еще вчера незнакомый. Не отводя взгляда, Андрей одним движением дернул вниз трусы, переступил через них, ногой откинул в сторону синюю сатиновую тряпку. Линолеум приятно холодил горящие ступни.
Он рассматривал свое тело как чужое: рассудочно, отстраненно, почти равнодушно. На ногах, на бедрах – бордово-черные пятна. Есть и на груди, но немного. Он повел плечами, глубоко вздохнул. Кости целы, даже ребра не сломаны. Это хорошо. А синяки сойдут. У матери в холодильнике мазь от ушибов была, надо намазаться после душа.
Душ. Душ – обязательно, да. Пока Андрей шел домой, ему казалось, что он насквозь провонял заплеванным пустырем, что от него несет Калякиным и Калашовым, ссыкуном Калашовым – особенно. Но сейчас он пах только самим собой. И победой. У нее был кисловато-резкий запах пота и железистый вкус крови. Все это надо смыть.
Он снова окинул взглядом худощавую фигуру в зеркале. Росту бы прибавить – хоть сантиметров двадцать-тридцать. Но это вряд ли. Он и так почти перерос отца, а мать еще ниже. Но это ничего. Многие великие люди были небольшого роста.
А фигура нормальная у него. Мужская. И все остальное, что мужику нужно, тоже уже не детское. С женщиной он еще не был, обходился своими силами, но слышал, как пацаны говорили, что есть одна, Светкой зовут, которая дает всем. Даже адрес называли: в конце Коммунистической, в частном доме, где резные наличники. Главное, договориться заранее, вина купить или водки и сладкое еще. И презики надо, раз она со всеми подряд. Деньги мать даст, наверное, если попросить.
А может, и не пойдет он к этой Светке. Он теперь не такой, как все эти сопляки, которые только и думают, кому всунуть; он может и подождать. И найти достойную. Может, не «единственную», про которую в сериалах трындят, но такую, чтобы… Ну, чтоб она тоже была не такая, как все. И чтоб смотрела на него, как мать на отца смотрит: забывает про все, не слышит даже Андрея, если он о чем-то спрашивает.
А на что там смотреть-то? Старый он, пузатый. Нужно будет забрать у него гантели и подкачаться, чтоб бицепсы-трицепсы, кубики на животе и все такое. А гантели все равно без дела стоят: то под кроватью, то под трюмо, то вообще посреди комнаты. Отец зачем-то делает вид, что тренируется, хотя все знают, что его любимое занятие – пялиться в телек, наливаться пивом и листать пухлые альбомы, в которые вклеены газетные вырезки с его статьями…
Босые ноги совсем заледенели. Андрей сгреб с пола кучу одежды и пошел в ванную. В этом году часто отключали отопление и горячую воду, но сегодня и батареи, и трубы почти обжигали. Разбитые губу и нос саднило от воды, но он долго стоял под душевой лейкой, иногда выныривая, чтобы отдышаться. Потом закрыл слив и сел, выпрямив ноющие ноги. И все думал – о том, что случилось за последние сутки, и о том, что будет дальше.
Вчера с долбаных альбомов все и началось. Мать собирает все отцовские работы, даже заметки о падении удоев или об отсутствии в магазинах стирального порошка. Щелкая лезвиями портняжных ножниц, выкраивает из желтоватой газетной бумаги прямоугольники и квадраты; если статья большая, приклеив, аккуратно подгибает края по размеру альбомного листа.
Отец проработал в местной газете черт знает сколько лет, начал еще до рождения Андрея и даже, кажется, до женитьбы; за эти годы в их доме сложился особый ритуал: вечером, после ужина, мать вслух читала свежий отцовский материал. Андрея не выпускали из-за стола, пока мать негромким, не очень уверенным голосом не дочитывала текст до самого конца, до подписи: «Владислав Барганов, специальный корреспондент». Отец в это время сидел с важным лицом, иногда шевелил в такт губами или кивал.
Андрею читки опостылели давным-давно. Он отлынивал как мог: ссылался на необходимость делать домашку, жаловался, что устал или болит голова. Но обычно это не проканывало. Отец сердился, надувался как жаба – особенно если успел выпить. Сначала он бурчал: «Этому недоумку ничего не интересно». А потом начинал нудеть, что из Андрея вырастет в лучшем случае дворник, но скорее всего – уголовник, как из всех, кто имел несчастье родиться в этом убогом городишке. Тут вступала мать: «Андрюша, сынок, ну как же? Кого же еще слушать, если не папу? Гордиться надо, что у тебя такой отец! Если бы не завистники, он бы давно в Москве был, в центральной газете работал, а может, даже на телевидении! Нашему городу повезло, что папа сюда приехал, и мне повезло, что я его встретила!» Тут мать и смотрела на отца. Лицо коровье, даже губа отвисает; а взгляд – хоть на хлеб мажь: то ли масло подтаявшее, то ли магазинное повидло, сладкое до того, что блевать тянет.
С сыном она обращалась совсем иначе. Не плохо, но иначе. Как будто… сука со щенком. Заботилась, кормила, шила и покупала трусы, штаны и куртки, но почти не разговаривала. Спросит, обедал ли и как дела в школе, вытрет облизанным платком очередное пятно на щеке – и все.
Андрей мать жалел – и тогда, когда она смотрела на отца слюнявым взглядом, и вообще. Потому и сидел за столом после ужина, слушал написанные отцом фразы: гладкие и округлые, как яйца вкрутую, и безвкусные, как разваренный лук. О празднике урожая и битве за него, о руководящей и направляющей, о подвиге отцов и дедов, который «ради мира во всем мире» и «останется в веках». Андрей не против, чтоб остался: дед по матери воевал и не вернулся с фронта; в большой комнате на стене висела в рассохшейся рамке его фотография – нечеткая, выгоревшая, но все равно видно, что дед был нормальным мужиком, шебутным и улыбчивым.
Но времени-то с войны прошло!.. Теперь в газетах и журналах можно прочесть даже о том, что наши солдаты не всегда были героями. Что некоторые специально сдавались в плен и даже служили на стороне фашистов. Меняется все! Берлинскую стену вон вообще сломали: столько простояла, а теперь на сувениры растащили.
В отцовской газете был один журналист, Куликов. Он недавно заходил к отцу, они долго сидели на кухне за бутылкой и разговаривали. Отец был жутко вежливым, называл этого Куликова Сергеем Михалычем и так пресмыкался перед гостем, что казался липким. Когда Андрей зашел на кухню, чтобы попить, отец засуетился, стал рассказывать, какой сын молодец, и хвастаться его вторым местом на школьной олимпиаде по географии; хотя три дня назад, когда Андрей получил грамоту, он даже не поздравил. Сидел, как часто по вечерам, на кухне с бидоном пива, пересушенной воблой и солеными баранками. Пиво было цвета мочи и воняло ею же; отец, вливая его в себя, тоже становился мутным и дурным; лицо его приобретало желтый оттенок – как у свечей, которые мать таскала из церкви. Грамоту, оставленную Андреем на кухонном столе, отец схватил рыбными пальцами, прочитал и отшвырнул в сторону, пробормотав что-то вроде: «География, млять! Кому на хрен нужна эта география?»
Когда Куликов ушел, отец допил оставшиеся полбутылки и орал матери на кухне, что Куликов бездарь и хам; что наглость – второе счастье; что любой может написать что-нибудь скандальное и отправить в московскую газету. И еще – что там, в этой газете, такие же бездари, иначе они никогда бы не позвали Куликова к себе на работу. После очередной тирады отца вступала мать: говорила что-то успокоительное, но что именно – не слышно. А отец завелся на полную; и его грубые, тяжелые, как свинчатки, слова, отрикошетив от стен прихожей, от дверей и шкафов, долетали до комнаты Андрея почти невредимыми.
Именно в тот день Андрей убедился в том, о чем он давно подозревал: как раз отец-то и был бездарем. Только поэтому, вместо того чтобы писать интересные или, может, даже скандальные статьи, он просто поливает дерьмом Куликова и других. Андрей подозревал, что и сам отец об этом догадывается. Не дурак же он? Университет окончил и на работе, как пишут в характеристиках, «на хорошем счету». Значит, все он понимает, просто прячет от других этот секрет, стыдный как триппер.
Была у отца и еще одна тайна, о которой Андрей узнал случайно примерно месяц назад. Выставить ее на всеобщее обозрение сразу же было невозможно, немыслимо, нельзя; как и сделать вид, что ничего не было.
Однажды в детстве он чуть было не хлебнул из необычной трехгранной бутылочки, забытой кем-то на столе. Мать с криком выдернула емкость из его руки, почти до обморока напугав сына своей панической реакцией. В бутылочке была уксусная эссенция; и в тот же день мать, встав на табуретку, засунула ее на верхнюю полку кухонной колонки, в самый дальний угол. Андрея до сих пор холодил изнутри давний испуг, когда он видел, как мать отмеряет нужное количество кислоты и разбавляет ее до съедобной крепости. Вторая отцовская тайна была как раз такой, едкой и опасной, как ядовитая эссенция: если не обращаться с ней бережно, она могла навредить не только отцу, но и тем, кто находится рядом. Поэтому Андрей приберег тайну на будущее. Он был уверен: рано или поздно она пригодится.
Вода остыла. Андрей снова включил воду и взял мыло с пластиковой подставки, прицепленной прямо на бортик ванны. От брикетика с мягко-закругленными краями пахло нежно и дорого. Наверняка мыло не было куплено в местном магазине; скорее всего, мать взяла его в качестве платы за работу. В последнее время она все чаще просила частных клиентов расплачиваться не деньгами. И правильно: сейчас, чтобы жить нормально, их одних недостаточно. Магазины из полупустыни превратились в Сахару или Калахари какую-нибудь. Но в их доме не переводилось импортное мыло и стиральный порошок; в холодильнике лежали сыр и колбаса, причем копченая; в шкафчике над плитой стояли дефицитные эмалированные кастрюли с яркими картинками на круглых боках. Молодец мать. А этот… Все время придирается! То ему не так, это не эдак. Вот и вчера: мать еще до ужина вырезала из газеты очередной материал отца, а после, убрав со стола, протерла цветастую клеенку, принесла из комнаты альбом и начала читать.
Андрей даже не успел понять, о чем в этот раз была статья: через пару секунд мать почему-то начала запинаться, а потом и вовсе застряла на каком-то слове. Отец моментально психанул, оттолкнул от себя чашку с недопитым чаем, которая, проехав по столу между матерью и Андреем, с грохотом свалилась на пол.
– Дура необразованная! – Эти слова отец прошипел уже в коридоре. Через минуту он шваркнул дверью спальни.
– Владик! – крикнула мать ему вслед, лицо ее искривилось. – Вот уж правда – дура я! Но тут видишь, – мать трясущимися руками двигала альбом по столу в сторону Андрея, – видишь? Тут бумага замялась и краска смазалась, слово никак не разберешь! Что же делать теперь? Ты же знаешь папу, он меня сразу не простит, еще и завтра будет сердиться. Что делать-то, Андрюша? – В глазах матери стояли слезы.
– Ма, я сам с ним поговорю! – Андрей вскочил. – Давай я тебе помогу убрать тут все. Смотри, чашка всего на две части развалилась, даже склеить можно! И чай с пола я протру сейчас. Вот и все! Давай мне альбом, в комнату отнесу, завтра прочитаем, ладно? А я тебе машинку притащу, ты же куртку мне собиралась дошить. Дошьешь? А с отцом я сам, ты не волнуйся, ладно?..
Сейчас, вспоминая вчерашний вечер, Андрей ощущал удовлетворение и предчувствие чего-то особенного, возбуждающего не меньше, чем картинки из затертого «Плейбоя», который был запрятан у отца в нижнем ящике письменного стола. Сидя в теплой воде, Андрей зажатым в ладони мылом водил вверх-вниз по избитым ногам, которые будто покусывал невидимый зверь. От скользящих прикосновений боль не только переставала быть мучительной, но и доставляла томительное удовольствие, которое хотелось длить и длить. Андрей, закрыв глаза, гладил скользким розовым овалом ноги, грудь, низ живота. И снова грудь, и снова живот, пока мыло не выскользнуло из руки. Через несколько минут он издал протяжный стон удовлетворения – не сдерживаясь, в полный голос. Кажется, стукнула входная дверь. Или показалось? Неважно. Он спустил грязную воду, открыл краны на полную, лег, расслабился и даже, кажется, задремал под уютное бульканье и бормотание. Все же совсем неплохо, что он небольшого роста: ванна как раз впору, даже ноги не нужно подгибать.
Минут через двадцать Андрей вышел в прихожую – счастливый и внутренне собранный. Грязную одежду он замочил в тазу, мать придет – постирает. Придется объяснять, где он так извозился и почему лицо разбито. Но это ничего.
Под дверью залы виднелась полоса света: «специальный корреспондент Владислав Барганов», похоже, вернулся с «важного редакционного задания». Андрей усмехнулся. Ну, что ж. Время почти пришло. Сейчас – в свою комнату, одеться, причесаться, в последний раз отрепетировать придуманные заранее слова, фразы, требования. А потом, не стучась, зайти и закончить то, что было начато вчера. Да, время пришло. Вчера Андрей только намекнул на свое тайное знание и этого хватило, чтоб на отцовском лице появилась растерянность, которая секунду спустя превратилась в отчетливый страх. Страх! Отец его боялся! Его, мозгляка и тупицу, бездаря и лентяя, которому прямая дорога в уголовники! Ну ничего. Скоро отец узнает: то, что было вчера, – это только начало. Скоро все узнают. Все.
КАТЯ
– Ну, вывалились мы из поезда на Ленинградском. Конец июля, жарень – асфальт плавится. Чемоданчики и авоськи в камеру хранения сунули, а сами пробздеться решили – первый раз в Москве-то! Мамкины куры и пышки в пути надоели, да и подтухли маленько, так что купили мы по пирожку с мясом и вышли к площади. К стеночке прислонились, пирожки лопаем. Юбки – мини, короче некуда, ляжки – как окорока свиные, батники самострочные на сиськах трещат. Стоим, значит. Мужик какой-то нарисовался и кругами вокруг нас ходит. А нам-то что? Народу вокруг – тьма, одним больше, одним меньше. Тут он подходит – плешивый какой-то, но одет хорошо, в джинсы и рубашечку с погончиками. Зыркнул на нас и спрашивает, вполголоса и будто в сторону: «Сколько?» Я ему: «Пятнадцать». И дальше пирожок жую. Он удивился – аж рот разинул и говорит: «А че так дорого?» А подружка моя, Надька, на него, как на дебила, посмотрела и как гаркнет: «Так с мясом же!»
Ленка засмеялась первой. Потом разулыбалась Катя, а там присоединилась и сама рассказчица – тетя Люся. Смех у Ленкиной матери был уютный: то ли сова ухает вдалеке, то ли каша пыхтит в кастрюльке.
– Во-о-от! Ленка сразу все поняла! Недаром в Москве выросла, не то что мы с Надькой – кулемы деревенские. Она у нас самая умная в семье. Лен, ты в кого умная такая? В кого красивая – понятно. – Большая и мягкая тетя Люся снова заколыхалась от смеха. – Кать, а ты чего не ешь-то? Давай-ка я тебе еще картошки… И мяско вот. Давай-давай, жуй-глотай! А то вон какая тощая!
Кормили у Хлюдовых на убой. Тетя Люся давным-давно «сидела на продуктах»: начинала с продавца, потом дослужилась до директора продмага. Так что в доме во все времена водились в изобилии и гречка, и сливочное масло, и рыбка в цветах московского «Спартака», и мясо всех сортов и видов, от буженины и перламутрового на срезе балыка до бордовой говядины и атлетически поджарых кроличьих тушек. Когда бы Катя ни приехала, в выходной или будний день, утром или к полуночи, ее всегда приглашали к столу.
Ели Хлюдовы вкусно. Не готовили вкусно (хотя и это тоже), а именно ели. Можно было бесконечно смотреть, как Ленка сочиняет многоступенчатый бутерброд, заговаривая его, как знахарка снадобье: «А вот мы на хлебушек маянезик намажем, и огурчик свеженький то-о-оненькими лепесточками, и ветчинку, и сервелатика чуть-чуть. И сырком дырявеньким сверху накроем, ма-асдамчиком, на машине специальной порезанным. М-м-м…» Наколдованный бутер исчезал в Ленке как в черной дыре – быстро и бесшумно.
А как тетя Люся вкушала маринованные помидоры! Нежно снимала с их тел прозрачные лепестки кожицы, торжественно подносила обнаженный плод ко рту, прикрывая глаза в предвкушении. Катя в этот момент замирала, а после сглатывала вместе с тетей Люсей, наслаждаясь зрелищем, и тоже хваталась за пряную, пахнущую чесноком и укропом вкуснятину. Она, всегда относившаяся к пище утилитарно, как к горючему, на просторной хлюдовской кухне впервые ощутила и телом, и душой: если чревоугодие и грех, то вполне простительный.
Ленкин младший брат Сергей и глава семейства дядя Саша поглощали пищу не так самозабвенно, но тоже с аппетитом. Сергея Катя видела редко: тот учился в выпускном классе и всерьез занимался спортом. А с дядей Сашей не раз сиживала за обедами и ужинами. Ленкин отец был молчалив и улыбчив, ростом – не ниже жены и той же невнятно-русой масти, но габаритами – как молодой кабачок против круглой налитой дыни. Всю свою столичную жизнь работал в «Метрострое». Катя, не любившая подземку за шум, духоту, плотность многоглавой безликой толпы, после знакомства с Хлюдовым-старшим стала относиться к метро иначе. У подземного царства появилось лицо, и это было лицо дяди Саши – простецкое, с носом уточкой, с маленьким, каким-то детским ртом. Качаясь взад-вперед на разгонах-торможениях, Катя представляла, как самые обычные, невеликие мужички роют радиусы и хорды тоннелей, как прячут за драгоценным мрамором железобетонное нутро арок и стен; как в обеденный перерыв усаживаются прямо на рельсы новой, еще неезженной линии и достают котлеты, вареные яйца, термосы с чаем и подначивают самого молодого: «Что, Илюха, опять с батоном и кефиром? Вот пентюх! Когда ты уже бабу себе заведешь»?
Александр Хлюдов «завел» Людмилу Семенову в общежитии для лимитчиков: приехал к приятелю в гости, из такой же общаги, но на другом конце Москвы. Люся к тому времени в столице обжилась и даже заменила койку с панцирной сеткой на диван, обтянутый гобеленом – красным, с синими разлапистыми тюльпанами. В комнатке на троих она оказалась… Да как и все прочие. В свой первый столичный день, наевшись на вокзале пирожков и посетив достопримечательности (Красная площадь – Мавзолей – ГУМЦУМ – «Детский мир»), она заселилась в общежитие педагогического института, откуда отбыла через неделю, провалив экзамены даже не с треском, а с грохотом. Но домой не вернулась, устроилась на прядильно-ткацкий комбинат. Платили хорошо. А что после смены в ушах шумело – так то ж Москва, тут у всех шумит: не от станков, так от машин или высокой ответственности. Смешно еще, что сморкалась разноцветно: то розовым, то зеленым, то голубым – зависело от того, каких ниток нанюхалась.
Саша ей сразу понравился: чистенький, ходит вприпрыжку. Свой, русак, с нежно-игольчатой, как новорожденный еж, прической. За разные места Люсю не хватал даже после полбутылки, а на вопрос «Ты кем хоть работаешь?» ответил «Кротом». Она – тогда еще сорок шестого размера, а не пятьдесят восьмого – вытаращила глаза, а он засмеялся, дробным, как просыпавшийся горох, смехом.
Комнату дали отдельную, не сразу, но дали. Ленка уже на подходе была, через четыре года – Сережка. В промежутке между детьми Люся поменяла работу: перебралась с грохочущей фабрики в уютный универсам. Так что жили нормально. А детям вообще в общаге было раздолье. В хрущевке на велосипеде не покатаешься, а по двадцатиметровому коридору – пожалуйста. Можно, правда, от загулявшего соседа подзатыльник получить, но это сегодня. А завтра – конфету. И не карамельку какую-нибудь, а «Мишку» или даже «Стратосферу».
Саша и Люся тоже не жаловались. В этих отдельных квартирах все сами по себе, закроются-замуруются и сидят как сычи. А тут если нужно пятерку до зарплаты стрельнуть, то дадут обязательно, если не в первой комнате по коридору, то уж в третьей наверняка. На демонстрацию ходили, с флажками и бумажными цветами, наверченными на ветки; Ленка за руку, Сережка – у отца на плечах, и тянули шеи к трибунам, и орали во всю мощь пролетарских глоток. «Да зда… ет аюз абочеа класса и удового… стьянсва! Уа-а-а…» А как на Новый год пельмени мастрячили всем этажом? Пять мясорубок, двадцать пар обсыпанных мукой рук, три ведерные кастрюли, а потом под водочку, под вино «Арбатское», за накрытыми прямо в коридоре столами: «Ну, с новым счастьем!»
Счастье в виде трешки в новенькой шестнадцатиэтажке – с десятиметровой кухней и лоджией площадью как комната в общежитии – привалило ожидаемо и неожиданно, когда слишком развитый социализм, кряхтя, доживал последние безрадостные годы. Успели! Вскочили в последнюю электричку! Двадцать минут от Киевского вокзала, а потом – на автобусе, бесконечно, мимо сотен домов, похожих издалека на блоки дорогущего «Лего»: вроде разные, а все равно одинаковые. Ленка свое Солнцево называла не иначе как «жопа мира»: «Хорошо тебе, Катька, тебе от метро недалеко, хоть и на автобусе, а я пока до своей жопы мира доеду…» Но Хлюдовы-старшие вили гнездо неутомимо и восторженно, десять лет без перерыва.
Раз в два года переклеивались обои – непременно в арбузного размера цветах, обязательно с золотом. Раз в три года обновлялась мягкая мебель. Однажды Катя, приехав в гости, застала дядю Сашу в прихожей, где он ухарски рубил топором кресло: в дверь оно не пролезало и позже было отправлено на помойку расчлененным. За сменой ковров, паласов и покрывал не уследил бы даже тот, кто посещал хлюдовскую квартиру регулярно, а не от случая к случаю, как Катя. Хотя бывать там она любила. Ей было интересно наблюдать за «полной семьей»: когда и мама, и папа, и двое детей, и родственники наезжают – шумные, говорливые, обнимают до хруста, вынимают из бездонных сумок свертки и пакеты, чаще со съестным. А тетя Люся мечет на стол мисочки, плошечки, тарелки и тарелищи и переживает, что не предупредили, а то бы она пирогов!..
Пирожки, кстати, Ленка регулярно таскала в институт – минимум раз в месяц, а то и два, штук по двадцать-тридцать, завернутые в плотную бумагу и втиснутые в ветхозаветную холщовую сумку. Однажды кто-то из участников уже привычного пира изучил облупившийся рисунок на ней, опознал группу «Boney M.» и заголосил на всю кофейню: «Ма-ма-ма-ма, ма бейкер!» Потом вспомнили «Бахаму маму» и «Распутина», а Катя подошла к сидевшей чуть в стороне Ленке, чтоб задать вопрос, давно ее волновавший:
– А тетя Люся что, специально для нас пироги печет? С чего вдруг?
– Да нет, – Ленка поморщилась, – просто мать с отцом опять поссорились, а мы столько пирогов съесть не в состоянии. Она ж их в запале намесит столько – чума!
– Что-то я связи не уловила, – удивилась Катя.
– Ну, они когда ссорятся, если только не ночью совсем, то мать – на кухню сразу и тесто на пироги ставит. А отец на лоджию идет, у него там мастерская. И полочки сколачивает. Как доколотит, тоже на кухню плетется. Всю кухню мукой уделают, налепят три-четыре противня, потом пекут, потом убираются. И спать идут. А утром – как ни в чем не бывало. Вроде и не было никаких ссор.
– А из-за чего ссорятся-то? – Картинка в Катиной голове никак не складывалась: немногословный дядя Саша, добродушная тетя Люся – и домашние скандалы? Быть того не может!
– Да черт их теперь знает! Они при нас никогда отношения не выясняют. Было когда-то, из-за всякой ерунды: кто-то что-то сказал или отец выпил лишнего. А потом Сережкина учительница в первом классе сказала, что нельзя при детях ссориться. Что психологические травмы могут быть и успеваемость страдает. С тех пор – как партизаны. Молчат. Пироги вот только, в промышленных масштабах. Ты знаешь, я ем будь здоров как, но столько теста сожрать – это ж самоубийство! И, между прочим, соседи жалуются, если отец по вечерам на лоджии дятла изображает. И он им тогда полочки дарит. Они красивые, людям нравятся.
Спрашивать у Ленки, часто ли мать с отцом ссорятся, Катя не стала. Она мысленно считала полочки. На кухне штук пять или шесть. В Ленкиной три. В гостиной тоже, на каждой стене – по паре минимум. А если еще и у соседей…
– Кать, поехали сегодня ко мне? Завтра ко второй паре, успеем и выспаться, и добраться до института из моей жопы мира. Поедем, а? А то там пирогов еще – чума!
В начале восьмого они вошли в электричку. Надпись на головном вагоне – «Солнечная» – февральским вечером читалась как издевательство. Но до конечной они не доехали: на полдороге, когда поезд стал тормозить, Катя взглянула в окно, схватила Ленку за руку и потащила к выходу:
– Давай выйдем сейчас!
– Ты с ума сошла? Холодрыга такая, и это вообще не станция, а платформа в чистом поле!
– Давай, давай, скорей! Разрешите, пожалуйста, нам нужно выйти! – Протиснувшись через плотно упакованную людскую массу в прокуренный тамбур, они выскочили на перрон. Двери, взвизгнув, начали закрываться.
– Ну, Катька, ты даешь! – выдохнула Ленка и резким движением выдернула из смыкающейся вагонной пасти конец длинного шарфа. – И что мы тут делать будем? Вот ты чума!
Катя хорошо запомнила тот вечер – лучше, чем многие последующие: разъедающие душу, ломающие судьбу через колено. Они с Ленкой спустились с платформы на пустырь, где были в беспорядке уложены строительные бетонные блоки. Луна желтела в небе как сыр, который лет пять назад в алюминиевой кастрюльке варила из творога Катина мама.
Их было трое ярких, дополнивших собой монохромный супрематизм: извечная пленница Земли, Катя в красном пуховике и Ленка – в зеленом. Белое полотно заснеженной земной тверди, черно-серые прямоугольники и квадраты, овал Ленкиной фигуры, узкая трапеция Катиной. Сколько времени они провели там? Полчаса? Час? Скакали по сложенным друг на друга плитам, завывали, стоя напротив друг друга, «Вот и лето прошло» – придурковатую попсу на грустные стихи. Выкрикивали «Послушайте!», обращаясь к глухим и безгласным пассажирам пролетающих мимо электричек; плевались в темноту на словах: «Кто-то называет эти плевочки жемчужиной» и хохотали до сиплых стонов.
В Солнцево Катя не поехала. Ленка вначале надулась, но долго обижаться она не умела, так что, немного постояв на противоположных платформах, они отправились по домам. Катина электричка пришла первой, и, сидя сначала в стылом вагоне, потом – в метро и автобусе, она все думала: вот приехала Ленка домой, а там – пироги. Может, только вчерашние, а может, уже новые лепятся. И дядя Саша на лоджии – тук-тук, тук-тук. Вот тебе и семья. Это что, любовь? Или просто экономический союз, кооператив для выращивания детей? Или вообще обоюдный стокгольмский синдром. Может, лучше так, как у них? У Кати есть мама, у мамы – Катя. И все. И больше никто не нужен. Ну, может быть, когда-нибудь, если Катя не выйдет замуж, она возьмет и родит себе дочку, будет ее воспитывать и любить. Будет у них семья – уже на троих. Потом. Когда-нибудь. Лет через десять?..
До дома Катя еле доплелась – промерзшая до последней косточки и с животом, где то ли кот урчал, то ли котята мяукали. От сумбурных чувств и тягостных мыслей она разнюнилась и размякла. Думала: сейчас приду, подсяду к маме под бочок, потом лягу головой к ней на колени, как в детстве. Но это потом. А сначала – есть! И пить тоже хотелось страшно. И в туалет по-маленькому (она до сих пор говорила именно так, и Ленкино «Ссать хочу!» каждый раз ее почти шокировало). Войти в квартиру быстро не получилось. Катя, вся зажавшись и чуть присев, мелко топталась у двери, но ключ в замочную скважину никак не вставлялся: мама, похоже, опять забыла в дверях свою связку. Пришлось звонить. Через долгие пять секунд дверь распахнулась, Катя просеменила мимо мамы, сбросила пуховик прямо на пол в коридоре и со всей возможной скоростью рванула в туалет.
После пришлось идти в душ: все-таки не утерпела. И согреться хотелось. Через двадцать минут она вылезла из ванны на вязаный коврик. Сплошь запотевшее зеркало было как чистый лист, и Катя несколькими размашистыми движениями нарисовала на нем лицо. Оно получилось не смешным, как хотелось, а страшноватым. Наморщив нос, Катя приложила чуть выше узкого рта зубную щетку. Махристая щетина сделала рожу еще противнее, и Катя, хмыкнув, смахнула рукой усатую страхолюдину и подмигнула туманно-розовому лицу, которое выглянуло из получившегося окошка. Ее любимое полотенце – квадратное, огромное, похожее на гигантского пушистого ската, было в стирке, пришлось взять из шкафчика другое, в которое Катя едва поместилась.
На кухне ничем вкусным не пахло, на плите стояла остывшая кастрюля с водой из-под пельменей.
– Ма, а ты что, опять ничего не приготовила? – Катя, надув губы, встала на пороге гостиной.
– Да, Кать, извини. Работы очень много. И вообще, я думала, ты у Ленки ночуешь. Не ждала тебя. Там в морозилке блинчики с творогом и пельмени, сваришь? А то у меня работа.
– Опять работа. – Катя стояла у открытого холодильника и исподлобья смотрела в его равнодушное нутро. Блинчиков не хотелось. Что тут еще? Масло, подсохший кусок сыра, закисшие огурцы в белесом рассоле. Как так можно? Тоже мне, дом называется!
Мама у Кати вообще как-то испортилась в последнее время. Пирогов в их доме сроду не водилось, но хотя бы картошки можно было сварить? И котлет пожарить. Или хотя бы сосисок купить, что ли. А у нее одна работа на уме. Таскает с работы огромные стопки бумаг, все вечера и даже по выходным сидит над ними, уткнувшись в слепяще-белые листы с муравьиной россыпью цифр. Ложится поздно, Катя сквозь сон слышит из гостиной шуршание бумаги и клацанье по компьютерной клавиатуре.
Компьютер в доме появился недавно, и он был не совсем их. То есть совсем не их, а маминого начальника, как сказала сама мама. Однажды в субботу приехали два лохматых парня в толстых свитерах (один на Катю иногда посматривал, другого, классического ботана, очкастого и прыщавого, интересовали, кажется, только привезенные железяки), затащили в дом несколько коробок, быстренько их распаковали. Теперь под обеденным столом в гостиной стоял серый ящик с кнопками и прорезями на передней панели; от него тянулись провода к черной клаве и монитору, похожему на голову динозавра с тупой мордой.
На просьбы Кати купить комп и для нее мама ответила резко и безапелляционно:
– Не вижу смысла тратить такие деньги на развлечение.
– Почему на развлечение? Это же необходимая вещь! Скоро у всех дома будут стоять!
– Ты работать на нем собираешься? Кем? Учись давай лучше! Вот когда начнешь зарабатывать, тогда и купишь себе.
– Мам, ну я же должна научиться пользоваться? Ну, или в интернете пошарить. Ленка говорит, что ей брат рассказывал… В общем, его Сережей зовут, а у Сережи есть друг, а у того есть компьютер с интернетом. Пентиум. И там столько всего: и музыка, и игрушки всякие, и даже книги можно читать! Можно я хотя бы иногда буду садиться, когда ты на работе?
– Это не наше, ясно? И это рабочий инструмент. Я договорилась с шефом, чтобы машина стояла у меня, чтобы я могла работать по выходным. Или если приболею.
– Когда люди болеют, они должны лечиться и больничный лист брать! А с твоим сердцем…
– Нормально у меня с сердцем. А те времена, когда можно было месяцами на больничном сидеть, давно прошли. Совок развалился, так что теперь как потопаешь, так и полопаешь.
Ха! Катя вот сегодня натопалась так, что будь здоров, а полопать-то и нечего. Зря к Ленке не поехала. Там пироги и еще куча всякой вкуснятины. Может, сделать горячие бутерброды? Если сыр еще не протух окончательно…
– Кать!
Пришлось возвращаться в комнату.
– У тебя в комнате на кровати лежит кое-что, посмотри. – Мама даже не повернулась к ней, так и сидела, уставившись в монитор.
– А что там? – Катя решила покапризничать.
– Сходи и посмотри.
– Ну ма-ам! Ну что там?
– Куртка.
Куртка! Ура! Может, меховая? Наконец-то!
Через минуту, не больше, Катя вернулась, держа на отлете правую руку с зажатой в ней обновкой. Куртка слегка покачивалась; поникшими плечами и склоненной головой-капюшоном она была похожа на висельника.
– Я не буду это носить. Ты слышишь? Не буду. – Она чуть было не швырнула коричневую тряпку на клавиатуру, но, натолкнувшись на мамин взгляд, передумала.
– Хорошо. – Мама отвернулась.
– Не буду, и все!
– Я поняла.
– Да? И все? Чего ты молчишь? Тебе все равно, да?
– Катя. Ты сказала, что носить не будешь. Я сказала: хорошо. Чего еще ты от меня хочешь?
– Я хочу знать, зачем ты это купила. Вот это вот! Ты вообще по сторонам смотришь? Ты видишь, в чем сейчас ходят? Сама одеваешься как старуха и меня заставляешь! – Катя стала мотать курткой перед собой, будто пыталась что-то из нее вытряхнуть. – Оно какашечного цвета и почти до пят!
– Я не заставляю.
– Но ты же мне это купила! Зачем?!
– Мне показалось, что это хорошая куртка.
– Это?!
– Да. Тете Тамаре привезли из Финляндии. Ей оказалась маловата, она предложила мне. Ну, в смысле тебе… Она вообще-то хотела подарить, ты же знаешь, как она тебя любит. Но я решила, что это неправильно, и уговорила ее хоть полцены взять. Тем более что куртка очень качественная и очень теплая. А твой пуховик…
– Да уж лучше дырявый пуховик, чем это! Я же шубку хотела! Ты же знаешь… Ну, мамулечка! Шубку. Такую недлинную, с капюшоном. Ну, пожалуйста!
– Кать, не придумывай. Пуховик у тебя не дырявый. Мы его в прошлом году покупали, и ты сама его выбирала. Помнишь? Он просто коротковат, а впереди еще два месяца холодов. И ты ведь сама хотела перевестись на дизайн. А это деньги…
– Деньги, деньги! У тебя все время только деньги, противно просто! Ты же главный экономист! Экономист, это уж точно! – Катя фыркнула. – На всем экономишь, ни шмоток нормальных, ни обуви, даже украшений нет, одно колечко дешевенькое. А тетя Тамара? Вот она себе ни в чем не отказывает! И если бы у нее дети были, она бы… Не то что ты! Я вообще не понимаю: она всего-навсего твой заместитель, а у нее золото, норка, нутрия и сапоги итальянские!
– Сапоги у тебя есть.
– Они не такие! Я хочу на каблуке.
– Катя. Я очень устала.
– Ну, конечно! Ты опять устала! Ты все время «устала»! Ты хоть посмотри! – Катя стала натягивать на себя куртку. – Мне она вообще не идет! Рукава длинные, капюшон сползает, и молния тут неудобная, не застегнешь никак!
Пока Катя, картинно гримасничая, влезала в куртку и возилась с молнией, в зубцах которой застряла какая-то нитка, куцее розовое полотенце, державшееся на честном слове, раскрыло объятия, выпустило из них девичье тело и обессиленно прилегло у пушистых голубых тапок.
– Блин, не застегивается! – Катя раздраженно тряхнула головой и только тут заметила, что между распахнувшимися полами куртки нет ничего, кроме нее самой, Кати. – Ой!
Она стянула зубастые края и со злостью, удивившей ее саму, крикнула в мамино улыбающееся лицо:
– Гы-гы-гы! Чего ты смеешься! Что тут смешного? Ты как… вообще не знаю кто! А куртку эту дурацкую я все равно носить не буду, поняла?!
II
Катя
Отделение дизайна было, конечно, коммерческое, но платить не пришлось. Ректор их полутворческого вуза оказался не только новатором, но и либералом, и расщедрился на несколько бесплатных мест «для своих». Из-за творческого конкурса пришлось поволноваться: эскизы Катя переделывала три раза, рычала на маму, которая выудила из мусора истерзанные листы и попыталась убедить дочь: «Это не только прекрасно, но, возможно, лучшее из всего, что ты хоть когда-то рисовала». Но все закончилось хорошо, и ее имя оказалось в числе принятых. «Глажина Екатерина» – почти в самом начале списка. И пусть он был по алфавиту, все равно Кате было приятно, как будто она заняла одно из призовых мест.
«На дизайнера» она перевелась с потерей года, но это не расстраивало и не пугало, даже радовало: продлить беззаботную студенческую жизнь – чем плохо?
И в том, что с Ленкой они теперь учились не вместе, тоже не было ничего страшного. Институтская кофейня никуда не делась, студенческие там не проверяли и зачетки не спрашивали. Приходи, плати, тусуйся, жуй пирожки с ливером и трубочки с кремом, пей из казенных чашек и стаканов мутный чай, горький кофе, а порой и что покрепче (горячительное приносили из магазина напротив и разливали под столиками все в те же емкости).
Курс подобрался пестрый. Вчерашние выпускницы. Редакционные секретарши, способные по запаху отличить копеечную газету от «глянца», а простецкую «Крестьянку» – от изысканной «Мэри Клэр». Неудавшиеся художники, мечтающие за бешеные баксы рисовать вывески и сайты. Программисты, уверенные, что смогут составить конкуренцию художникам. И он – Андрей Барганов. Тот самый, чья фамилия была в списке первой.
Злые языки утверждали, что буква «г» в его фамилии появилась благодаря жадной до денег паспортистке, но Кате фамилия нравилась: в ней слышался и сухой речитатив горячего песка, и вибрирующий гул экзотического инструмента. Она влюбилась с размаха. Смотрела на него во все глаза, звенела смехом, играла пальцами в пушистых волосах: все говорили, что у нее красивые волосы. Феромонами от нее шибало метров за десять, так что однокурсники дурели и по очереди пытали счастья. Безуспешно. Ей нужен был только Андрей.
В один из дней октября он подошел после лекций, взял Катю за руку и спросил: «Пойдем?» И она пошла. В метро он поставил ее в угол у выхода, придвинулся почти вплотную, по-хозяйски обежал взглядом ее лицо:
– Это ничего, что я маленький. Зато мне удобно смотреть в глаза.
Они были на середине перегона, так что Катя скорее прочитала слова по губам, чем услышала. И растерялась. После секундной паузы закивала; кажется, попала носом ему в глаз; смутилась, чуть не расплакалась. Но Андрей улыбнулся, и неловкость исчезла, раздробленная вагонными колесами, развеянная беспокойными сквозняками.
Следующие шестьдесят три дня состояли из часов и минут оглушительного счастья. Оно, глупое, не испугалось ни отсутствия у Андрея московской прописки, ни его странного обиталища – старой котельной на окраине. В огромном помещении с высоченными потолками было холодно и гулко, но там имелось все, в чем нуждались их жадные до жизни молодые тела. Грохочущий пузатый холодильник, где дуэт из изящной бутылки «Алиготе» и массивной двухлитровой пепси остывал мгновенно. Усталый диван, стонущий от почти космических перегрузок. Узкий санузел, огороженный листами кровельного железа. Катя заходила внутрь и поворотом крана включала грозу: капли бронебойно барабанили по металлу, стены дрожали, вода с ревом уносилась в квадрат слива. Едва вытершись, она бежала босиком в противоположный угол. Андрей поднимал край одеяла, и она проскальзывала в их общий мир, пахнущий вином, потом и спермой.
Вне постели Андрей был сдержан. О любви не говорил, не обнимал в транспорте, не старался каждую минуту держать Катю в поле зрения. Но подсолнух и не ждет, что солнце будет поворачиваться вслед за ним. Ему хватает одного существования солнечных лучей.
За первый месяц Катя провела без Андрея всего пару вечеров. После лекций он вдруг исчезал, не утруждая себя объяснениями ни до, ни после. Она объяснений и не требовала, боясь неосторожным словом повредить тонкую материю отношений, смётанных на скорую руку. Зато в институте они почти не расставались; после лекций, если не убегали сразу в свой котельный рай, часами торчали с друзьями в институтской кофейне.
Однажды Ленка пришла туда в новом платье. Лазурный трикотаж обжимал Ленкины телеса с такой страстью, будто хотел раздавить. Увидев подругу, Катя на секунду зажмурилась: от эстетического шока и чувства вины. Ленка не меньше месяца канючила: «Кать, хочется новенького чего-нибудь! Новый год скоро и вообще. Съездишь со мной на Черкизон? Хоть со стороны на меня посмотришь, а то потом опять будешь ворчать, что купила не то. У тебя вкус и вообще, а из меня ж дизайнер, как из говна пуля!» Что правда, то правда: Ленкино чувство стиля было обратно пропорционально ее весу. Неохватной груди, арбузному заду и ногам штангистки новое платье было противопоказано, как марафон инфарктнику, но Ленка была счастлива, жмурилась от удовольствия и лыбилась как Лагутенко. Девчонки, пряча глаза, похвалили обновку, парни деликатно промолчали. Все, кроме Андрея.
– Лен, что за дерьмо ты на себя надела? – громко спросил он. – Ты похожа на голубую свиноматку.
– Ну, ты… блин… даешь, Барганов, – произнес с паузами чей-то ошарашенный бас.
Хлюдова, стоявшая к Андрею спиной, медленно повернулась. Вместо глаз и рта на ее лице было три черные дыры.
– У тебя дома швейная машинка есть? – продолжил Барганов. – Можем сейчас к тебе поехать? Ненадолго, часа на три-четыре.
– Д-да, – ответила Ленка. Ее потряхивало. – А з-зачем?
– Потом узнаешь, поехали. Пока, малыш. – Он встал, мазнул ладонью по Катиной щеке и пошел к выходу.
Катя уперлась глазами в две удаляющиеся фигуры. Толстый и Тонкий. Слон и Моська. Он размахивал руками и что-то быстро говорил, она шла молча и только кивала, кивала.
Весь оставшийся вечер Катя хохотала как русалка, травила анекдоты, с генеральскими интонациями возглашала: «Ну, за дизайн!», и в результате выпила паленого коньяка в три раза больше, чем стоило бы. Домой добралась на такси, а утром, конечно, проспала и явилась в институт только к обеденному перерыву. В кофейне было шумно и суетно, как всегда, но в тот день обычная круговерть имела исходную точку.
Глазом урагана оказалась Ленка, стоящая в позе начинающей манекенщицы. Казалось, что со вчерашнего дня она потеряла килограммов пятнадцать, не меньше. Причиной тому было надетое на Хлюдовой платье немыслимого покроя: полосы и лоскуты десяти оттенков зеленого затейливым образом пересекались и перетекали друг в друга, не давая взгляду задержаться на выдающихся Ленкиных формах. Девчонки восхищались, ахали, щупали «матерьяльчик». Удивление мужчин было молчаливым, но явным. Умей Ленка читать мысли, она бы поразилась количеству желающих провести с ней пару часов наедине.
Ленка увидела Катю, отвела от себя любопытные руки и выбралась из толпы. Вцепилась в подругу, поволокла в направлении туалета и говорила, говорила, захлебываясь словами:
– Кать, Кать, это ж чума! Три часа всего – и вот, ты глянь! Я такая красивая никогда, никогда не была! – Она хихикнула. – Разве что на Новый год в детском саду, мне тогда мама платье из занавески и корону…
– Лен, подожди! Что три часа? В очереди в магазине стояла? Где Андрей? Он когда от тебя ушел?
– Какой магазин?! – Ленка счастливо захохотала, закидывая голову назад. – Это он, Барганов твой! Своими собственными охренительными ручками! Сшил! Вчера! На моем доисторическом «Зингере»!
Катю в сердце больно клюнула ревность. Не к Ленке. К тайной жизни Андрея, которой он не хотел делиться. К его очевидному таланту, причастной к которому она не была.
– А откуда ткань? – спросила она Хлюдову, хотя спрашивать хотелось Андрея и, конечно, не про ткань.
– Да мы по пути заехали на какой-то склад, на такси, кстати! И потом в мою жопу мира – тоже, и Андрюха платил везде, и в тачке, и на складе. А склад этот – чума просто, ты бы видела! Там ангары, ангары, продавцы – индусы и китайцы, куча материала разного. Я говорю: давай вот этот возьмем, там был один такой, с цветами, роскошный, чума просто! А Барганов твой меня дурой обозвал, набрал этой вот зелени непонятной. Я, знаешь, расстроилась страшно, думаю: что приличного из этого можно сшить? Но ты видишь?! Это чума, чума!
Ленка задвигалась всем своим массивным телом, закружилась, вскинув руки.
– Лен, постой, какая-то нитка у тебя торчит снизу, дай я посмотрю.
Катя присела к ногам Хлюдовой, немного завернула подол. Потом еще. Привстала и задрала Ленке платье чуть ли не до пояса. Изнанка была ужасна. Махрились неровные края, свисали спутанные нити, цепляясь друг за друга, как лианы в джунглях. Ленка попятилась, вытаскивая их Катиных рук свое двуликое платье. Сказала смущенно, глядя в ее изумленное лицо:
– Ну, в общем, да, на изнанке полная хренотень, конечно. Ты ж понимаешь, времени мало было, Андрей торопился очень. Я собиралась потом сама это все как-то облагородить, но так хотелось поскорее надеть! И вообще: я в ближайшее время ни перед кем раздеваться не собираюсь. – Она хихикнула. – А снаружи – вон какая красота! Где, ты говорила, там нитка? Оторви аккуратненько, и пойдем уже! Может, и Андрей уже пришел? Пойдем!
– Давай. – Катя снова присела к Ленкиным ногам, откусила торчащую нитку. – Ты иди. Я сейчас.
Зеркало с прикрепленными поверху лампами дневного света было безжалостным. Узкое бледное лицо с темными полукружиями под глазами. Губы, которые норовят сложиться скобочкой, как у готового заплакать ребенка. Катя посмотрела на себя с отвращением. Сдвинула брови. Надула щеки. Потом пальцами потянула в стороны уголки губ, изображая улыбку. Хмыкнула. К черту! С чего ей расстраиваться? Глупость какая! Ее Андрей – потрясающий, талантливый, гениальный! Она сейчас пойдет и будет радоваться и его успеху, и Ленкиному счастью, и волшебному платью!
Андрей был уже в кофейне, сидел на низком подоконнике с видом свежекоронованного монарха. Вокруг была не то чтобы толпа, но заметное скопление из девчонок. На восторги и вопросы он реагировал через паузу, отвечал лениво, с оттяжечкой. Увидев Катю, царственным жестом показал на место рядом с собой. Окружение почтительно расступилось, Катя села, скользнула джинсами по холодному камню поближе к герою дня и улыбнулась, засияв отраженными лучами Андреевой славы.
– Барганов! А ты у нас, оказывается, талант! – Над ними стояла Танька Переверзева: блондинка, обладательница итальянского кожаного пальто и титула «Лучшие ноги факультета». Говорили, что ее отец – то ли дипломат, то ли партийная шишка, то ли вор в законе. В их институте любили трепать языком. – А мне соорудишь что-нибудь? Только не зеленое. – Переверзева сморщила нос и зыркнула в сторону Хлюдовой. Та стояла за столиком в окружении пятерых парней и с аппетитом уминала кремовое пирожное. Оно, по всей видимости, было жертвоприношением одного из новоявленных поклонников языческой богине любви и изобильного приплода.
– А тебе зачем, Переверзева? – Андрей хмыкнул. – Западные шмотки надоели? Они ж хоть и дорогие, но голимый ширпотреб. В Италии или какой-нибудь Бельгии в джинсе и коже каждая первая ходит. Там на тебя никто бы и не глянул.
– Ой, да ладно! Не выпендривайся. Так сошьешь? Розовое что-нибудь. Или сиреневое. Я заплачу, кстати. Сможешь себе джинсы? прикупить, а то ведь на тебе точно не ширпотреб, а индпошив. Из урюпинского ателье. – Две Танькины подружки, ее вечная свита, засмеялись мышиным смехом.
Катя напряглась и уже открыла рот – сказать Таньке что-нибудь остроумное и злое, отбрить ее так, чтоб неповадно было. Но Андрей успел первым.
– Не, Переверзева, для тебя я шить не буду. Во-первых, ты дура. Во-вторых, для тебя мне неинтересно.
– Это почему же? – Танька, не ожидающая отказа, даже не успела обидеться, а только удивилась. – А для Хлюдовой, этой жирной коровы, значит, интересно?
– Стандартная ты, Переверзева, – Андрей зевнул, – скучная. Обычная. А для Хлюдовой интересно, да. Несмотря на. Пойдем отсюда? – Он лениво встал и посмотрел на сидящую Катю. А потом кинул взгляд на Таньку, тоже свысока.
– Да, пойдем, – вслух согласилась Катя, а про себя подумала: «Как это у него получилось – на Переверзеву сверху вниз? Она ж на полголовы выше!»
Весь следующий месяц Андрей был нарасхват. Кандидаток на обладание шмотки «от Барганова» он выбирал придирчиво, даже привередливо. Предпочтение отдавал платежеспособным, исключая из них стандартных красоток с модельной фигурой. Несколько десятков низеньких, кривоногих, толстопопых, ненормально широкоплечих, катастрофически грудастых и удручающе плоских были облагодетельствованы нарядами всех оттенков поблекшей радуги: Андрей предпочитал цвета неяркие, но чистые, небесные, без примеси земли. Цены не заламывал, но заказчицы были щедры: увидев себя в зеркале, сначала разевали рты, а потом и кошельки.
Работал Андрей быстро. Пара часов на оптовом складе, где он с проворством иглы сновал меж огромных полок и широких прилавков, заваленных рулонами тканей, связками кружев, змеящимися молниями. Еще три-четыре часа за машинкой, иногда дома у заказчицы, чаще – у благодарной Ленки, личная жизнь которой благодаря зеленому платью расцвела в ноябре пышным весенним цветом. Туда Барганов разрешил прийти Кате – всего один раз, причем днем, когда из Хлюдовых, кроме Ленки, дома никого не было. Он вообще не любил зрителей, что Кате казалось странным: Андрей уходил в процесс как в заколдованный замок, куда не было хода посторонним. Цвет он воспринимал кончиками пальцев, фактуру материала определял по запаху, вертлявую шпульку и упрямый челнок чувствовал сердцем. Он не делал выкроек, не рисовал эскизов, не устраивал примерок. Его руки и воображение были связаны напрямую, и связь эта не требовала ни переходников, ни посредников.
Однажды Катя робко упрекнула Андрея:
– Ты шьешь всем подряд, а мне? На курсе уже удивляются. Я, видимо, недостаточно уродлива? Но, может, ты все-таки найдешь время для своей девушки? Несмотря на.
Андрей посмотрел на нее каким-то странным и оценивающим взглядом, и она вдруг смутилась, глуповато засмеялась, пытаясь перевести все в шутку. А он сказал просто и серьезно, даже мрачно:
– Хорошо.
На следующий день Барганова на лекциях не было, и вечером они не виделись. А еще через сутки он принес ей прямо в институт нечто невиданное: труба, то ли сшитая, то ли сплетенная из голубых, лазурных, сапфировых лоскутов и лент. То ли юбка, то ли шарф. Вернее, все сразу. Кажется, лет через десять именно это назовут «платьем-трансформером». Оно растягивалось в длину и ширину. Приобретало любую форму по Катиному желанию. Такого не было ни у кого. Девчонки на курсе от зависти позеленели, как хлюдовское платье, и целыми делегациями ходили упрашивать Андрея: «И мне, и нам, хотим-хотим-хотим! Любые деньги, будем ждать, сколько скажешь! Только сшей!» Барганов не говорил ни да, ни нет. Исправно строчил на случайных машинках, выдавая на-гора разноцветные туники, платья, кофты-размахайки, но «трансформер» так и остался единственным.
Только одно роднило принадлежащий Кате «эксклюзив» со всеми остальными нарядами «от Барганова» – изнанка. Неопрятная, махристая, какая-то вахлацкая – в отличие от изысканной лицевой стороны. Андрею было скучно заниматься необязательной работой. «Все равно никто не видит», – говорил он равнодушно и жестом опытного акушера обрезал пуповину, которая связывала новорожденный шедевр со швейной машинкой. К счастью, поклонниц Барганова изнанка не смущала и на размерах вознаграждения не сказывалась.
Заработанные деньги новоявленный кутюрье потратил на «джинсу» и «кожу», пижонскую, с лейблами, говорящими о себе негромко, но гордо. Переверзева, так и не получившая вожделенного наряда, могла бы торжествовать: «индпошив из урюпинского ателье» – штаны Андрея, из которых он не вылезал с сентября, сменили амплуа и поселились на полу в котельной.
Как ни странно, Барганов не попытался снять другое жилье, покомфортнее, попрезентабельнее, потеплее. А Катя мерзла. Затянувшаяся московская осень, глиняно-осклизлая днем и задубело-хрусткая ночью, впитывалась в бетонные стены, вползала в плохо подогнанную дверь, выступала холодным потом на мутных окнах. После душа Катя, трясясь мелкой дрожью, растиралась жестким полотенцем, влезала босыми ногами в сапоги и, волоча голенища по стылому полу, шла к дивану. Залезала под одеяло, прижималась к Андрею – гладкому, горячему. Один раз ей почудилось, что он вздрогнул и отодвинулся, но последующие энергичные телодвижения ее и согрели, и заставили забыть мгновенный, но острый страх возможной потери.
И она все-таки заболела. Грипп, всесезонный абориген перенаселенного города, свалил ее одним мощным ударом. Температура под сорок, выламывающая боль в суставах, чувствительность принцессы на горошине. Складка на простыне, шов любимой пижамы, холодный нос градусника – измученная наждаком болезни кожа на все реагировала нудной протяжной болью. В горячечных видениях Кате являлся Андрей в итальянском кожаном пальто, Переверзева в зеленом платье и голая Ленка в душе котельной – огромная, хохочущая, повторявшая глубоким баритоном: «Это чума, чума, чума!»
Мама Катиной болезни как будто даже обрадовалась. Договорилась с начальником, засела дома, компьютер включала, только пока Катя спала. На усталость и плохое самочувствие не жаловалась, с энтузиазмом закупала микстуры, растворяла порошки, размешивала морсы, протирала супы. Сама же Катя ощущала болезнь как катастрофу. Началась сессия. Приближался Новый год. И в котельной у Андрея не было телефона.
На пятый день гриппозного полузабытья позвонила Переверзева, по явному недоразумению бывшая старостой группы. Спросила, почему Катя не пришла на зачет, липким голосом пожелала выздоровления и пообещала сообщить прискорбную новость деканату и «вообще всем, в том числе Барганову. А то он ведь, кажется, ничего не знает?» Катя молча положила трубку. Через час после этого разговора грипп, казалось бы, отступивший, снова вцепился в Катю акульими зубами. Будто почувствовал слабину, будто понял, что именно сейчас можно брать ее тепленькой, безнаказанно грызть до нутра, до мягкой сердцевины.
Пятнадцать дней жизни сжались в один жесткий комок, как капрон под горячим утюгом. Вечером тридцатого декабря Катя, бледная, истончившаяся, вылезла из постели, смыла с себя бурую горчичную пыль и запах бальзама «Золотая звезда», натянула на влажное от слабости тело кружевное белье, джинсы, свитер, который нравился Андрею – ассиметричный, с широкими рукавами и сложным дырчатым узором. Надела через голову «трансформер», на сей раз в виде шарфа.
Мамы не было дома: она бегала по магазинам, собирая будущий праздничный стол, и не могла предупредить дочь, что за прошедшие две недели город перебрался из осени в зиму – неуверенными шагами, но, похоже, надолго. Иначе Катя не вышла бы в метельную муть в ботинках на рыбьем меху и куртешке «из чебурашки». Такие шил их с Андреем однокурсник, большой и добродушный Валька Ханкин. Девчонки из небогатых с удовольствием заказывали у него полуперденчики из искусственного меха самых экзотических окрасов: зеленого с оранжевыми пятнами, синего с розовыми разводами, ядовито-оранжевого, убийственно фиолетового. Фасон был один: мешок с капюшоном и рукавами, длина по запросу, а цена – вполне божеская. Кате куртку тоже хотелось, но попугайские расцветки повергали ее в ужас, так что Ханкин в знак особого к ней расположения добыл где-то несколько метров итальянской синтетической пушнины «под норку».
Куртка благородного медового цвета выглядела как меховая, но грела как марлевая. Пока Катя, спотыкаясь, брела к метро, жгуты метели скользили по ее спине, вплетались в узор свитера, вили клубки на впалом животе. В вагон она вошла почти неживая; пошатываясь, пробралась в угол, прислонилась, замерла. Глядя на ее выбеленное гриппом и морозом лицо, тетка в шубе из рыжей собаки, изображающей лису, брезгливо забормотала о «проклятых наркоманах». Через пару остановок она тяжело поднялась, ухватила крепкими руками стоявшие у ног сумки, набитые копченой колбасой и бледными мандаринами, и, косясь на Катю, поперла к выходу, экскаваторно сдвигая плотную толпу. Катя упала на свободное место, как в обморок, и закрыла глаза. Ехать было далеко.
Свет в котельной не горел, обитая лишайным металлом дверь была закрыта. Катя рванула ручку на себя раз, другой, третий. От отчаянных усилий легкое тело моталось как тряпка: вперед, назад, снова вперед, к неподвижному дверному полотну. Наконец Катя прижалась лбом к заледенелым райским вратам и тихо сползла на бетонное крыльцо.
– Ты, Барганов, конечно, гений, но сбрендил окончательно! Ты куда меня затащил? – Томный голос Переверзевой Катя услышала как сквозь сон. Попыталась встать. Не смогла. Как в кошмаре, где нет сил на самое простое, но жизненно важное движение, преодолела себя, на четвереньках сползла с крыльца. Погружая бесчувственные руки в снежную крупу, отползла за угол.
– Ты что, здесь живешь? Ну ты придурок! – Переверзева кокетливо засмеялась. – Я тут себе все каблуки пообломаю!
– Тань, это не я придурок, а ты дура! Я и так на полголовы ниже, ты на фига шпильки надела? – Андрей был верен себе: откровенен до хамства.
– Ну, Барганов, ты даешь! – с восхищением протянула Переверзева. – Ты что, вообще не комплексуешь по поводу роста?
– Вообще. Иди сюда!
Судя по звуку, они были уже совсем рядом. Через секунду глухо дрогнула дверь, явно от прижатого к ней тела.
– Это ничего, Переверзева, что я маленький. Зато мне удобно смотреть в глаза.
Скрип трущихся друг об друга кожанок, хриплый вздох, влажное чавканье. Катя за углом онемела, казалось, навсегда. Распласталась по стене, вжалась в нее с такой силой, что сама стала бетонной: тяжелой, холодной, пронзенной арматурой слов и звуков. Звякнули ключи. Взвизгнули петли. Хлопнула дверь, выплюнув в воздух короткий гулкий всхлип. И стало тихо. Уснула метель, упал на сугробы ветер, разжались кулаки. Остановилось сердце.
В институте Катя появилась в начале февраля. Бледная с прозеленью, молчаливая, укутанная в теплые кофты и пушистые шарфы, она равнодушной тенью перемещалась из кабинета в кабинет, оформляла документы для перевода на заочное. Со следующего года, конечно, потому что прошедшая сессия не оставила в ее зачетке ни единого следа. Почти неделю ей удавалось избегать встреч с однокурсниками. Но в последний день, плетясь из деканата в библиотеку, она лицом к лицу столкнулась с Переверзевой: узкие джинсы, сиреневая туника «от Барганова», розовые сапожки на плоской подошве. И мастерски раскрашенное лицо, сочащееся ядом сочувствия.
– Катерина! Бедняжка! Как ты похудела! И что ж тебе теперь делать? Сессия-то – тю-тю! Ой, Андрюша!
Барганов вынырнул как будто из ниоткуда. Подошел, прозвучав шелестом стеганой куртки и кастаньетами высоких, каких-то не мужских каблуков. По-хозяйски обнял Переверзеву за талию, улыбнулся Кате:
– Привет, Катюха. Ну, ты как? Оклемалась? Я все хотел тебе позвонить, да как-то не сложилось. А сейчас – сама видишь… Но мы ведь останемся друзьями, да? Несмотря на.
Катя молча кивнула, обошла Таньку и Андрея по широкой дуге, с силой прижимая к животу стопку учебников, и пошла по коридору – пустому, тусклому, серому, как мешковина. «Останемся друзьями. Несмотря на. Останемся друзьями. Несмотря на», – звучало у нее внутри, задавало ритм шагов, предсказывало будущее. Любимое выражение Андрея – «несмотря на» – застряло в ней как осколок снаряда. В рассказах о войне она читала, что так бывает. Кусок металла обрастает плотью, запутывается в нитях кровеносных сосудов, и человек перестает его замечать. Но однажды сгусток смертельного холода сдвинется с места. И тогда острые края разрежут живую оболочку, изорвут нежную ткань в лоскуты, истолкут в кровавое месиво. Так бывает. Она читала.
АНДРЕЙ
Как-то мать шила на дому халат из атлас-сатина. Когда она раскинула на кухонном столе отрез, Андрей, которому на тот момент исполнилось от силы лет десять, остолбенел. На шелковистой, переливающейся ткани цвели экзотические цветы, бордовые и фиолетовые, топорщились сочные сине-зеленые листья, распускали радужные хвосты крючконосые попугаи. А потом мать сложила материал вдвое – лицом внутрь. Изнанка была тусклой, бесцветной, шершавой; ничто не напоминало о недавнем ослепляющем великолепии. «Атлас-сатин» – Андрей запомнил это название с одного раза и с тех пор каждый отрез, принесенный матерью, рассматривал и с лица, и с изнанки.
Позже оказалось, что наблюдать за людьми – еще интереснее. Изучать привычки, слушать разговоры, присматриваться к выражению лиц. Очень быстро стало понятно: окружающие его заметно отличались друг от друга, были сшиты из разного материала, но оборотная сторона была у каждого. И часто она совсем не походила на лицевую.
Андрей смотрел на удаляющуюся Катину спину – узкую, упрямую, какую-то неудобную и странно прямую. Раньше она всегда чуть сутулилась. Андрей иногда шлепал ее раскрытой ладонью чуть ниже шеи, а она поводила плечами, и лопатки ее двигались под одеждой как беспокойные зверьки.
Зачем он вообще с ней связался? Не хотел поначалу. Но она так просилась в руки, так светилась вся, переливалась как елочная гирлянда. И он подумал: а почему нет? Ничего девчонка. Нос длинноват, правда, а ноги коротковаты, но ладная, какая-то плавная вся.
Скучно стало очень быстро. Даже не скучно, а как-то муторно. Судя по тому, как Катя себя вела, как одевалась – такая же нищая, как он сам. Ну, квартира на окраине. Ну, образование получит. И что? Как-то обмолвилась, что мать бухгалтер, а отца вообще не знала. И зачем это ему? Он еще пару месяцев назад почувствовал: еще немного, и прилепится она к нему намертво, не оторвешь. И дальше что? Жениться, детей заводить, считать копейки, разменять свою жизнь на ползунки-пеленки?
А тут Переверзева нарисовалась…
– Андрюш, ну ты чего? – Танька дернула его за рукав. – Пялишься на пустой коридор. Пойдем уже, а? Кофейку выпьем, а потом за билетами, да?
– За билетами?
– Ну, на «Титаник»! Мы ж договаривались, Барганов! Ты че, дурак, что ли? Или про Катьку думаешь? Ну и иди к своей Катьке, раз так! – Танька надула губы и отвернулась.
– Сама ты дура. – Андрей развернул Таньку к себе, чмокнул в щеку. – Какая Катька? Было – и быльем поросло. Забей уже. Пойдем.
– «Титаник» – это просто нечто! Я на DVD смотрела уже, но на английском, а это не то. А на кассете с гнусавым переводом не стала. Зачем себе впечатление портить, да? На большом экране это просто офигительно будет… А ты мне еще что-нибудь сошьешь, ладно? А то эту, сиреневую, уже видели все и, конечно, обалдели, но мне надо что-нибудь еще. И реклама тебе будет заодно, я же всем рассказываю, что мой Андрюша – гений!..
Танька трындела без умолку, здоровалась со знакомыми, в которых у нее, кажется, был целый институт. Ей улыбались, хотя Андрей неоднократно слышал, как Переверзеву за ее спиной называли «самодовольной богатенькой сучкой».
Андрей Таньку сукой не считал. Да и обвинение в самодовольстве – та еще претензия.
А почему, собственно, она не должна быть собой довольна? Красивая, богатая. Неглупая. Шить вот только на нее было неинтересно. Но бабки зарабатывать надо, карьеру делать надо, значит, забудешь ты, Андрюша, свое «хочу» и будешь пахать на это самое «надо».
У Таньки все схвачено. А что не у нее, так у ее папаши. В дом его пока не ввели, Танька только обещает, но по телефону он с Владимиром Ивановичем уже познакомился и пообещал, что с ним Танька – как за каменной стеной. «Танюшка сказала, что ты отслужил уже. Значит, парень взрослый, а не сопляк какой-нибудь. Так что я на тебя надеюсь. И давайте там, выберете время – приходи на обед или на ужин. Поговорим. По-мужски», – баритон в телефонной трубке был увесистым, как чемодан, набитый деньгами. Имя дочери он произносил необычно, с ударением на первое «а» – Та?нюшка, и это заставило Андрея занервничать.
С другой стороны – чего психовать? Ну, любит папаша единственную дочку. Любит сильно. Значит, и ее избранника вынужден будет если не полюбить, то взять под крыло. Денег, например, дать на открытие собственного дела. Андрей уже почти придумал себе фирменные бирки: «Барганов» – большими буквами, «А» в середине чуть более крупная, цветовое решение – тусклое серебро с глубоким синим. Хотя еще можно подумать, время есть.
– Ой, там Ирка в очереди. Андрюш, что тебе взять? – Они были неподалеку от прилавка, где толпились жаждущие бодрости студенты и преподы.
– Большой кофе и бутер какой-нибудь. Денег дать? – Андрей потянулся к карману.
– Да есть у меня! Но мне приятно, что ты у меня такой… прям мужчина-мужчина!
– Да ладно, – Андрей пожал плечами, – я пойду столик займу, там, в конце! – крикнул он в Танькину спину, но она уже махала рукой, привлекая внимание Ирки – довольно противной девицы, классической прилипалы и подлизы. Андрею она не нравилась, о чем он в свойственной ему манере сообщил Таньке при первом же удобном случае:
– Я эту выдру с крысиным лицом не перевариваю.
– Да ладно тебе! Я, честно говоря, и сама от нее не восторге, но она, знаешь… бывает полезна. Конспекты всегда пишет. Пару раз за меня рефераты делала. И кофе умеет без очереди брать. – Танька засмеялась. – А ты можешь с ней вообще не общаться, буду вас разделять. И властвовать! – Она обняла Андрея за плечи и запрокинула голову. Шея, видневшаяся в вороте голубого кашемирового джемпера, была загорелой и неприятно уязвимой.
Обещание «разделять» Танька выполняла неукоснительно. И в этот раз, поставив кофе и бутерброд с колбасой несъедобного цвета на низкий подоконник рядом с сидящим Андреем, она отчалила к столику, возле которого стояла Ирка с творожным кольцом в цепких наманикюренных пальцах.
– Андрюш, я там потусуюсь пока, ладно? Надо же Ирочке приятное сделать. – Наклонившись, Танька чмокнула его в щеку и взъерошила волосы.
Андрей тряхнул головой, уклоняясь от ласки. Танькины нежности, чуть более фамильярные, чем ему бы хотелось, раздражали. Но зато с ней почти не приходилось сдерживаться и говорить не то, что думаешь. Она не обижалась на «дуру». Она давала людям нелицеприятные, но правдивые оценки, точно такие же, какие мог бы дать Андрей. Всяким ханжеским рожам они могли бы показаться оскорбительными, но какое им с Танькой дело до этого? Главное, что они друг друга понимают. Что они похожи – в чем-то главном, в том, что и определяет человека. Андрея удивляло и даже завораживало, что Танька, типичная москвичка, упакованная по самые гланды, была парадоксальным образом похожа на женщин из его родного городка.
Все эти продавщицы, уборщицы, приемщицы в прачечной и ремонте обуви, подавальщицы в столовке, большей частью довольно молодые и все поголовно полунищие, напоминали недорогой ситец – редкое плетение, нестойкая краска, а на изнанке – те же незатейливые цветочки, горошки, полосочки, что и на лицевой стороне. Разве что чуть бледнее.
И однокурсницы Андрея по швейному училищу, хоть и предпочитали носить яркие лосины и кофты с люрексом, тоже были ситчиком. Одним большим отделом хэбэшных тканей. С ними было легко – учиться, общаться, хохмить. Чувствовать себя кумом королю помогало и то, что он оказался единственным пацаном на все четыре курса. Говорят, лет пять назад на «Верхней одежде» учились сразу два парня, но сейчас на пять коек в «мужской» общежитской комнате был только один претендент.
Учиться он стал гораздо лучше, чем в школе. Сам не понял, почему. То ли, уехав из дома в областной центр, враз повзрослел. То ли, избавившись от ядовитого внимания отца, расслабился: теперь не нужно было постоянно оправдывать чужие и заранее обреченные на обман ожидания. Даже математика, которую Андрей никогда не любил, вдруг пошла как хорошо отлаженный механизм, без стука и скрипа. Особенно к месту оказалась геометрия: прямоугольники и трапеции, прямые и синусоиды перестали быть абстрактной и бесполезной белибердой, стали привычными, по руке, инструментами. Линия плеча, окат рукава, вырез горловины, вытачка верхняя, нагрудная, от линии талии, разрезная, разутюженная.
Преподы, особенно по профпредметам, относились к Андрею с симпатией и, кажется, даже с уважением. Он был самый талантливый. Про него так и говорили: талантливый. Прочили славу Зайцева или (кто знает?) самого Диора. Девчонки соревновались за его внимание, за право сидеть с ним за одной партой, стоять рядом за закроечным столом, прикармливать его щами и котлетами.
Ходили слухи, что Машка Сенцова и Юлька Тарашкина один раз даже подрались за возможность погладить Андрею рубашку: Машка выдрала у Юльки клок волос, а Юлька заехала Машке в глаз. Слухи были похожи на правду: Машка почти неделю ходила, завесив волосами пол-лица, и получила десяток замечаний за нарушение техники безопасности.
– Сенцова, убери патлы! – орала тощая Нинель Самойловна по кличке «Шинель», препод по технологии. – Затянет под лапку или на маховик намотается, сдерет скальп, будешь как жертва Чингачгука!
Все ржали; Машка, нахмурив брови, склонялась над машинкой все ниже и ниже, так и не подобрав свои выбеленные до прозрачности жидковатые волосья.
Нормальная девчонка была Машка. И Юлька ничего. И Наташка со Светкой, и Снежана, и Даша. Все нормальные были, но Андрей хорошо помнил жизненное правило, о котором узнал лет в десять, что ли. Матери в тот день не было дома, уехала в деревню к дальней родне, а к отцу пришел сосед дядя Володя. Барганов-старший брезгливо кинул сыну, доедавшему ужин: «Ну? Че ты там колупаешься? Иди к себе, нечего тут, мужикам поговорить надо!» Едва не смахнув со стола тарелку с остатками жареной картошки, шмякнул на цветастую клеенку полкруга «Краковской», доску с четвертинкой черного, поставил две стопки и бутылку «Столичной».
Поначалу за кухонной дверью было довольно тихо. Низко и почти неразборчиво гундосил дядя Володя; изредка звучал вопросительный, но уверенный голос отца. Когда бутылка почти опустела, а градус беседы достиг классической отметки, дядя Володя, кажется, заткнулся вовсе. Зато отец разошелся и напористо твердил неустойчивым, шатким от алкоголя баритоном: «Не сри там, где ешь! Не сри! Там. Где. Ешь. Не сри! Понял, Володька?»
Спрятанный за примитивной физиологией смысл афоризма дошел до Андрея не сразу. Зато через четыре года его и удивил, и странно расстроил тот факт, что сам отец не последовал такому простому и, надо думать, надежному правилу.
А туповатый сосед, похоже, увещеваниям так и не внял: накануне отъезда Андрея в училище весь подъезд обсуждал, что жена дяди Володи гоняла его с пятого этажа до первого и обратно, с остановками на третьем, где жила незамужняя шалава Нинка. У ее квартиры дяди-Володина жена орала как потерпевшая, дубасила скалкой попеременно то мужа, то Нинкину дверь и угрожала, что она этой суке ноги из жопы повыдергает.
Чем закончилась та история, Андрей так и не узнал. Даже когда приезжал домой на каникулы, большую часть времени проводил вне дома, а каждое лето после производственной практики оставался в областном городе, подрабатывал, где мог.
Жил у своих взрослых подруг. Твердо усвоив отцовские поучения, младший Барганов за все годы учебы не переспал ни с одной из однокурсниц. Хватало и других. Медсестра-хохотушка Лада, с которой он познакомился во время диспансеризации. Кореяночка Вика, торговавшая в гастрономе капустой, морковкой и рыбой хе. Смуглая и кудрявая хохлушка Оксана, которую бог знает как занесло в их предсеверные края.
Одни обитали на съемных хатах, другие – в замызганных и пыльных коммунальных комнатушках. Иногда случались и те, кто жил в родительских квартирах, но взрослой, самостоятельной жизнью, позволявшей не только приводить «мужика», но и не спрашивать на это разрешения у пропитых отцов и истрепанных бытом матерей.
За четыре года к женщинам, дававшим ему кров, кормившим его, ложившимся с ним в постель – с нежностью и страстью, отчаянием и печалью, терпением и покорностью – в Андрее само собой выработалось единообразное отношение. Превалировала жалость, потому что все они, красивые и не очень, совсем юные и уже потускневшие, были ущербными. Надкусанными. Треснутыми. И всем им нужен был мужчина, чтоб эту щербину, вмятину, трещину закрыть и замазать. Все они были как мать, и это придавало жалости оттенок брезгливости, почти презрения.
Привкус благодарности, почти неразличимый и лишь изредка осознаваемый, приходил вместе с физическим желанием и забывался после его удовлетворения. Желание вообще существовало отдельно и не смешивалось ни с жалостью, ни с брезгливостью.
Его первую женщину звали Ольгой. Олькой. Ей было тридцать, она торговала в ларьке неподалеку от швейного училища. Алкоголичкой она, возможно, и не была, но пила каждый день.
От Андрея Ольке было нужно не так уж много: чтоб приходил почаще (ключ ему Олька вручила почти сразу, чуть ли не через неделю после знакомства и первого перепихона); ел со сковороды, поросшей снаружи слоистым нагаром, картошку и яичницу с колбасой; слушал рассказы о напарнице Ритке, которая «жрет как не в себя», оставляет повсюду пакеты от чипсов и залапывает витрины жирными пальцами; чтоб делал сочувственное лицо, когда Олька жаловалась на хозяина Арифа, который за эти самые засранные витрины материт только ее, а Ритку нет, потому что трахает эту прошмандовку в глубине киоска на коробках с чипсами и паках с лимонадом, ярким, как импортные фломастеры.
Андрей ел, слушал, сочувствовал, попутно размышляя: может, Олька просто завидует напарнице, потому что сама хотела бы пыхтеть и взвизгивать на затянутых в полиэтилен бутылках, похожих на игрушечные снаряды? Или наоборот: она была бы рада похвастаться Ритке, что сама она спит не с волосатым вонючим азером, а с молодым и чистым русским. Но вряд ли решится, потому что трахаться с тем, кому нет восемнадцати, – это ж статья! Эти мысли Андрея возбуждали, как и то, что у него, пацана, которому до совершеннолетия еще жить да жить, есть собственная женщина с отдельной квартирой. И от всего этого у него вставал гораздо надежнее, чем от Олькиного мосластого тела; ее растопыренных грудей, похожих на крысиные морды; жестких, как крупный наждак, пупырышков на ее бедрах.
Но Олька хотела не часто. Уставала в своем ларьке до бурых обводов вокруг глаз, до потливой слабости. И нужно-то ей было в лучшем случае десять минут суетной возни, которую сама Олька обозначала суконным глаголом «сношаться». «Сегодня сношаться не будем, устала как сволочь», – бормотала Олька, стоя у плиты и длинной поварешкой закручивая в кастрюле смерч, в котором безысходно кружились пельмени.
В те дни, когда Андрей оставался ночевать, они ложились сразу после ужина, и Олька молниеносно вырубалась. Во сне она почти не ворочалась, а дыхание ее было нежным и беззвучным, как снегопад в безветренную погоду.
К Андрею, дни которого, быть может, оказывались не столь изматывающими, но тоже наполненными до краев, сон приходил уверенно и основательно. Поэтому на Олькины ночные вскрики он реагировал не сразу, долго всплывая из темной глубины. Со временем он научился, даже не проснувшись, гладить Ольку по голове, подставлять ей свое неширокое плечо, чтоб, уткнувшись в теплое, она отстонала, отвсхлипывала свой кошмар и снова уснула.
Снились Ольке покойники. Точнее, ее бывшие покупатели, ставшие покойниками после паленой водки. Одни были просто мертвыми, другие – еще и слепыми. Мертвяки окружали Олькину палатку плотным кольцом, смотрели молча, но обвиняюще. «Даже слепые, суки, смотрят! Даже слепые!» – подвывала Олька, когда, поддавшись на уговоры Андрея, решилась рассказать ему свой повторяющийся сон.
В тот же день Андрей выяснил: о конкретных случаях, чтоб кто-то умер или ослеп от напитков, купленных именно в Олькином ларьке, ей самой неизвестно. Ни менты к ней не приходили, ни родственники жертв метанола. Но, начитавшись «просветительских» статей в газетах, наслушавшись страшилок от знакомых, Олька обзавелась не только интеллигентским чувством вины за содеянное не ею, но и параноидальной уверенностью: пить то, что стоит в витринах ее собственной торговой точки, – гарантия мучительной смерти. Поэтому она, вопреки логике и здравому смыслу, ходила за пойлом в соседний киоск.
– У Надьки товар нормальный! – горячо говорила она, наливая «Столичную» в единственную имеющуюся в доме хрустальную рюмку. В Андрея мутная бутылка с криво налепленной этикеткой уверенности в качестве напитка не вселяла, но Ольку сомнительный вид стеклотары не смущал.
– А все почему? Потому что хозяин там – наш, русский, Серега из соседнего двора, я его всю жизнь знаю! Поднялся сейчас, на «мерсе» ездит, но все равно мужик нормальный. Своих травить не будет! – Олька со стуком ставила бутылку на стол, поднимала исчерканный алмазным резцом цилиндрик, смотрела через него на свет. – Слеза! Будешь?..
Андрей вздрогнул.
– Пить будешь, Андрюх? – Над ним стоял однокурсник Валька Ханкин, здоровенный, белобрысый, с детской улыбкой и икающим смехом парень. Как он умудрился поступить на отделение дизайна, Андрей не понимал: рисовал он как детсадовец, материал не чувствовал и со вкусом у него были бо-ольшие проблемы. Посмотришь на куртешки, которыми он снабдил полфакультета, – и коростой покрываешься от кроя и колористики.
Но у Барганова с Валькой как-то незаметно сложились ровные, почти дружеские отношения. Возможно, из-за того, что от Ханкина часто пахло свежевыглаженным бельем и детским мылом, а только изредка – перегаром; был он простым и надежным как брезент. Неопасным.
– Не, у меня другие планы.
– А, ну ладно. – Валька присел рядом с Андреем, спросил, глядя в сторону: – Слушай, говорят, Катя приходила?
Андрей молчал.
– Андрюх, ты Катю видел? – Ханкин повернул голову; его глаза с близкого расстояния напоминали осеннюю лужу: где-то на дне – потемневшие разноцветные листья, сверху – серо-голубая жижа. – Ты с ней говорил? У вас же было?..
– Ну, было, – Барганов швырнул слова в Валькино лицо как камень в воду. – Было да сплыло. А так – да, видел. Нормально все у нее, не парься.
– О, Ханкин и Барганов! Попались, голубчики!
Алла Михайловна Георгинова, преподаватель по истории костюма, была громогласной, энергичной и увлеченной своим предметом до самозабвения. Как-то в кофейне обсуждали Георгинову и ее манеру одеваться, и кто-то из девчонок с откровенной издевкой сказал:
– Вкуса у Аллочки нет совсем. Это ж надо: все знать о моде и настолько не уметь одеваться. То она в балахонах каких-то, то рукава прицепит, из километра кружев сшитые. Я все жду, когда она придет в кринолине или турнюре. Только вот корсет на такой размерчик фиг найдешь.
– Дураки вы. – Андрей по традиции не церемонился. – А Аллочка – гений. Вы бы лучше, чем ядом плеваться, учились, как быть непохожими на других. А то все как под копирку – либо в фирме, либо в рыночном говне под фирму. В лучшем случае – самострок по выкройкам из «Бурды». Я уверен: максимум лет через двадцать-тридцать мода как таковая, все эти «цвет сезона», «модель сезона» и прочая муть будут не актуальны. Каждый будет искать свой стиль, свой цвет, своего модельера или просто портного. Каждый будет из кожи вон лезть (Андрей бросил насмешливый взгляд на Переверзеву, которая как раз дефилировала мимо), чтоб выделяться из толпы. Вот тогда вы Аллочку и вспомните.
Сегодня Георгинова пришла в прямом, почти до пола платье из темно-зеленой ткани, на которую были настрочены разноцветные полосы, квадраты, трапеции. Получился бы чистый Малевич, если б по Аллочкиной прихоти геометрию не разбавляли романтические воланы на рукавах и подоле. Андрей мысленно присвистнул, отдавая дань смелости решения. Надо все же спросить: это она сама или кто-то шьет по ее эскизам? И телефончик попросить, вдруг пригодится…
– Так, Барганов. – Георгинова стояла рядом, качала воланами и смотрела на Андрея сверху вниз. – Вы мне должны реферат, помните? Я вам, конечно, пятерку поставила, потому что… Да вы сами знаете, почему, – Аллочка усмехнулась. – Но реферат все равно надо.
– Несмотря на. – Георгинова Андрею нравилась, и это было взаимно. Поэтому он поднялся с подоконника, хоть мало для кого стал бы это делать. Он был ниже Аллочки на полголовы, она смотрела сверху ласково и спокойно. На секунду ему показалось, что сейчас она поцелует его в лоб, а потом спросит, почему он не причесался и как следует не умылся.
– Вот именно! – Аллочка кивнула Вальке: – А вам, Ханкин, пора свой трояк отрабатывать. Двигайте конечностями, мне на кафедре помощь нужна. И как раз по вашему профилю – тяжести таскать.
Валька скорчил рожу, но все же подчинился и принял из Аллочкиных рук стопку каких-то журналов и буклетов (Георгинова все время таскала с собой свежий глянец вперемешку с книгами по искусству).
– Барганов, так мы договорились? Неделя у вас в распоряжении, не больше. Вы, конечно, мой любимчик, но не злоупотребляйте! А вы, Ханкин, шагом марш! Да не пугайтесь вы, там всех дел минут на пятнадцать.
А щиколотки у нее узкие. И запястья породистые. Странно даже: при безобразной, почти патологической полноте – такое изящество. И тяжелая плотная ткань, и воланы эти. Идеально. Не хуже, чем сделал бы он. И чем-то похоже на то платье, которое он сшил для жены майора Погремухина.
Да, похоже. Силуэт. Строгая простота, но с форсом, с изюмом. Ткань, конечно, попроще была, к тому же не плательная, а портьерная. «Унесенных ветром» он посмотрел уже после дембеля и развеселился, глядя, как Скарлетт срывает шторы.
А майору в тот день было не до смеха. Ввалился в каморку за «красным уголком», пыхтя как Винни Пух, застрявший в норе. Бровями-кустиками шевелит, пот со лба утирает и бормочет под нос что-то нецензурное. Проверил все до буковки, до последней тряпочки, искал, к чему придраться. После ротный прибежал: кто-то ему доложил, что замкомдива инспектирует подготовку к праздникам.
Но у Андрея – полный порядок. Растяжки с лозунгами, плакаты и щиты, герб, заново серебрянкой выкрашенный – все на месте, все чики-пуки. Осталось только на территории кое-что подкрасить-подмазать-обновить, «Боевой листок» доделать. Майор, конечно, повод гавкнуть нашел, но всем было ясно, что это так, для порядка и воинской дисциплины.
– Рядовой… Как тебя там?
– Барганов, товарищ майор!
– Смотри мне тут! Чтоб все! Чтоб на высшем уровне, понял?
– Так точно, товарищ майор!
Хлопнула дверь, вторая, через минуту за стеной заговорили двое:
– Кончик, закурить есть? – Об фамилию капитана не точил язык только ленивый.
– Так точно, товарищ майор!
– Да ладно тебе, не на плацу.
– Вот, Сан Михалыч, держите. Только у меня…
– Дамские куришь? Что толку от них? Ни весу, ни дыму. Ладно, давай хоть такие. Мне, блин, сегодня ваще…
– Что-то случилось, това… Сан Михалыч?
– Бабы, блин! Ты вот не женат, кажется? Правильно, Кончик! И не женись на хрен! Была ведь девочка-припевочка, тонкая-звонкая, пела целыми днями, птичка прямо. Посуду моет – поет, картошку чистит – поет. Белье на речке стирает – и то поет. Я ж лейтенантом в таких местах служил, что тебе и не снилось. И чего? Чего стало-то с той девочкой? Кажется, живи – не хочу, так нет! Каждый день что-нибудь! То вопит, что устала тут, в глухомани и что в Москву хочет или хоть в Самару какую-нибудь. То ругается, что храплю. То рыдает, что толстая.
– Ну…
– Ну толстая, да! Я ж не жалуюсь, что она толстая. Я и сам не Ален Делон. Говорю, как в кино американском – что красивая, что люблю. Ну, всю эту хрень. Не помогает ничего. А сегодня – вообще атомная катастрофа, Хиросима с Нагасакой натуральные. Поехала в город, чтобы платье забрать: заказала в ателье чуть не три месяца назад. У жены комполка послезавтра день рождения, надо ей выглядеть, фуе-мое. Ну и забрала. Я на обед пришел – а нет обеда ни хрена! А она на кровати лежит и воет. Кончик, я те серьезно говорю: прям воет как волчица!..
Отличное все-таки место – эта комнатушка, много можно услышать. А люди – идиоты. За редким исключением. В армии, похоже, вообще все, поголовно, вне зависимости от должности и звания. Задняя стена внизу глухая, а наверху узкое оконце, в которое звуки, как в пылесос, всасываются. И ведь башку вверх задрать мозгов не хватает ни у сержантов, ни у майоров. Так что сиди себе, Барганов, слушай, на ус мотай.
Ему, конечно, повезло, и еще до того, как ушел на дембель прежний художник-оформитель. Желающих на это место было немало, но он вовремя успел и ротному доложить о своем дипломе, и помочь дембелям с альбомами. Так что по факту не нашлось никого, кто мог бы лучше рядового Барганова написать «Береги Отчизну, солдат!» и срисовать с открытки мужественное лицо этого самого солдата, не сделав его похожим на хорька.
А первое везение – что не попал в Чечню. Все знакомые пацаны боялись, что отправят туда, сразу после призыва или потом. Ходили слухи, что товарняки с «грузом 200» приходят на станцию каждую ночь, что разгружают их тайно и хоронят так же. А родителям выплачивают бешеные деньжищи за убитого, чтоб молчали и не жаловались, а если спросят их, как там сын, чтоб отвечали: все нормально, служит себе, а после, возможно, и на сверхсрочную останется.
Но на то они и слухи, что не проверишь. Андрей понимал, что раз война – то и трупы должны быть, но про себя почему-то твердо знал: его туда не пошлют. Этого просто не может быть.
Второе везение – что успел призваться до того, как срок службы все из-за той же Чечни увеличили до двух лет. В казарме и лишняя неделя – не пайка сахара, а шесть дополнительных месяцев?
И третье – что попал в этот военный городок в Приуралье. Климат, конечно, не курортный, но места красивые и сам городок ничего: красные кирпичные казармы, ангары для техники, клуб с колоннами (на Большой театр смахивает, только поменьше), бараки для неженатых лейтенантов и всякой вольнонаемной шушеры, хрущевки для женатого комсостава. В центре водонапорная башня, похожая на остатки средневекового замка. Все ухоженное и чистое, хоть и слегка уже облезлое. Нормальное место.
И командование вполне себе ничего. Пацаны в казарме трепались, что «Батя», то есть комполка – кореш чуть ли не самого Грачева и что за рюмкой чая тот обещал батиных парней не трогать и в Чечню не отправлять. Еще говорили, что в этом полку даже при Союзе дедовщины не было, что комполка – правильный мужик и держит личный состав в ежовых рукавицах.
Насчет дедовщины – это как сказать. Всякое бывало за эти полгода, но в целом без криминала; а к тычкам и затрещинам, к скрытой и явной враждебности Андрею было не привыкать. И то, что страха в нем не было, было легко понять любому. Люди как собаки – чуют, если их боятся…
– Ты, Кончик, парень молодой, скажи, как с этими бабами управляться-то? – Баритон Погремухина стал как будто поспокойнее, не истерил, как затюканный дедами салабон. – Я ж так и ушел из дома не жрамши. И вечером домой идти боюсь. Мне, блин, и так забот хватает! Из округа могут приехать, надо ж все в порядок привести, а тут…
– Да у меня с бабами как-то не очень…
Андрей хмыкнул, но тут же зажал себе рот рукой. Кончик – носатый, белобрысый и худой, как глиста, точно не тянул на героя-любовника.
– Жалко, Кончик. Жалко, блин!
– Да ничего, Сан Михалыч, я нормально. – В хрипловатом тенорке Кончика (вчера на плацу связки сорвал) отчетливо слышалось показное бодрячество.
– Да не тебя мне жаль, мне, блин, себя жалко! Ты вот что скажи: вроде у Зайченко жена шить умеет? Ну, этого, из мотострелкового батальона.
– Не могу знать, товарищ майор!
– Не могу знать, не могу знать! – передразнил капитана Погремухин. – А надо знать, чем, так сказать, боевые товарищи живут и дышат! Че делать-то, блин? Может, сходишь и узнаешь у Зайченко? Может, его баба с Нинкиным платьем помудрит, переделает как-то? Я этот вой больше слышать не хочу, мне, блин, борща надо и мирное небо над головой!..
Андрей выводил последнее слово в заголовке стенгазеты «Ты сильней и крепче год от года, армия российского народа!» Н А Р О Д А. Восклицательный знак. Отлично.
Месяц назад он обнаружил в углу каморки целую стопку советских плакатов и методичек и теперь пользовал их в хвост и в гриву: перерисовывал и переписывал, меняя красный флаг на триколор, а «советский» на «российский». Этот вот лозунг – на все времена, для всех годится, даже после развала Союза. «…крепче год от года армия армянского, грузинского, таджикского народа!» Кто там еще у нас? Казахского? Украинского? Не, в ритм не ложится.
Так. Теперь сюда фото нужно присобачить, тут – пару изгибов георгиевской ленточки пустить и красных гвоздик намалевать. Три, наверное, чтоб не как на похороны. А за окном тихо стало. Ушли, наверное. И Кончик, у которого «с бабами не очень», и голодный Погремухин.
Может, надо было выйти, напомнить, что он закончил швейное училище, спасти майора и его толстую Нинку, а себе очков захавать? Нет, лучше не высовываться. Продолжать слушать и подмечать, аккумулировать тайное знание, сортировать его – высший, первый, второй. Что-то может и в брак пойти, но это не беда.
В его копилке уже собралось немало фактов и фактиков, одни из которых тянули на гауптвахту, а другие – не меньше чем на статью (и не газетную, а уголовную). Он помнил фамилии офицеров, которые используют солдат для личных хозяйственных нужд. Знал, что старшина частенько выдает новое обмундирование не новобранцам, а дембелям. Пацаны из роты обеспечения за бабки неурочно давали горячую воду. В их части (как, наверное, везде) тырили с пищеблока и гнали налево консервы, масло, перемороженные брикеты мяса. Один из каптеров, Артур Хузроков, даже вынашивал глобальный бизнес-план: выйти на командира части с предложением купить пресс для сплющивания консервных банок и продавать жесть (кстати, интересно, сколько тушенки сжирает за сутки их полк?). Были и более личные, но от этого не менее полезные сведения: например, о романах между неженатыми офицерами и женами их начальников. Кстати, папочек с фамилиями Кончика и Погремухина в его мысленном архиве до сегодняшнего дня не было…
Прорисовывая тени на лепестках гвоздики, Андрей не заметил, как в отдалении хлопнула дверь, а через секунду в комнату вошел капитан Кончик.
Нина Владимировна Погремухина уже отрыдалась. Когда Кончик и Барганов зашли в ухоженную погремухинскую двушку (майор открыл им дверь и свалил, сославшись на неотложные дела), она, одетая в голубой стеганый халат, сидела на кухне перед бутылкой коньяка, уже наполовину пустой. Андрей непроизвольно поморщился: иметь дело с расстроенной, да еще и пьяной женщиной никакого желания не было.
Но голос у Нины Владимировны был совершенно трезвым, хоть и усталым, а из-за потекшей туши и размазанной помады она была похожа на грустного клоуна.
– Здорово, Кончик. Какими судьбами? И как ты, кстати, вошел?
– Здравия желаю, Нина Владимировна. Да тут, понимаете…
– Понимаю. Мой вам открыл, а сам сбежал. Боится. – Погремухина изобразила лицом зверскую гримасу. – А ты, Кончик, значит, смелый? И кто это с тобой, такой хорошенький?
Кончик, хоть порой казался мямлей, в этот раз проявил себя настоящим орлом: представил рядового Барганова и доложил по форме, что майор Погремухин, то есть Александр Михайлович, то есть ваш законный супруг, прислал этого э-э-э… портного (Андрей зыркнул на Кончика, но ничего не сказал), чтоб он решил вашу э-э-э… проблему. После чего оставил Андрея наедине с Ниной Владимировной, а сам рысью поскакал к Зайченко в надежде позаимствовать у его жены швейную машинку.
Погремухина оказалась отличной теткой: душевной и юморной. На несколько минут она удалилась в спальню и вышла оттуда походкой манекенщицы. Андрей с трудом промолчал, но, когда Нина Владимировна подошла к трюмо, хрюкнула, а потом и захохотала, Барганов тоже перестал сдерживаться.
Исправить цветастое творение портнихи по имени Валентина и фамилии Белоноженко, которую Погремухина с подачи Андрея тут же переименовала в «Криворученко», не было никакой возможности. Нина (она сразу велела называть ее только так) выпирала из платья сверху, снизу и по бокам, грудь вываливалась, объемистый зад задирал подол сантиметров на тридцать. В общем, выбрать для величественной фигуры майоровой жены такой фасон, приталенный и декольтированный, мог только человек с полным отсутствием не только вкуса, но и мозга.
На поездку в город за новым отрезом времени не было, так что Андрей с благословения Нины проинспектировал ее запасы. Баечка на халатик, ситчик на сафаранчик, бязь и жесткое льняное полотно – на постельку. Нежное поименование тканей и умиляло Андрея, и злило: ничего из этого не годилось на парадно-выходное платье, в котором Погремухина мечтала блеснуть на гарнизонном сабантуе.
– Так, а это что? – В бледных залежах ситчика и баечки промелькнула глубокая синева.
– Нет, Андрюша, это не годится. – Нина Владимировна, усталая, грустная, так и не смывшая с лица клоунские краски, махнула рукой и грузно присела на диван. – Это я шторы в зале хотела поменять. У нас тут южная сторона, солнце жарит целый день, думала что-нибудь темненькое повесить к лету.
– Нина, я все-таки посмотрю, хорошо? – Андрей развернул отрез. Идеально. Цвет вечернего неба с едва заметными серебряными штрихами. Да, ткань более плотная, чем нужно на платье, но это ничего. Силуэт – трапеция, сзади будет чуть длиннее, буквально сантиметров на пять-семь. Сбоку небольшой разрез (ноги ниже колена у Погремухиной – длинные, идеальной формы, вполне можно показать), а стоячий воротник, присборенный, викторианский, как раз подойдет по стилю к высокому узлу прически…
– Андрюша! – Танька плюхнулась рядом с ним на подоконник. – Кто звезда? Я звезда! Нашла тебе еще пару заказчиц, тебе понравятся. Вон, видишь, рядом с Ирочкой стоят: одна сутулая, как Баба-яга, другая – недомерок без груди. Прямо в твоем вкусе. – Танька засмеялась. – И чего тебя так к уродинам тянет, как муху на… Ладно-ладно, не сердись, помню я, что тебе интересно их красавицами делать!
Андрей поморщился и встал:
– Тань, не дребезди. И пойдем уже, нам пора. Ты телефоны взяла у этих девиц? Вечером позвоню, сейчас некогда.
Уже подходя к двери, Андрей увидал Ханкина, которому один из однокурсников закричал издалека: «В чем сила, брат? В бицепсах и трицепсах?» И радостно заржал.
Все с ума посходили с этим «Братом», цитируют по поводу и без. Тоже мне нашли героя нашего времени – тупого и бездарного Данилу Багрова. Хотя в чем-то он и прав. Отчасти. Потому что сила и в правде, и в деньгах. Они как инь и ян, как нить и игла, как лицо и изнанка. И у него, Андрея Барганова, все будет отлично. Потому что с правдой у них отношения близкие, считай, родственные, а скоро и с деньгами будут такие же.
Андрей толкнул тяжелую дверь. В лицо швырнуло снежную кашу, замешанную на бензиновой вони. Из припаркованной у тротуара тонированной «девятки» неслось надрывное «…идет по плану! Все идет по плану!» Андрей улыбнулся, кинул короткий взгляд на Таньку и вышел первым.
III
Андрей
Андрей не любил пуговицы. Все без исключения, даже не фабричные, вырезанные или отлитые вручную. Что толку от декларируемой уникальности, если ты отличаешься от десятка соседей-униформистов только одной неявной деталью? И как заставить равнодушный взгляд выделить тебя из ряда других, таких же эксклюзивных и абсолютно одина- ковых?
Заходя в бутики дорогой дизайнерской одежды, Андрей рассматривал костюмы, блузы, пальто и, казалось, слышал, как пуговицы орут – кто в два, а кто и в четыре горла: «Я не такая, как все, кромка у меня ровнее и цвет ярче! Я особенная: на оборотной стороне у меня царапина. Пусть ее не видно, но она отличает меня от всех остальных! Посмотрите на меня!» Люди приходили в магазин, примеряли перед зеркалами одежду, и пуговицы – одна за другой – послушно совали голову в петлю. Потом из петли. И снова в петлю. Бесконечная казнь без надежды на смерть.
Молниям было легче. Ни одна из них не претендовала на индивидуальность и не требовала времени на особое обхождение. Вж-ж-жик! И готово. Даже простодушная липучка, нейлоновая сестра репейника, нравилась Андрею больше пуговиц. Она была хотя бы забавной: беззвучно хваталась сотнями крючковатых лапок за тысячи петелек и возмущенно шикала на тех, кто разрывал эту судорожную хватку. А пуговицы, эти безмолвные одежные солдаты, стоящие на страже тепла и морали, всегда были готовы предать. Они так и норовили вывернуться из петельной удавки, выставить на всеобщее обозрение затертые кружева лифчика или складки застиранных трусов, разрешить ветру хватать холодными руками голые шеи. Самые отчаянные из пуговиц тайно перетирали нитяные путы и дезертировали с места постоянной службы. Пыльная щель в полу, лужа с зеркальным отпечатком домов и деревьев, жирная глинистая каша дорожной обочины становились для беглецов вековечным убежищем.
За всю свою недолгую карьеру Андрей сшил всего две вещи на пуговицах. Одну – для несостоявшейся тещи, Танькиной матери, женщины выдающейся глупости и столь же впечатляющих размеров. Липучки были слишком грубы для невесомой струящейся ткани – серо-стального итальянского крепдешина; а молния, даже самая тонкая, бугрилась на квадратной спине горным хребтом, невысоким, но выразительным. И Андрей, пробежавшись по любимым магазинам фурнитуры, купил десяток овальных полупрозрачных пуговиц. Они были похожи на леденцы, их хотелось положить в рот и катать там до томной сладости, до полного растворения. Андрей нежно, всего несколькими стежками закрепил пластмассовые кругляшки на положенных местах, мимолетно позлорадствовав: он не купил ни одной запасной, так что в будущем несчастной дуре придется изрядно помучиться, подыскивая замену.
Вторую вещь с пуговицами, точнее, с одной, авторской работы, огромной, размером почти с кофейное блюдце, он сшил для Капли.
Эту странную женщину-девочку Андрей часто видел на показах второсортных и начинающих дизайнеров, где стал бывать после расставания с Танькой. Небольшого роста, с узкими плечиками – чуть больше размаха крыльев канарейки. Двигалась она рывками и будто вразнобой, с пластикой марионетки. На выступающих планках ключиц сверху крепилась изящная шея, на ней голова: удлиненная, с большеротым лицом и взъерошенным стожком светлых волос; снизу – девчоночье безгрудое тело, тонкие руки с бледными кистями и ноги с красивыми округлыми коленями.
Она необычно одевалась, и Андрей долго не мог понять, шьет ли Капля свои немыслимые шмотки сама или отоваривается в специализированном секонд-хенде, куда свозят барахло, надоевшее европейским и американским фрикам. Даже летом на ней можно было увидеть узкое пальто – фиалкового цвета, длинное, мягкое на вид, с огромным капюшоном, который болтался на спине раскрытой пастью бегемота. Еще одной любимой Каплиной вещью был полосатый зелено-оранжевый свитер, связанный из пряжи толщиной в карандаш.
Ее юбки были коротки по полной незаметности или, напротив, длинны настолько, что ими можно было заметать следы. Брюки она тоже носила: галифе, шаровары, бриджи, цветастые, полосатые, в змеящихся орнаментах – любые, кроме скучной сине-черной классики. Но однажды она пришла в штанах, которые Андрея просто заворожили. Они были сшиты из сотен кусочков разной фактуры и цвета. Бархат соседствовал со штапелем, плотный индийский шелк – с мелко-рубчатым вельветом, английская шерсть – с африканским, вручную окрашенным хлопком. Бордовый и лазурный, салатный и охристый, маренго и фисташковый, нежный пепел розы и плюющаяся цветом фуксия – здесь было все. До полного умопомрачения идею доводили декоративные швы и мережки, пристроченные обрезки кружев, мелкие цветы, вышитые бисером, нитками мулине и шелковыми лентами.
Андрей знал, как называется этот фантастический стиль: крейзи-пэчворк, развлечение скучающих английских леди и идеальных американских домохозяек. Безумные штаны и их носительница подходили друг другу как нельзя лучше. Андрей весь вечер пялился на Каплю и не удивился, когда после показа она подошла и предложила поехать к ней, на Калужскую – «потусить».
Под утро, когда компания из художников, дизайнеров и просто любителей выпить на халяву покинула тесную двушку, Капля нашла Андрея на кухне, где он спал, положив голову прямо на стол.
– Эй. Тебя Андрей зовут? Все уже ушли.
Он вскочил, потер лицо. Капля стояла совсем близко и смотрела на него снизу вверх. Ее глаза были цвета вываренных почти до белизны голубых джинсов; от нее пахло корицей, земляничным мылом и как будто нафталином, как в мамином гардеробе. На ней все еще были те самые штаны. Андрей опустился на табуретку, медленно провел ладонями по Каплиным ногам – от бедер до колен и обратно. Закрыл глаза. Снова пробежался пальцами. Бархат. Шелк. Кружево. Бисер. Теплая кожа. Запрокинутая голова. Учащенное дыхание. Влажные тела на несвежей постели.
Он застрял там на пять лет.
Это произошло как-то само собой. Будто кто-то решил, что Андрею можно дать передышку. Будто кто-то знал, как он устал нажимать на кнопки чужих звонков, слушать звучные переливы и рвущий тишину звонкий треск (у Вальки был именно такой звонок, занозистый, как неструганая доска). Будто кого-то так же, как Андрея, оскорбляла необходимость просить об одолжении – если не словами, так действиями.
Он задержался у Капли до следующей ночи, потом еще на сутки. После они сходили на какой-то показ, и вечером, когда все участники очередной пьянки разошлись по домам, он снова остался. Они ели, пили вино и чай, выходили из квартиры и возвращались, ложились в постель и вставали из нее. На кривом гвозде, вбитом прямо в стену у входной двери, висело два комплекта ключей, и Андрей однажды автоматически сунул его в карман. И этот факт, и само присутствие Андрея Капля принимала как растения – изменение погоды: без удивления, сопротивления, радости или печали.
Через неделю после того, как Андрей перевез к Капле свои немногочисленные пожитки, она ушла из дома на целый день, а вечером вернулась не одна. Когда Андрей вышел в прихожую, там стояла девочка в зеленом болоньевом пальто и коричневой шапке с раздерганным помпоном. Капля уже разделась и, уходя в ванную, равнодушно сказала:
– Это Фло. А это Андрей. Я в душ.
Андрей не понимал, что ему делать. Помочь девочке раздеться? Покормить ее? Что вообще делают с детьми? Он растерялся настолько, что даже не поздоровался.
Фло тоже молчала. Стояла и смотрела на Андрея, чуть мимо него, как будто за его спину – ему даже захотелось повернуться и проверить.
В ванной зашумела вода, голая Капля высунулась из-за двери:
– Не стой тут. Раздевайся, руки помоешь на кухне. В холодильнике… Ну, найди там что-нибудь. А потом спать. Давай-давай. – Тон ровный и холодный, как неподключенный утюг.
О том, что у Капли есть дочь, догадаться заранее было почти невозможно. Потом, специально приглядываясь, Андрей заметил в ванной бутылку с детским шампунем, а на галошнице – маленькие тапочки. В меньшей комнате, которая по факту оказалась детской, стояла в углу коробка из-под обуви с десятком тоненьких книжечек, полосатым мячом и голой растрепанной куклой. Еще позже он узнал, что у Фло есть собственная полка в гардеробе.
Но в целом обстановка детской ничем не отличалась от антуража остальной квартиры: мебель времен кубинской революции; продавленные диваны – навечно разложенные, застеленные линялыми вязаными пледами из секонд-хенда. На вытертом линолеуме повсюду лежали ковры и коврики, до того шершавые на ощупь и пыльные на вид, что Андрей, наступив на них босыми ступнями, каждый раз боролся с желанием вымыть ноги.
Эти ковры цвета лежалой говядины, незадернутые шторы, похожие на тощих висельников, общая неприкаянность вещного мира Каплиной квартиры вызывали у Андрея почти восторженное недоумение.
«На выход» она могла собираться часами: полчаса плескалась под душем, сушила и укладывала волосы, раскладывала на диване свою одежду и ходила вдоль радужного строя, прикидывая сочетания, приглядываясь и даже принюхиваясь. Среди людей была яркой, порою вызывающей; громко смеялась, закидывая голову назад и поднимая ко лбу руки с полусогнутыми пальцами, будто сведенными судорогой.
Дома она вместе с нарядной одеждой снимала оживление, блеск, желание нравиться. Ходила в трениках и растянутых майках, часами лежала на диване с альбомом, рисовала длинные фигуры, закутанные с ног до головы в разноцветное тряпье, одетые в юбки из воздушных шаров, цветов или перьев.
Из еды больше всего любила сыр, несладкую соломку и яблоки – с последними у Капли были особенные отношения, похожие на ритуальные. Яблок она покупала минимум килограмма по три и всегда трех цветов: красные, зеленые и желтые. Способная без колебаний сунуть в рот упавший на пол кусок хлеба, даже не сдув с него пыль, яблоки она тщательно мыла и вытирала. А после, сложив блестящие плоды в таз, ходила с ним по квартире и раскладывала во все свободные емкости, на все незанятые поверхности; иногда сворачивала из полотенец и тряпок гнезда и туда тоже укладывала яблочный «светофор».
Ела их везде, хрустко вгрызаясь в сочную мякоть и обычно не оставляя от яблок ничего, кроме плодоножки. Их Андрей потом находил везде, даже в постели.
Его это раздражало. Иногда, устав от пыльной затхлости квартиры, он устраивал косметическую уборку (на капитальную не хватало ни времени, ни сил, ни имеющихся у него прав постояльца). Сметал с тумбочек пыль и яблочные хвостики, менял постельное белье, чистил ковры истошно орущим пылесосом «Буран», похожим одновременно на космический шлем и шар для боулинга.
– Откуда у тебя этот агрегат? – спросил как-то Андрей, оглохший от хриплых завываний, и с раздражением швырнул на пол шланг, напоминающий пупырчатого удава. – Он старше нас обоих, вместе взятых.
Капля, сидевшая с ногами на диване, взглянула на него с рассеянным удивлением, махнула рукой, в которой каким-то чудом удерживала огромное яблоко, пурпурное с фиолетовым отливом:
– Он всегда тут был. – Она перелистнула страницу глянцевого журнала и снова надолго замолчала.
Охотнику за чужими секретами жизнь с Каплей не сулила богатой добычи, но тем интересней казалась задача. Андрей добывал информацию по крупицам: из разговоров Капли с другими людьми, из ее оговорок, из документов, найденных в серванте.
Вот она со знанием дела поддержала разговор о небольшом городке в дальнем Подмосковье. С неожиданной злостью высказалась о чьих-то родителях, не дающих взрослым детям спокойно жить собственной жизнью, но тут же с кривой усмешкой заметила, что этих сволочей можно использовать и таким образом отомстить. С пылом защищала право женщины распоряжаться собственным телом и ядовито высмеивала экзальтированную неофитку, которая продвигала мысль о греховности не только абортов, но и противозачаточных пилюль.
В паспорте Капля значилась как «Капитолина Ивановна Лапина», а полное имя ее дочери было «Флора». Капитолина, Флора. Кто сейчас так называет детей? Может, они сектанты какие-нибудь? Андрей перебирал старые квитанции, инструкции, какие-то еще бумажные лоскуты, хрупкие, покрытые шелковистым тальком пыли. За закрытой дверью детской негромко стукнуло. Он быстро сунул документы обратно в дерматиновую папку и заглянул к Фло.
Девочка сидела на полу и держала в руках куклу. Он не сразу понял, что головы у куклы нет: она лежала отдельно, на полу, и в первый момент показалась Андрею бледно-желтым яблоком.
– Фло, все в порядке? – Он так пока и не понял, как общаться с этой замкнутой и тихой девочкой, поэтому использовал идиотский полусюсюкающий-полубодряческий тон, от которого ему самому было неловко.
Фло неопределенно помотала головой, лицо ее было спокойным, даже безмятежным.
– Ну ладно. Я тогда пойду? – Андрей шагнул к порогу.
– А мама?.. – Голос Фло был нежно-шелестящим, как рубашечный шелк.
– Мама скоро придет, она ушла по делам. – Черт, да как же вообще разговаривать с этими детьми?! – Ты, может, есть хочешь? У нас есть макароны. Хочешь?
Девочка отрицательно качнула головой, Андрей вышел и с облегчением прикрыл за собой дверь.
Флора была и похожа, и не похожа на мать. Тоненькая и невысокая, она все же выглядела крепкой и выносливой. Ей передалась акварельная прелесть Капли, но Фло будто нарисовали менее разбавленными красками: темно-серые глаза, волосы цвета поджаренной хлебной корочки, русые, а не соломенные брови и ресницы.
Утром Капля уводила девочку в детский сад, по вечерам приводила и легко оставляла ее дома одну, если шла на тусовку. Фло почти никогда не капризничала, ничего не просила, безропотно вставала по утрам и послушно ложилась в постель. Иногда Андрею казалось, что девочка боится матери, хотя при нем Капля ни разу дочь не ударила и даже не повысила на нее голос.
Спрашивать о чем-либо Каплю было бесполезно. Как-то само повелось, что они не рассказывали о себе и вообще мало разговаривали. Обменивались скупыми оценками очередного показа: тебе как, фигня, и мне (о каждой новой коллекции известных модных домов отзывались примерно так же, и это единодушное высокомерие, это созвучное презрение аутсайдеров к чемпионам объединяло их больше, чем что-либо другое). Могли поручить друг другу сделать мелкие покупки. Иногда Капля просила Андрея накормить Фло или уложить ее спать. Но ела девочка мало и быстро, а «уложить спать» значило лишь включить свет в ванной, а позже – выключить в детской.
Фло была – и ее почти не было. Ее незаметность, бесконфликтность и на удивление крепкое здоровье не докучали, не расстраивали, не были помехой удобной и размеренной жизни.
Тем неожиданней оказалась истерика, которую Фло устроила года через полтора после их с Андреем знакомства. Конец мая выдался холодным и пасмурным. Капля, которая обычно болела редко и стремительно (факельно взлетающая температура, лающий кашель, слабость, но всего на три-четыре дня, а после – лишь бледность и усталость, как после затянувшегося визита незваных гостей), в этот раз уже неделю лежала в постели, измученная упрямым вирусом.
Андрей забрал Фло из детского сада, по пути заглянув в аптеку, и, намешав в литровой банке морса для Капли, засел на кухне, придумывая платье для очередной заказчицы. Звук, который раздался из большой комнаты, был не похож на детский крик. Он, казалось, не мог исходить из человека, а больше всего напоминал скрип застывших петель на тяжелой, давно забытой двери.
Когда Андрей вбежал в комнату, Фло уже не кричала, а только хрипло дышала и молотила руками по краю дивана, который от ударов ватно ухал и изредка взвизгивал пружинами.
– Фло, – голос Капли был спокойным, как всегда, – успокойся и иди в свою комнату. Фло. Фло, успокойся.
Девочка не реагировала, и Капля вдруг надсадно и хрипло заорала:
– Пошла вон отсюда! В детскую, немедленно! – На «-нно» у Капли не хватило дыхания, и вместо нее фразу закончил диван, едва слышно икнув от последнего удара детского кулака.
В своей комнате Фло забилась в угол между диваном и трюмо, зажав голову между расставленных коленей, и на попытки Андрея выяснить, что случилось, отзывалась чуть слышными стонами.
Капля лежала, отвернувшись к стене и закутавшись в одеяло. Андрей дотронулся до ее плеча, но она, дернувшись всем телом, скинула его руку:
– Отстань! – Слез в ее голосе не было, только злость.
– Знаешь, что? – Андрей разозлился. – Я, в конце концов, тоже здесь живу. – Капля не поворачивалась, но ему показалось, что она пожала плечами. – Пока, по крайней мере. И я хочу жить спокойно. Так что ты не психуй, а давай объясняй, что случилось. Час назад твоя дочь была совершенно нормальной, а теперь орет, как бешеная, и трясется вся. Ну?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/liliya-volkova-31599254/iznanka/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Лилия Волкова
Изнанка судьбы. Романы Лилии Волковой
У всех и всего на свете есть оборотная сторона: у добряков и циников, событий и явлений, у бескорыстной помощи и показного равнодушия. И хотя чужую изнанку бывает непросто разглядеть, неприглядную правду можно использовать в своих интересах.
Эту нехитрую истину Андрей уяснил еще в отрочестве и тогда же проверил ее на практике. Талантливый, холодный, откровенный до неприличия, к людям он относится, как к разномастным тканям – с отрешенным любопытством исследователя, а на пути к успеху готов, кажется, на все.
Катя – совсем другая: доверчивая и отчаянно влюбленная; юная и совсем не знающая себя. Жизни этих двоих однажды соединятся – словно лоскуты, прошитые невидимой швейной машинкой. И каждому из них предстоит пройти через потери и предательство, познать отчаяние и надежду, почти умереть и возродиться заново – то вместе, то порознь, то совсем рядом друг с другом.
Роман «Изнанка» – пестрое покрывало из разнофактурных материалов, роман о предназначении, о поиске себя, о дружбе и соперничестве, о ненависти и любви во всех их проявлениях.
Лилия Волкова
Изнанка
© Волкова Л., 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей.
Оскар Уайльд
Всякую тайну можно так или иначе узнать, можно выхватить ее из уст другого человека ласками или пытками, но тайна будущего спрятана, утаена от нас так, как будто никакого будущего и никакой тайны и нет.
Нина Берберова
I
Андрей
Слева – облезлая стена гаража. Справа – шершавый бетон панельной хрущевки. За спиной – узкая щель, воняющая дерьмом и блевотиной. Зажали. Все.
Он, конечно, нарывался. На уроки и обратно шел не безопасной дорогой, мимо универмага и химчистки, а хамырями. Проходя по школьному коридору, не опускал голову и не отводил глаза. Наказание за такую дерзость следовало неотвратимо, как день после ночи, как головная боль после пива, украденного из отцовских запасов: пендель, щипок, подзатыльник, мерзкие слова в спину. Но под внимательно-змеиными взглядами учителей его врагам было не развернуться. То ли дело загаженные пустыри, заросшие сорной травой, или полузаброшенные дороги с ржавыми «ракушками» по обочинам. Или, как сегодня, задняя стена обшарпанной хрущобы с зажмуренными глазами окон. Начало ноября. Середина буднего дня. Никто ничего не увидит и не услышит.
Он нарывался. Но сегодня для решающей встречи был категорически неудачный день. Андрей был в обновке – долгожданной, фасонистой. Куртку из мелкорубчатого импортного вельвета мать дошила вчера поздно вечером. Повезло: одна из клиенток купила больше материала, чем нужно на костюм. Брала в Москве, за большие деньги, как сказала мать. Ширина у ткани была нестандартная, осталось много обрезков, которые благодарная заказчица забирать не стала. Даже не обрезков – роскошных лоскутов, из которых мать за пару вечеров соорудила Андрею куртку. Вчера она все гнала его в постель, но он ходил кругами – уже готовый ко сну, наспех умытый и с остатками мятного «Жемчуга» на зубах. «Ты только нос моешь. А щеки? А шею?» – мать отвлекалась от шитья и, лизнув носовой платок, оттирала с его лица то ли реальную, то ли воображаемую грязь. Андрей сердился, прятался в своей комнате, но потом снова вскакивал с кушетки и на цыпочках шел на кухню, где сидела за столом мать. Швейная машинка – старенькая, но надежная, подольский клон безотказного «Зингера», была уже зачехлена. Мать пришивала пуговицы, тоже шикарные, металлические, почти фирменные. Все, последняя! Он выхватил куртку из рук матери, надел – мгновенно! – и вышел в прихожую, к гардеробу с зеркальной дверцей. С синими сатиновыми трусами и клетчатыми тапками куртка, конечно, смотрелась не так чтобы очень. Надо бы джинсы, сапоги вроде ковбойских… Ну и ладно, вещь все равно получилась классная, рыжая, как львиная шкура. И что из лоскутов – совсем незаметно. Умеет мать, не зря заказы косяком идут. А карманы – объемные, с широкой обстрочкой – он придумал сам, точнее, подсмотрел у актера во французском боевике. Как там его?.. Да неважно! Андрей встал перед зеркалом прямо, повернулся в профиль, втянул живот и выдвинул челюсть.
– Ну что, доволен? – С кухни вышла мать, снова что-то стерла с его щеки. – Когда ж ты умываться научишься? Такой большой, а…
– Нормально. Пасиб. Я надену завтра? – Увертываясь от ее руки, неловко и болезненно изогнул шею. Вельветовый воротник мягко прильнул к ней, будто обнял.
– А не застынешь? Вроде мороз обещали.
– Я свитер пододену. Все, я спать! – Последние слова он выкрикнул шепотом уже из своей комнаты. Там аккуратно снял куртку, повесил на спинку стула, сдвинул его ближе к изголовью кушетки. Приподнял один рукав и устроил рядом с подушкой, лег, положил руку на бархатистую ткань и моментально уснул.
Сейчас он стоял, зажатый в вонючем углу, и жалел только об одном: что не додумался снять обновку и сунуть в сумку. Напротив стояли враги. Их было трое: Калякин, Калашов и Никонов.
Заводилой был Петька Калякин, которого Андрей помнил пухлым малолеткой, шкодливым, но добродушным. Уже во втором классе Калякин сполз с неуверенных «четверок» на полновесные «трояки»; а в нынешнем восьмом не слишком успешно балансировал между «удом» и «неудом» по всем предметам, включая поведение. За последний год он сильно изменился: Андрею иногда казалось, что Петька вырос раза в два – и в высоту, и в ширину. Вечно какой-то замызганный, с огромными ногами в уродливых ботинках местной артели, с лицом, напоминающим разваренную картошку в мундире.
– Ну что, Барганов, допрыгался, говнюк? Довыступался, сморчок. Страшно, да? А ты не бойсь! Мы тебя постепенно. Сначала вот Серёня тебя маленько…
Калашов, которого все и всегда называли только Серёней, внешне был полной противоположностью Калякина: стройный, даже изящный, невысокий – всего на полголовы выше самого Андрея, все восемь школьных лет стоявшего на физкультуре последним. Серёня неплохо учился; кажется, даже читал книжки. Только в лице его была какая-то мерзотность и почти неуловимая схожесть то ли с крысой, то ли с хорьком.
– Давай, Серёня, готовсь! И ты, Никонов, тоже! Че ты там? Иди сюда, придурок!
Зачем Калякину в его свите понадобился Никонов – сутулый, почти горбатый парень с унылым лицом и непропорционально длинными руками, Андрей мог только догадываться. Похоже, Петьке просто нравилось иметь неограниченную власть, пусть даже над недоумком. Но ради этого терпеть Никонова? Каждый день, не только в школе, смотреть на его слюнявый полуоткрытый рот; на то, как длинными пальцами он без конца ковыряется в носу, вечно заложенном, делающим его голос тошнотворно гнусавым? А хуже всего было то, что Никонов жрал свои сопли! Андрея передернуло.
– Че дергаешься, Барганов? Страшно? Или холодно? Че, не греет куртец? Пацаны, прикиньте, какой у этого недомерка куртец модный! – Калякин смачно поцокал языком. – Откуда, Барганов? Папаша из Ма-асквы привез? Он же у тебя ма-асквич бывший, кажется? Или мамаша у клиентов матерьяльчик притырила? Моя мать говорит, что она от каждого заказа хоть кусочек, да урвет. Слышь, а твой папаша себе бабу по размеру подбирал – той же тараканьей породы?
Андрей молчал. И даже не шевелился. Только что-то дергалось над левым глазом и подрагивали губы. Не от страха. От слов, готовых сорваться с языка, от недавно обретенного знания, пока некрепкого, не проверенного настоящим делом. Еще даже не знания – подозрения.
– Никонов! – Калякин обернулся. – Ну, где ты там? Опять сопли жуешь? Мля, не подходи ко мне! Вытри руки, придурок! О! Точно! Давай, вытирай! Об куртец баргановский! Мяконько будет! – Калякин заржал и, зайдя за спину Никонова, распяленной ладонью толкнул его на Андрея.
Ни увернуться, ни оттолкнуть Никонова Барганов не успел; вымазанные в слизи пальцы ткнулись куда-то в плечо. Или в грудь. Он не понял. Но именно это прикосновение сработало как спусковой крючок – и он заговорил, глядя Никонову прямо в лицо. Лицо человека, которого он, наверное, мог бы даже пожалеть – если б все сложилось иначе.
– Ты дебил, Никонов. Ты хоть догадываешься об этом? Хоть на это твоих убогих мозгов хватает? А знаешь, почему ты дебил? Потому что отец твой – алкаш. И всегда был алкашом, и мать твоя боялась от него рожать, потому что от алкашей только дебилы рождаются!
Уже после первых слов Никонов стал пятиться, не отводя от Андрея широко раскрытых, почти выпученных глаз. Двигался он медленно – будто хотел непременно дослушать до конца.
– Ты, Никонов, уже так свою мать достал, что она тебя в интернат для дефективных хочет сдать. И будут там тебя всякой дрянью колоть. И проживешь ты там, Никонов, всю свою жизнь и сдохнешь там, привязанный к кровати, никому не нужный, вообще никому!
Последнюю фразу Андрей почти выкрикнул и, казалось, вместе со словами вытолкнул из легких весь воздух, весь до последнего глотка. На мгновенье дыхание перехватило. На долю мгновения.
– Так. Кто там у нас следующий? Серёня у нас следующий!
Никонов, сообразивший, что с ним разговор закончен, сказал в пространство – с паузами, будто во сне: «Мне домой. Я домой» и побрел прочь. Калякин что-то буркнул ему в спину, но потом махнул ручищей и посмотрел на Барганова удивленно и даже как-то весело.
– А ты, смотрю, осмелел, сморчок. Разговорился. Все, что ль? Ну, ща получишь свое! Серёня!
– А вот это правильно. Сейчас Серёня, а потом и до тебя очередь дойдет.
«Правду говорить легко и приятно», – вспомнил Андрей. Отец часто говорил эту фразу, когда уговаривал его признаться в чем-нибудь постыдном. Вроде это из какой-то знаменитой книги. Андрей не читал и отцу не верил, а зря. Так и есть.
– Ага, Серёня. Он у нас ссыкун. Ты знал, Калякин, что твой лучший друг ссытся в постель каждую ночь? И под простыней у него – у тебя, Серёня! – клеенка, как у сосунка. И как же тебе в институт ехать поступать? В общаге-то как? Тоже клеенку подстилать? А с бабой в койку как? Заснули сухие, проснулись – в луже! Мать тебя по врачам таскает, только без толку. Всю жизнь будешь ссаться и мочой вонять!
Остолбеневший Калашов вдруг очнулся, кинулся на Андрея, дал под дых, потом с размаху вмазал по лицу, стал совать мелкие кулаки в подбородок, в скулы, в нос. На верхнюю губу Андрея потекло горячее и соленое, и он засмеялся разбитым ртом.
– Ну, Калякин, вот и твоя очередь пришла!
– Заткнись, гад! Молчи, гнида! – Петька пытался отодвинуть от Андрея мельтешащего Серёню, задвигая их обоих в тесный вонючий угол.
– Эй, нет! – Андрей потянул носом кровавую жижу, сглотнул, ощерился. Он был сейчас как перегретый паровой котел: давление росло, распирало изнутри грудную клетку и гортань, давило на небо, добавляя голосу вибрирующих обертонов. – У твоего отца, Петька, рак. И осталось ему пару месяцев, не больше. А тебе не сказали! Потому что ты, Петька, отца любишь. Он же герой у тебя! Танкист бывший, в Афгане воевал. Ты же любишь его, да? Он, может, единственный человек на земле, кого ты любишь. Мать-то твою за что любить? Все знают, что она гулящая и спит в гостинице с командировочными, когда на смену выходит. Скоро ты, Петька, с одной только матерью останешься…
Калякин бил Андрея ногами, заодно попадая по Серёне. Тот в конце концов отполз в сторону; сидел, скорчившись, на земле и подвывал. Калякин тоже, кажется, плакал – если считать плачем хриплый звериный вой, который Андрей слышал сквозь грохот в ушах. Пульс бил в барабанные перепонки одновременно торжественно и тревожно. Но он удачно упал: кувалды калякинских ног не доставали до головы, били в основном по нижней части свернувшегося в почти клубок тела. Но и туда взбешенный, слепой от ярости и боли Калякин попадал через раз: ватные удары по живой плоти чередовались с беззвучной долбежкой по стене хрущевки; каждая встреча тяжелых ботинок с металлом гаража знаменовалась дребезжанием, переходящим в гулкий, почти колокольный звон. Этот набат спас Андрея от смерти: рано или поздно Калякин, конечно, догадался бы пустить в ход руки-оглобли и вытащить врага из спасительной щели. Но тут над их головами с треском распахнулось окно, и визгливый голос проорал:
– Пошли вон, недоноски! Нет покою от вас, выродки! Каждый день кому-то морду бьют!
Вопли из окна произвели на Калякина эффект, противоположный тому, на который, видимо, рассчитывала нечаянная Андреева защитница: он стал молотить по врагу чаще и прицельнее.
– Вон пошли, вон, во?о-он! Милицию вызову! Милиция, милиция! Ноль-два! Ноль-два! Набираю, набираю уже!
Надежда на скорое окончание экзекуции подействовала на Андрея как анестезия: пинки отдавались уже не болью, а сгустками жара. Вспыхнув в ногах, они прокатывались по телу, разлетались жалящими искрами внутри черепа; и на какое-то время Андрей перестал воспринимать реальность и себя в ней. А когда очнулся, понял, что стало тихо.
Он выбрался из расщелины между гаражом и стеной дома, поднялся на слабые ноги, медленно прошел несколько метров. Подобрал свою сумку. Достал первую попавшуюся тетрадь, вырвал несколько страниц, морщась, обтер лицо, высморкался. Посмотрел вверх: солнца видно не было, но свет пробивался сквозь туманную пелену и заставлял щуриться. Сузив глаза, Андрей глядел на низкое белесое небо – долго, пока с лица не сошла неосознаваемая гримаса боли. Опустив голову, он заметил в окне плохо различимое лицо и улыбнулся ему разбитыми губами. Цветастая штора задернулась резко, со странным звоном, слышным даже через стекло.
Он стянул с себя куртку, бросил ее на землю, тут же, рядом с клетчатыми листками, густо усеянными кровавыми кляксами. И потом, позже, он ни разу не купил и не сшил себе ни одной вещи из вельвета. Но в 1999 году вышла песня, которую он полюбил сразу и навсегда: Сантана и Роб Томас, «Smooth». Если б звуки можно было потрогать руками, эта музыка на ощупь была бы точь-в-точь как та куртка: рыжая, мягкая, в бархатистый рубчик. С пустыря, где осталась лежать его изгаженная обновка, Андрей шел в одном свитере, со вкусом крови во рту и твердой уверенностью в том, что его побили в последний раз. Потому что тех, кого боятся, не бьют. Сторонятся. Ненавидят. Могут убить. Но не бьют.
Дома никого не было: отец уехал в какой-то колхоз за материалом, мать минимум до шести на работе. Прямо в коридоре Андрей разделся до белья, сваливая грязную одежду на пол; встал перед зеркальной дверцей гардероба. На разбитое лицо смотреть было неприятно, но он смотрел. И на него из зеркала жестко и внимательно глянул кто-то новый, еще вчера незнакомый. Не отводя взгляда, Андрей одним движением дернул вниз трусы, переступил через них, ногой откинул в сторону синюю сатиновую тряпку. Линолеум приятно холодил горящие ступни.
Он рассматривал свое тело как чужое: рассудочно, отстраненно, почти равнодушно. На ногах, на бедрах – бордово-черные пятна. Есть и на груди, но немного. Он повел плечами, глубоко вздохнул. Кости целы, даже ребра не сломаны. Это хорошо. А синяки сойдут. У матери в холодильнике мазь от ушибов была, надо намазаться после душа.
Душ. Душ – обязательно, да. Пока Андрей шел домой, ему казалось, что он насквозь провонял заплеванным пустырем, что от него несет Калякиным и Калашовым, ссыкуном Калашовым – особенно. Но сейчас он пах только самим собой. И победой. У нее был кисловато-резкий запах пота и железистый вкус крови. Все это надо смыть.
Он снова окинул взглядом худощавую фигуру в зеркале. Росту бы прибавить – хоть сантиметров двадцать-тридцать. Но это вряд ли. Он и так почти перерос отца, а мать еще ниже. Но это ничего. Многие великие люди были небольшого роста.
А фигура нормальная у него. Мужская. И все остальное, что мужику нужно, тоже уже не детское. С женщиной он еще не был, обходился своими силами, но слышал, как пацаны говорили, что есть одна, Светкой зовут, которая дает всем. Даже адрес называли: в конце Коммунистической, в частном доме, где резные наличники. Главное, договориться заранее, вина купить или водки и сладкое еще. И презики надо, раз она со всеми подряд. Деньги мать даст, наверное, если попросить.
А может, и не пойдет он к этой Светке. Он теперь не такой, как все эти сопляки, которые только и думают, кому всунуть; он может и подождать. И найти достойную. Может, не «единственную», про которую в сериалах трындят, но такую, чтобы… Ну, чтоб она тоже была не такая, как все. И чтоб смотрела на него, как мать на отца смотрит: забывает про все, не слышит даже Андрея, если он о чем-то спрашивает.
А на что там смотреть-то? Старый он, пузатый. Нужно будет забрать у него гантели и подкачаться, чтоб бицепсы-трицепсы, кубики на животе и все такое. А гантели все равно без дела стоят: то под кроватью, то под трюмо, то вообще посреди комнаты. Отец зачем-то делает вид, что тренируется, хотя все знают, что его любимое занятие – пялиться в телек, наливаться пивом и листать пухлые альбомы, в которые вклеены газетные вырезки с его статьями…
Босые ноги совсем заледенели. Андрей сгреб с пола кучу одежды и пошел в ванную. В этом году часто отключали отопление и горячую воду, но сегодня и батареи, и трубы почти обжигали. Разбитые губу и нос саднило от воды, но он долго стоял под душевой лейкой, иногда выныривая, чтобы отдышаться. Потом закрыл слив и сел, выпрямив ноющие ноги. И все думал – о том, что случилось за последние сутки, и о том, что будет дальше.
Вчера с долбаных альбомов все и началось. Мать собирает все отцовские работы, даже заметки о падении удоев или об отсутствии в магазинах стирального порошка. Щелкая лезвиями портняжных ножниц, выкраивает из желтоватой газетной бумаги прямоугольники и квадраты; если статья большая, приклеив, аккуратно подгибает края по размеру альбомного листа.
Отец проработал в местной газете черт знает сколько лет, начал еще до рождения Андрея и даже, кажется, до женитьбы; за эти годы в их доме сложился особый ритуал: вечером, после ужина, мать вслух читала свежий отцовский материал. Андрея не выпускали из-за стола, пока мать негромким, не очень уверенным голосом не дочитывала текст до самого конца, до подписи: «Владислав Барганов, специальный корреспондент». Отец в это время сидел с важным лицом, иногда шевелил в такт губами или кивал.
Андрею читки опостылели давным-давно. Он отлынивал как мог: ссылался на необходимость делать домашку, жаловался, что устал или болит голова. Но обычно это не проканывало. Отец сердился, надувался как жаба – особенно если успел выпить. Сначала он бурчал: «Этому недоумку ничего не интересно». А потом начинал нудеть, что из Андрея вырастет в лучшем случае дворник, но скорее всего – уголовник, как из всех, кто имел несчастье родиться в этом убогом городишке. Тут вступала мать: «Андрюша, сынок, ну как же? Кого же еще слушать, если не папу? Гордиться надо, что у тебя такой отец! Если бы не завистники, он бы давно в Москве был, в центральной газете работал, а может, даже на телевидении! Нашему городу повезло, что папа сюда приехал, и мне повезло, что я его встретила!» Тут мать и смотрела на отца. Лицо коровье, даже губа отвисает; а взгляд – хоть на хлеб мажь: то ли масло подтаявшее, то ли магазинное повидло, сладкое до того, что блевать тянет.
С сыном она обращалась совсем иначе. Не плохо, но иначе. Как будто… сука со щенком. Заботилась, кормила, шила и покупала трусы, штаны и куртки, но почти не разговаривала. Спросит, обедал ли и как дела в школе, вытрет облизанным платком очередное пятно на щеке – и все.
Андрей мать жалел – и тогда, когда она смотрела на отца слюнявым взглядом, и вообще. Потому и сидел за столом после ужина, слушал написанные отцом фразы: гладкие и округлые, как яйца вкрутую, и безвкусные, как разваренный лук. О празднике урожая и битве за него, о руководящей и направляющей, о подвиге отцов и дедов, который «ради мира во всем мире» и «останется в веках». Андрей не против, чтоб остался: дед по матери воевал и не вернулся с фронта; в большой комнате на стене висела в рассохшейся рамке его фотография – нечеткая, выгоревшая, но все равно видно, что дед был нормальным мужиком, шебутным и улыбчивым.
Но времени-то с войны прошло!.. Теперь в газетах и журналах можно прочесть даже о том, что наши солдаты не всегда были героями. Что некоторые специально сдавались в плен и даже служили на стороне фашистов. Меняется все! Берлинскую стену вон вообще сломали: столько простояла, а теперь на сувениры растащили.
В отцовской газете был один журналист, Куликов. Он недавно заходил к отцу, они долго сидели на кухне за бутылкой и разговаривали. Отец был жутко вежливым, называл этого Куликова Сергеем Михалычем и так пресмыкался перед гостем, что казался липким. Когда Андрей зашел на кухню, чтобы попить, отец засуетился, стал рассказывать, какой сын молодец, и хвастаться его вторым местом на школьной олимпиаде по географии; хотя три дня назад, когда Андрей получил грамоту, он даже не поздравил. Сидел, как часто по вечерам, на кухне с бидоном пива, пересушенной воблой и солеными баранками. Пиво было цвета мочи и воняло ею же; отец, вливая его в себя, тоже становился мутным и дурным; лицо его приобретало желтый оттенок – как у свечей, которые мать таскала из церкви. Грамоту, оставленную Андреем на кухонном столе, отец схватил рыбными пальцами, прочитал и отшвырнул в сторону, пробормотав что-то вроде: «География, млять! Кому на хрен нужна эта география?»
Когда Куликов ушел, отец допил оставшиеся полбутылки и орал матери на кухне, что Куликов бездарь и хам; что наглость – второе счастье; что любой может написать что-нибудь скандальное и отправить в московскую газету. И еще – что там, в этой газете, такие же бездари, иначе они никогда бы не позвали Куликова к себе на работу. После очередной тирады отца вступала мать: говорила что-то успокоительное, но что именно – не слышно. А отец завелся на полную; и его грубые, тяжелые, как свинчатки, слова, отрикошетив от стен прихожей, от дверей и шкафов, долетали до комнаты Андрея почти невредимыми.
Именно в тот день Андрей убедился в том, о чем он давно подозревал: как раз отец-то и был бездарем. Только поэтому, вместо того чтобы писать интересные или, может, даже скандальные статьи, он просто поливает дерьмом Куликова и других. Андрей подозревал, что и сам отец об этом догадывается. Не дурак же он? Университет окончил и на работе, как пишут в характеристиках, «на хорошем счету». Значит, все он понимает, просто прячет от других этот секрет, стыдный как триппер.
Была у отца и еще одна тайна, о которой Андрей узнал случайно примерно месяц назад. Выставить ее на всеобщее обозрение сразу же было невозможно, немыслимо, нельзя; как и сделать вид, что ничего не было.
Однажды в детстве он чуть было не хлебнул из необычной трехгранной бутылочки, забытой кем-то на столе. Мать с криком выдернула емкость из его руки, почти до обморока напугав сына своей панической реакцией. В бутылочке была уксусная эссенция; и в тот же день мать, встав на табуретку, засунула ее на верхнюю полку кухонной колонки, в самый дальний угол. Андрея до сих пор холодил изнутри давний испуг, когда он видел, как мать отмеряет нужное количество кислоты и разбавляет ее до съедобной крепости. Вторая отцовская тайна была как раз такой, едкой и опасной, как ядовитая эссенция: если не обращаться с ней бережно, она могла навредить не только отцу, но и тем, кто находится рядом. Поэтому Андрей приберег тайну на будущее. Он был уверен: рано или поздно она пригодится.
Вода остыла. Андрей снова включил воду и взял мыло с пластиковой подставки, прицепленной прямо на бортик ванны. От брикетика с мягко-закругленными краями пахло нежно и дорого. Наверняка мыло не было куплено в местном магазине; скорее всего, мать взяла его в качестве платы за работу. В последнее время она все чаще просила частных клиентов расплачиваться не деньгами. И правильно: сейчас, чтобы жить нормально, их одних недостаточно. Магазины из полупустыни превратились в Сахару или Калахари какую-нибудь. Но в их доме не переводилось импортное мыло и стиральный порошок; в холодильнике лежали сыр и колбаса, причем копченая; в шкафчике над плитой стояли дефицитные эмалированные кастрюли с яркими картинками на круглых боках. Молодец мать. А этот… Все время придирается! То ему не так, это не эдак. Вот и вчера: мать еще до ужина вырезала из газеты очередной материал отца, а после, убрав со стола, протерла цветастую клеенку, принесла из комнаты альбом и начала читать.
Андрей даже не успел понять, о чем в этот раз была статья: через пару секунд мать почему-то начала запинаться, а потом и вовсе застряла на каком-то слове. Отец моментально психанул, оттолкнул от себя чашку с недопитым чаем, которая, проехав по столу между матерью и Андреем, с грохотом свалилась на пол.
– Дура необразованная! – Эти слова отец прошипел уже в коридоре. Через минуту он шваркнул дверью спальни.
– Владик! – крикнула мать ему вслед, лицо ее искривилось. – Вот уж правда – дура я! Но тут видишь, – мать трясущимися руками двигала альбом по столу в сторону Андрея, – видишь? Тут бумага замялась и краска смазалась, слово никак не разберешь! Что же делать теперь? Ты же знаешь папу, он меня сразу не простит, еще и завтра будет сердиться. Что делать-то, Андрюша? – В глазах матери стояли слезы.
– Ма, я сам с ним поговорю! – Андрей вскочил. – Давай я тебе помогу убрать тут все. Смотри, чашка всего на две части развалилась, даже склеить можно! И чай с пола я протру сейчас. Вот и все! Давай мне альбом, в комнату отнесу, завтра прочитаем, ладно? А я тебе машинку притащу, ты же куртку мне собиралась дошить. Дошьешь? А с отцом я сам, ты не волнуйся, ладно?..
Сейчас, вспоминая вчерашний вечер, Андрей ощущал удовлетворение и предчувствие чего-то особенного, возбуждающего не меньше, чем картинки из затертого «Плейбоя», который был запрятан у отца в нижнем ящике письменного стола. Сидя в теплой воде, Андрей зажатым в ладони мылом водил вверх-вниз по избитым ногам, которые будто покусывал невидимый зверь. От скользящих прикосновений боль не только переставала быть мучительной, но и доставляла томительное удовольствие, которое хотелось длить и длить. Андрей, закрыв глаза, гладил скользким розовым овалом ноги, грудь, низ живота. И снова грудь, и снова живот, пока мыло не выскользнуло из руки. Через несколько минут он издал протяжный стон удовлетворения – не сдерживаясь, в полный голос. Кажется, стукнула входная дверь. Или показалось? Неважно. Он спустил грязную воду, открыл краны на полную, лег, расслабился и даже, кажется, задремал под уютное бульканье и бормотание. Все же совсем неплохо, что он небольшого роста: ванна как раз впору, даже ноги не нужно подгибать.
Минут через двадцать Андрей вышел в прихожую – счастливый и внутренне собранный. Грязную одежду он замочил в тазу, мать придет – постирает. Придется объяснять, где он так извозился и почему лицо разбито. Но это ничего.
Под дверью залы виднелась полоса света: «специальный корреспондент Владислав Барганов», похоже, вернулся с «важного редакционного задания». Андрей усмехнулся. Ну, что ж. Время почти пришло. Сейчас – в свою комнату, одеться, причесаться, в последний раз отрепетировать придуманные заранее слова, фразы, требования. А потом, не стучась, зайти и закончить то, что было начато вчера. Да, время пришло. Вчера Андрей только намекнул на свое тайное знание и этого хватило, чтоб на отцовском лице появилась растерянность, которая секунду спустя превратилась в отчетливый страх. Страх! Отец его боялся! Его, мозгляка и тупицу, бездаря и лентяя, которому прямая дорога в уголовники! Ну ничего. Скоро отец узнает: то, что было вчера, – это только начало. Скоро все узнают. Все.
КАТЯ
– Ну, вывалились мы из поезда на Ленинградском. Конец июля, жарень – асфальт плавится. Чемоданчики и авоськи в камеру хранения сунули, а сами пробздеться решили – первый раз в Москве-то! Мамкины куры и пышки в пути надоели, да и подтухли маленько, так что купили мы по пирожку с мясом и вышли к площади. К стеночке прислонились, пирожки лопаем. Юбки – мини, короче некуда, ляжки – как окорока свиные, батники самострочные на сиськах трещат. Стоим, значит. Мужик какой-то нарисовался и кругами вокруг нас ходит. А нам-то что? Народу вокруг – тьма, одним больше, одним меньше. Тут он подходит – плешивый какой-то, но одет хорошо, в джинсы и рубашечку с погончиками. Зыркнул на нас и спрашивает, вполголоса и будто в сторону: «Сколько?» Я ему: «Пятнадцать». И дальше пирожок жую. Он удивился – аж рот разинул и говорит: «А че так дорого?» А подружка моя, Надька, на него, как на дебила, посмотрела и как гаркнет: «Так с мясом же!»
Ленка засмеялась первой. Потом разулыбалась Катя, а там присоединилась и сама рассказчица – тетя Люся. Смех у Ленкиной матери был уютный: то ли сова ухает вдалеке, то ли каша пыхтит в кастрюльке.
– Во-о-от! Ленка сразу все поняла! Недаром в Москве выросла, не то что мы с Надькой – кулемы деревенские. Она у нас самая умная в семье. Лен, ты в кого умная такая? В кого красивая – понятно. – Большая и мягкая тетя Люся снова заколыхалась от смеха. – Кать, а ты чего не ешь-то? Давай-ка я тебе еще картошки… И мяско вот. Давай-давай, жуй-глотай! А то вон какая тощая!
Кормили у Хлюдовых на убой. Тетя Люся давным-давно «сидела на продуктах»: начинала с продавца, потом дослужилась до директора продмага. Так что в доме во все времена водились в изобилии и гречка, и сливочное масло, и рыбка в цветах московского «Спартака», и мясо всех сортов и видов, от буженины и перламутрового на срезе балыка до бордовой говядины и атлетически поджарых кроличьих тушек. Когда бы Катя ни приехала, в выходной или будний день, утром или к полуночи, ее всегда приглашали к столу.
Ели Хлюдовы вкусно. Не готовили вкусно (хотя и это тоже), а именно ели. Можно было бесконечно смотреть, как Ленка сочиняет многоступенчатый бутерброд, заговаривая его, как знахарка снадобье: «А вот мы на хлебушек маянезик намажем, и огурчик свеженький то-о-оненькими лепесточками, и ветчинку, и сервелатика чуть-чуть. И сырком дырявеньким сверху накроем, ма-асдамчиком, на машине специальной порезанным. М-м-м…» Наколдованный бутер исчезал в Ленке как в черной дыре – быстро и бесшумно.
А как тетя Люся вкушала маринованные помидоры! Нежно снимала с их тел прозрачные лепестки кожицы, торжественно подносила обнаженный плод ко рту, прикрывая глаза в предвкушении. Катя в этот момент замирала, а после сглатывала вместе с тетей Люсей, наслаждаясь зрелищем, и тоже хваталась за пряную, пахнущую чесноком и укропом вкуснятину. Она, всегда относившаяся к пище утилитарно, как к горючему, на просторной хлюдовской кухне впервые ощутила и телом, и душой: если чревоугодие и грех, то вполне простительный.
Ленкин младший брат Сергей и глава семейства дядя Саша поглощали пищу не так самозабвенно, но тоже с аппетитом. Сергея Катя видела редко: тот учился в выпускном классе и всерьез занимался спортом. А с дядей Сашей не раз сиживала за обедами и ужинами. Ленкин отец был молчалив и улыбчив, ростом – не ниже жены и той же невнятно-русой масти, но габаритами – как молодой кабачок против круглой налитой дыни. Всю свою столичную жизнь работал в «Метрострое». Катя, не любившая подземку за шум, духоту, плотность многоглавой безликой толпы, после знакомства с Хлюдовым-старшим стала относиться к метро иначе. У подземного царства появилось лицо, и это было лицо дяди Саши – простецкое, с носом уточкой, с маленьким, каким-то детским ртом. Качаясь взад-вперед на разгонах-торможениях, Катя представляла, как самые обычные, невеликие мужички роют радиусы и хорды тоннелей, как прячут за драгоценным мрамором железобетонное нутро арок и стен; как в обеденный перерыв усаживаются прямо на рельсы новой, еще неезженной линии и достают котлеты, вареные яйца, термосы с чаем и подначивают самого молодого: «Что, Илюха, опять с батоном и кефиром? Вот пентюх! Когда ты уже бабу себе заведешь»?
Александр Хлюдов «завел» Людмилу Семенову в общежитии для лимитчиков: приехал к приятелю в гости, из такой же общаги, но на другом конце Москвы. Люся к тому времени в столице обжилась и даже заменила койку с панцирной сеткой на диван, обтянутый гобеленом – красным, с синими разлапистыми тюльпанами. В комнатке на троих она оказалась… Да как и все прочие. В свой первый столичный день, наевшись на вокзале пирожков и посетив достопримечательности (Красная площадь – Мавзолей – ГУМЦУМ – «Детский мир»), она заселилась в общежитие педагогического института, откуда отбыла через неделю, провалив экзамены даже не с треском, а с грохотом. Но домой не вернулась, устроилась на прядильно-ткацкий комбинат. Платили хорошо. А что после смены в ушах шумело – так то ж Москва, тут у всех шумит: не от станков, так от машин или высокой ответственности. Смешно еще, что сморкалась разноцветно: то розовым, то зеленым, то голубым – зависело от того, каких ниток нанюхалась.
Саша ей сразу понравился: чистенький, ходит вприпрыжку. Свой, русак, с нежно-игольчатой, как новорожденный еж, прической. За разные места Люсю не хватал даже после полбутылки, а на вопрос «Ты кем хоть работаешь?» ответил «Кротом». Она – тогда еще сорок шестого размера, а не пятьдесят восьмого – вытаращила глаза, а он засмеялся, дробным, как просыпавшийся горох, смехом.
Комнату дали отдельную, не сразу, но дали. Ленка уже на подходе была, через четыре года – Сережка. В промежутке между детьми Люся поменяла работу: перебралась с грохочущей фабрики в уютный универсам. Так что жили нормально. А детям вообще в общаге было раздолье. В хрущевке на велосипеде не покатаешься, а по двадцатиметровому коридору – пожалуйста. Можно, правда, от загулявшего соседа подзатыльник получить, но это сегодня. А завтра – конфету. И не карамельку какую-нибудь, а «Мишку» или даже «Стратосферу».
Саша и Люся тоже не жаловались. В этих отдельных квартирах все сами по себе, закроются-замуруются и сидят как сычи. А тут если нужно пятерку до зарплаты стрельнуть, то дадут обязательно, если не в первой комнате по коридору, то уж в третьей наверняка. На демонстрацию ходили, с флажками и бумажными цветами, наверченными на ветки; Ленка за руку, Сережка – у отца на плечах, и тянули шеи к трибунам, и орали во всю мощь пролетарских глоток. «Да зда… ет аюз абочеа класса и удового… стьянсва! Уа-а-а…» А как на Новый год пельмени мастрячили всем этажом? Пять мясорубок, двадцать пар обсыпанных мукой рук, три ведерные кастрюли, а потом под водочку, под вино «Арбатское», за накрытыми прямо в коридоре столами: «Ну, с новым счастьем!»
Счастье в виде трешки в новенькой шестнадцатиэтажке – с десятиметровой кухней и лоджией площадью как комната в общежитии – привалило ожидаемо и неожиданно, когда слишком развитый социализм, кряхтя, доживал последние безрадостные годы. Успели! Вскочили в последнюю электричку! Двадцать минут от Киевского вокзала, а потом – на автобусе, бесконечно, мимо сотен домов, похожих издалека на блоки дорогущего «Лего»: вроде разные, а все равно одинаковые. Ленка свое Солнцево называла не иначе как «жопа мира»: «Хорошо тебе, Катька, тебе от метро недалеко, хоть и на автобусе, а я пока до своей жопы мира доеду…» Но Хлюдовы-старшие вили гнездо неутомимо и восторженно, десять лет без перерыва.
Раз в два года переклеивались обои – непременно в арбузного размера цветах, обязательно с золотом. Раз в три года обновлялась мягкая мебель. Однажды Катя, приехав в гости, застала дядю Сашу в прихожей, где он ухарски рубил топором кресло: в дверь оно не пролезало и позже было отправлено на помойку расчлененным. За сменой ковров, паласов и покрывал не уследил бы даже тот, кто посещал хлюдовскую квартиру регулярно, а не от случая к случаю, как Катя. Хотя бывать там она любила. Ей было интересно наблюдать за «полной семьей»: когда и мама, и папа, и двое детей, и родственники наезжают – шумные, говорливые, обнимают до хруста, вынимают из бездонных сумок свертки и пакеты, чаще со съестным. А тетя Люся мечет на стол мисочки, плошечки, тарелки и тарелищи и переживает, что не предупредили, а то бы она пирогов!..
Пирожки, кстати, Ленка регулярно таскала в институт – минимум раз в месяц, а то и два, штук по двадцать-тридцать, завернутые в плотную бумагу и втиснутые в ветхозаветную холщовую сумку. Однажды кто-то из участников уже привычного пира изучил облупившийся рисунок на ней, опознал группу «Boney M.» и заголосил на всю кофейню: «Ма-ма-ма-ма, ма бейкер!» Потом вспомнили «Бахаму маму» и «Распутина», а Катя подошла к сидевшей чуть в стороне Ленке, чтоб задать вопрос, давно ее волновавший:
– А тетя Люся что, специально для нас пироги печет? С чего вдруг?
– Да нет, – Ленка поморщилась, – просто мать с отцом опять поссорились, а мы столько пирогов съесть не в состоянии. Она ж их в запале намесит столько – чума!
– Что-то я связи не уловила, – удивилась Катя.
– Ну, они когда ссорятся, если только не ночью совсем, то мать – на кухню сразу и тесто на пироги ставит. А отец на лоджию идет, у него там мастерская. И полочки сколачивает. Как доколотит, тоже на кухню плетется. Всю кухню мукой уделают, налепят три-четыре противня, потом пекут, потом убираются. И спать идут. А утром – как ни в чем не бывало. Вроде и не было никаких ссор.
– А из-за чего ссорятся-то? – Картинка в Катиной голове никак не складывалась: немногословный дядя Саша, добродушная тетя Люся – и домашние скандалы? Быть того не может!
– Да черт их теперь знает! Они при нас никогда отношения не выясняют. Было когда-то, из-за всякой ерунды: кто-то что-то сказал или отец выпил лишнего. А потом Сережкина учительница в первом классе сказала, что нельзя при детях ссориться. Что психологические травмы могут быть и успеваемость страдает. С тех пор – как партизаны. Молчат. Пироги вот только, в промышленных масштабах. Ты знаешь, я ем будь здоров как, но столько теста сожрать – это ж самоубийство! И, между прочим, соседи жалуются, если отец по вечерам на лоджии дятла изображает. И он им тогда полочки дарит. Они красивые, людям нравятся.
Спрашивать у Ленки, часто ли мать с отцом ссорятся, Катя не стала. Она мысленно считала полочки. На кухне штук пять или шесть. В Ленкиной три. В гостиной тоже, на каждой стене – по паре минимум. А если еще и у соседей…
– Кать, поехали сегодня ко мне? Завтра ко второй паре, успеем и выспаться, и добраться до института из моей жопы мира. Поедем, а? А то там пирогов еще – чума!
В начале восьмого они вошли в электричку. Надпись на головном вагоне – «Солнечная» – февральским вечером читалась как издевательство. Но до конечной они не доехали: на полдороге, когда поезд стал тормозить, Катя взглянула в окно, схватила Ленку за руку и потащила к выходу:
– Давай выйдем сейчас!
– Ты с ума сошла? Холодрыга такая, и это вообще не станция, а платформа в чистом поле!
– Давай, давай, скорей! Разрешите, пожалуйста, нам нужно выйти! – Протиснувшись через плотно упакованную людскую массу в прокуренный тамбур, они выскочили на перрон. Двери, взвизгнув, начали закрываться.
– Ну, Катька, ты даешь! – выдохнула Ленка и резким движением выдернула из смыкающейся вагонной пасти конец длинного шарфа. – И что мы тут делать будем? Вот ты чума!
Катя хорошо запомнила тот вечер – лучше, чем многие последующие: разъедающие душу, ломающие судьбу через колено. Они с Ленкой спустились с платформы на пустырь, где были в беспорядке уложены строительные бетонные блоки. Луна желтела в небе как сыр, который лет пять назад в алюминиевой кастрюльке варила из творога Катина мама.
Их было трое ярких, дополнивших собой монохромный супрематизм: извечная пленница Земли, Катя в красном пуховике и Ленка – в зеленом. Белое полотно заснеженной земной тверди, черно-серые прямоугольники и квадраты, овал Ленкиной фигуры, узкая трапеция Катиной. Сколько времени они провели там? Полчаса? Час? Скакали по сложенным друг на друга плитам, завывали, стоя напротив друг друга, «Вот и лето прошло» – придурковатую попсу на грустные стихи. Выкрикивали «Послушайте!», обращаясь к глухим и безгласным пассажирам пролетающих мимо электричек; плевались в темноту на словах: «Кто-то называет эти плевочки жемчужиной» и хохотали до сиплых стонов.
В Солнцево Катя не поехала. Ленка вначале надулась, но долго обижаться она не умела, так что, немного постояв на противоположных платформах, они отправились по домам. Катина электричка пришла первой, и, сидя сначала в стылом вагоне, потом – в метро и автобусе, она все думала: вот приехала Ленка домой, а там – пироги. Может, только вчерашние, а может, уже новые лепятся. И дядя Саша на лоджии – тук-тук, тук-тук. Вот тебе и семья. Это что, любовь? Или просто экономический союз, кооператив для выращивания детей? Или вообще обоюдный стокгольмский синдром. Может, лучше так, как у них? У Кати есть мама, у мамы – Катя. И все. И больше никто не нужен. Ну, может быть, когда-нибудь, если Катя не выйдет замуж, она возьмет и родит себе дочку, будет ее воспитывать и любить. Будет у них семья – уже на троих. Потом. Когда-нибудь. Лет через десять?..
До дома Катя еле доплелась – промерзшая до последней косточки и с животом, где то ли кот урчал, то ли котята мяукали. От сумбурных чувств и тягостных мыслей она разнюнилась и размякла. Думала: сейчас приду, подсяду к маме под бочок, потом лягу головой к ней на колени, как в детстве. Но это потом. А сначала – есть! И пить тоже хотелось страшно. И в туалет по-маленькому (она до сих пор говорила именно так, и Ленкино «Ссать хочу!» каждый раз ее почти шокировало). Войти в квартиру быстро не получилось. Катя, вся зажавшись и чуть присев, мелко топталась у двери, но ключ в замочную скважину никак не вставлялся: мама, похоже, опять забыла в дверях свою связку. Пришлось звонить. Через долгие пять секунд дверь распахнулась, Катя просеменила мимо мамы, сбросила пуховик прямо на пол в коридоре и со всей возможной скоростью рванула в туалет.
После пришлось идти в душ: все-таки не утерпела. И согреться хотелось. Через двадцать минут она вылезла из ванны на вязаный коврик. Сплошь запотевшее зеркало было как чистый лист, и Катя несколькими размашистыми движениями нарисовала на нем лицо. Оно получилось не смешным, как хотелось, а страшноватым. Наморщив нос, Катя приложила чуть выше узкого рта зубную щетку. Махристая щетина сделала рожу еще противнее, и Катя, хмыкнув, смахнула рукой усатую страхолюдину и подмигнула туманно-розовому лицу, которое выглянуло из получившегося окошка. Ее любимое полотенце – квадратное, огромное, похожее на гигантского пушистого ската, было в стирке, пришлось взять из шкафчика другое, в которое Катя едва поместилась.
На кухне ничем вкусным не пахло, на плите стояла остывшая кастрюля с водой из-под пельменей.
– Ма, а ты что, опять ничего не приготовила? – Катя, надув губы, встала на пороге гостиной.
– Да, Кать, извини. Работы очень много. И вообще, я думала, ты у Ленки ночуешь. Не ждала тебя. Там в морозилке блинчики с творогом и пельмени, сваришь? А то у меня работа.
– Опять работа. – Катя стояла у открытого холодильника и исподлобья смотрела в его равнодушное нутро. Блинчиков не хотелось. Что тут еще? Масло, подсохший кусок сыра, закисшие огурцы в белесом рассоле. Как так можно? Тоже мне, дом называется!
Мама у Кати вообще как-то испортилась в последнее время. Пирогов в их доме сроду не водилось, но хотя бы картошки можно было сварить? И котлет пожарить. Или хотя бы сосисок купить, что ли. А у нее одна работа на уме. Таскает с работы огромные стопки бумаг, все вечера и даже по выходным сидит над ними, уткнувшись в слепяще-белые листы с муравьиной россыпью цифр. Ложится поздно, Катя сквозь сон слышит из гостиной шуршание бумаги и клацанье по компьютерной клавиатуре.
Компьютер в доме появился недавно, и он был не совсем их. То есть совсем не их, а маминого начальника, как сказала сама мама. Однажды в субботу приехали два лохматых парня в толстых свитерах (один на Катю иногда посматривал, другого, классического ботана, очкастого и прыщавого, интересовали, кажется, только привезенные железяки), затащили в дом несколько коробок, быстренько их распаковали. Теперь под обеденным столом в гостиной стоял серый ящик с кнопками и прорезями на передней панели; от него тянулись провода к черной клаве и монитору, похожему на голову динозавра с тупой мордой.
На просьбы Кати купить комп и для нее мама ответила резко и безапелляционно:
– Не вижу смысла тратить такие деньги на развлечение.
– Почему на развлечение? Это же необходимая вещь! Скоро у всех дома будут стоять!
– Ты работать на нем собираешься? Кем? Учись давай лучше! Вот когда начнешь зарабатывать, тогда и купишь себе.
– Мам, ну я же должна научиться пользоваться? Ну, или в интернете пошарить. Ленка говорит, что ей брат рассказывал… В общем, его Сережей зовут, а у Сережи есть друг, а у того есть компьютер с интернетом. Пентиум. И там столько всего: и музыка, и игрушки всякие, и даже книги можно читать! Можно я хотя бы иногда буду садиться, когда ты на работе?
– Это не наше, ясно? И это рабочий инструмент. Я договорилась с шефом, чтобы машина стояла у меня, чтобы я могла работать по выходным. Или если приболею.
– Когда люди болеют, они должны лечиться и больничный лист брать! А с твоим сердцем…
– Нормально у меня с сердцем. А те времена, когда можно было месяцами на больничном сидеть, давно прошли. Совок развалился, так что теперь как потопаешь, так и полопаешь.
Ха! Катя вот сегодня натопалась так, что будь здоров, а полопать-то и нечего. Зря к Ленке не поехала. Там пироги и еще куча всякой вкуснятины. Может, сделать горячие бутерброды? Если сыр еще не протух окончательно…
– Кать!
Пришлось возвращаться в комнату.
– У тебя в комнате на кровати лежит кое-что, посмотри. – Мама даже не повернулась к ней, так и сидела, уставившись в монитор.
– А что там? – Катя решила покапризничать.
– Сходи и посмотри.
– Ну ма-ам! Ну что там?
– Куртка.
Куртка! Ура! Может, меховая? Наконец-то!
Через минуту, не больше, Катя вернулась, держа на отлете правую руку с зажатой в ней обновкой. Куртка слегка покачивалась; поникшими плечами и склоненной головой-капюшоном она была похожа на висельника.
– Я не буду это носить. Ты слышишь? Не буду. – Она чуть было не швырнула коричневую тряпку на клавиатуру, но, натолкнувшись на мамин взгляд, передумала.
– Хорошо. – Мама отвернулась.
– Не буду, и все!
– Я поняла.
– Да? И все? Чего ты молчишь? Тебе все равно, да?
– Катя. Ты сказала, что носить не будешь. Я сказала: хорошо. Чего еще ты от меня хочешь?
– Я хочу знать, зачем ты это купила. Вот это вот! Ты вообще по сторонам смотришь? Ты видишь, в чем сейчас ходят? Сама одеваешься как старуха и меня заставляешь! – Катя стала мотать курткой перед собой, будто пыталась что-то из нее вытряхнуть. – Оно какашечного цвета и почти до пят!
– Я не заставляю.
– Но ты же мне это купила! Зачем?!
– Мне показалось, что это хорошая куртка.
– Это?!
– Да. Тете Тамаре привезли из Финляндии. Ей оказалась маловата, она предложила мне. Ну, в смысле тебе… Она вообще-то хотела подарить, ты же знаешь, как она тебя любит. Но я решила, что это неправильно, и уговорила ее хоть полцены взять. Тем более что куртка очень качественная и очень теплая. А твой пуховик…
– Да уж лучше дырявый пуховик, чем это! Я же шубку хотела! Ты же знаешь… Ну, мамулечка! Шубку. Такую недлинную, с капюшоном. Ну, пожалуйста!
– Кать, не придумывай. Пуховик у тебя не дырявый. Мы его в прошлом году покупали, и ты сама его выбирала. Помнишь? Он просто коротковат, а впереди еще два месяца холодов. И ты ведь сама хотела перевестись на дизайн. А это деньги…
– Деньги, деньги! У тебя все время только деньги, противно просто! Ты же главный экономист! Экономист, это уж точно! – Катя фыркнула. – На всем экономишь, ни шмоток нормальных, ни обуви, даже украшений нет, одно колечко дешевенькое. А тетя Тамара? Вот она себе ни в чем не отказывает! И если бы у нее дети были, она бы… Не то что ты! Я вообще не понимаю: она всего-навсего твой заместитель, а у нее золото, норка, нутрия и сапоги итальянские!
– Сапоги у тебя есть.
– Они не такие! Я хочу на каблуке.
– Катя. Я очень устала.
– Ну, конечно! Ты опять устала! Ты все время «устала»! Ты хоть посмотри! – Катя стала натягивать на себя куртку. – Мне она вообще не идет! Рукава длинные, капюшон сползает, и молния тут неудобная, не застегнешь никак!
Пока Катя, картинно гримасничая, влезала в куртку и возилась с молнией, в зубцах которой застряла какая-то нитка, куцее розовое полотенце, державшееся на честном слове, раскрыло объятия, выпустило из них девичье тело и обессиленно прилегло у пушистых голубых тапок.
– Блин, не застегивается! – Катя раздраженно тряхнула головой и только тут заметила, что между распахнувшимися полами куртки нет ничего, кроме нее самой, Кати. – Ой!
Она стянула зубастые края и со злостью, удивившей ее саму, крикнула в мамино улыбающееся лицо:
– Гы-гы-гы! Чего ты смеешься! Что тут смешного? Ты как… вообще не знаю кто! А куртку эту дурацкую я все равно носить не буду, поняла?!
II
Катя
Отделение дизайна было, конечно, коммерческое, но платить не пришлось. Ректор их полутворческого вуза оказался не только новатором, но и либералом, и расщедрился на несколько бесплатных мест «для своих». Из-за творческого конкурса пришлось поволноваться: эскизы Катя переделывала три раза, рычала на маму, которая выудила из мусора истерзанные листы и попыталась убедить дочь: «Это не только прекрасно, но, возможно, лучшее из всего, что ты хоть когда-то рисовала». Но все закончилось хорошо, и ее имя оказалось в числе принятых. «Глажина Екатерина» – почти в самом начале списка. И пусть он был по алфавиту, все равно Кате было приятно, как будто она заняла одно из призовых мест.
«На дизайнера» она перевелась с потерей года, но это не расстраивало и не пугало, даже радовало: продлить беззаботную студенческую жизнь – чем плохо?
И в том, что с Ленкой они теперь учились не вместе, тоже не было ничего страшного. Институтская кофейня никуда не делась, студенческие там не проверяли и зачетки не спрашивали. Приходи, плати, тусуйся, жуй пирожки с ливером и трубочки с кремом, пей из казенных чашек и стаканов мутный чай, горький кофе, а порой и что покрепче (горячительное приносили из магазина напротив и разливали под столиками все в те же емкости).
Курс подобрался пестрый. Вчерашние выпускницы. Редакционные секретарши, способные по запаху отличить копеечную газету от «глянца», а простецкую «Крестьянку» – от изысканной «Мэри Клэр». Неудавшиеся художники, мечтающие за бешеные баксы рисовать вывески и сайты. Программисты, уверенные, что смогут составить конкуренцию художникам. И он – Андрей Барганов. Тот самый, чья фамилия была в списке первой.
Злые языки утверждали, что буква «г» в его фамилии появилась благодаря жадной до денег паспортистке, но Кате фамилия нравилась: в ней слышался и сухой речитатив горячего песка, и вибрирующий гул экзотического инструмента. Она влюбилась с размаха. Смотрела на него во все глаза, звенела смехом, играла пальцами в пушистых волосах: все говорили, что у нее красивые волосы. Феромонами от нее шибало метров за десять, так что однокурсники дурели и по очереди пытали счастья. Безуспешно. Ей нужен был только Андрей.
В один из дней октября он подошел после лекций, взял Катю за руку и спросил: «Пойдем?» И она пошла. В метро он поставил ее в угол у выхода, придвинулся почти вплотную, по-хозяйски обежал взглядом ее лицо:
– Это ничего, что я маленький. Зато мне удобно смотреть в глаза.
Они были на середине перегона, так что Катя скорее прочитала слова по губам, чем услышала. И растерялась. После секундной паузы закивала; кажется, попала носом ему в глаз; смутилась, чуть не расплакалась. Но Андрей улыбнулся, и неловкость исчезла, раздробленная вагонными колесами, развеянная беспокойными сквозняками.
Следующие шестьдесят три дня состояли из часов и минут оглушительного счастья. Оно, глупое, не испугалось ни отсутствия у Андрея московской прописки, ни его странного обиталища – старой котельной на окраине. В огромном помещении с высоченными потолками было холодно и гулко, но там имелось все, в чем нуждались их жадные до жизни молодые тела. Грохочущий пузатый холодильник, где дуэт из изящной бутылки «Алиготе» и массивной двухлитровой пепси остывал мгновенно. Усталый диван, стонущий от почти космических перегрузок. Узкий санузел, огороженный листами кровельного железа. Катя заходила внутрь и поворотом крана включала грозу: капли бронебойно барабанили по металлу, стены дрожали, вода с ревом уносилась в квадрат слива. Едва вытершись, она бежала босиком в противоположный угол. Андрей поднимал край одеяла, и она проскальзывала в их общий мир, пахнущий вином, потом и спермой.
Вне постели Андрей был сдержан. О любви не говорил, не обнимал в транспорте, не старался каждую минуту держать Катю в поле зрения. Но подсолнух и не ждет, что солнце будет поворачиваться вслед за ним. Ему хватает одного существования солнечных лучей.
За первый месяц Катя провела без Андрея всего пару вечеров. После лекций он вдруг исчезал, не утруждая себя объяснениями ни до, ни после. Она объяснений и не требовала, боясь неосторожным словом повредить тонкую материю отношений, смётанных на скорую руку. Зато в институте они почти не расставались; после лекций, если не убегали сразу в свой котельный рай, часами торчали с друзьями в институтской кофейне.
Однажды Ленка пришла туда в новом платье. Лазурный трикотаж обжимал Ленкины телеса с такой страстью, будто хотел раздавить. Увидев подругу, Катя на секунду зажмурилась: от эстетического шока и чувства вины. Ленка не меньше месяца канючила: «Кать, хочется новенького чего-нибудь! Новый год скоро и вообще. Съездишь со мной на Черкизон? Хоть со стороны на меня посмотришь, а то потом опять будешь ворчать, что купила не то. У тебя вкус и вообще, а из меня ж дизайнер, как из говна пуля!» Что правда, то правда: Ленкино чувство стиля было обратно пропорционально ее весу. Неохватной груди, арбузному заду и ногам штангистки новое платье было противопоказано, как марафон инфарктнику, но Ленка была счастлива, жмурилась от удовольствия и лыбилась как Лагутенко. Девчонки, пряча глаза, похвалили обновку, парни деликатно промолчали. Все, кроме Андрея.
– Лен, что за дерьмо ты на себя надела? – громко спросил он. – Ты похожа на голубую свиноматку.
– Ну, ты… блин… даешь, Барганов, – произнес с паузами чей-то ошарашенный бас.
Хлюдова, стоявшая к Андрею спиной, медленно повернулась. Вместо глаз и рта на ее лице было три черные дыры.
– У тебя дома швейная машинка есть? – продолжил Барганов. – Можем сейчас к тебе поехать? Ненадолго, часа на три-четыре.
– Д-да, – ответила Ленка. Ее потряхивало. – А з-зачем?
– Потом узнаешь, поехали. Пока, малыш. – Он встал, мазнул ладонью по Катиной щеке и пошел к выходу.
Катя уперлась глазами в две удаляющиеся фигуры. Толстый и Тонкий. Слон и Моська. Он размахивал руками и что-то быстро говорил, она шла молча и только кивала, кивала.
Весь оставшийся вечер Катя хохотала как русалка, травила анекдоты, с генеральскими интонациями возглашала: «Ну, за дизайн!», и в результате выпила паленого коньяка в три раза больше, чем стоило бы. Домой добралась на такси, а утром, конечно, проспала и явилась в институт только к обеденному перерыву. В кофейне было шумно и суетно, как всегда, но в тот день обычная круговерть имела исходную точку.
Глазом урагана оказалась Ленка, стоящая в позе начинающей манекенщицы. Казалось, что со вчерашнего дня она потеряла килограммов пятнадцать, не меньше. Причиной тому было надетое на Хлюдовой платье немыслимого покроя: полосы и лоскуты десяти оттенков зеленого затейливым образом пересекались и перетекали друг в друга, не давая взгляду задержаться на выдающихся Ленкиных формах. Девчонки восхищались, ахали, щупали «матерьяльчик». Удивление мужчин было молчаливым, но явным. Умей Ленка читать мысли, она бы поразилась количеству желающих провести с ней пару часов наедине.
Ленка увидела Катю, отвела от себя любопытные руки и выбралась из толпы. Вцепилась в подругу, поволокла в направлении туалета и говорила, говорила, захлебываясь словами:
– Кать, Кать, это ж чума! Три часа всего – и вот, ты глянь! Я такая красивая никогда, никогда не была! – Она хихикнула. – Разве что на Новый год в детском саду, мне тогда мама платье из занавески и корону…
– Лен, подожди! Что три часа? В очереди в магазине стояла? Где Андрей? Он когда от тебя ушел?
– Какой магазин?! – Ленка счастливо захохотала, закидывая голову назад. – Это он, Барганов твой! Своими собственными охренительными ручками! Сшил! Вчера! На моем доисторическом «Зингере»!
Катю в сердце больно клюнула ревность. Не к Ленке. К тайной жизни Андрея, которой он не хотел делиться. К его очевидному таланту, причастной к которому она не была.
– А откуда ткань? – спросила она Хлюдову, хотя спрашивать хотелось Андрея и, конечно, не про ткань.
– Да мы по пути заехали на какой-то склад, на такси, кстати! И потом в мою жопу мира – тоже, и Андрюха платил везде, и в тачке, и на складе. А склад этот – чума просто, ты бы видела! Там ангары, ангары, продавцы – индусы и китайцы, куча материала разного. Я говорю: давай вот этот возьмем, там был один такой, с цветами, роскошный, чума просто! А Барганов твой меня дурой обозвал, набрал этой вот зелени непонятной. Я, знаешь, расстроилась страшно, думаю: что приличного из этого можно сшить? Но ты видишь?! Это чума, чума!
Ленка задвигалась всем своим массивным телом, закружилась, вскинув руки.
– Лен, постой, какая-то нитка у тебя торчит снизу, дай я посмотрю.
Катя присела к ногам Хлюдовой, немного завернула подол. Потом еще. Привстала и задрала Ленке платье чуть ли не до пояса. Изнанка была ужасна. Махрились неровные края, свисали спутанные нити, цепляясь друг за друга, как лианы в джунглях. Ленка попятилась, вытаскивая их Катиных рук свое двуликое платье. Сказала смущенно, глядя в ее изумленное лицо:
– Ну, в общем, да, на изнанке полная хренотень, конечно. Ты ж понимаешь, времени мало было, Андрей торопился очень. Я собиралась потом сама это все как-то облагородить, но так хотелось поскорее надеть! И вообще: я в ближайшее время ни перед кем раздеваться не собираюсь. – Она хихикнула. – А снаружи – вон какая красота! Где, ты говорила, там нитка? Оторви аккуратненько, и пойдем уже! Может, и Андрей уже пришел? Пойдем!
– Давай. – Катя снова присела к Ленкиным ногам, откусила торчащую нитку. – Ты иди. Я сейчас.
Зеркало с прикрепленными поверху лампами дневного света было безжалостным. Узкое бледное лицо с темными полукружиями под глазами. Губы, которые норовят сложиться скобочкой, как у готового заплакать ребенка. Катя посмотрела на себя с отвращением. Сдвинула брови. Надула щеки. Потом пальцами потянула в стороны уголки губ, изображая улыбку. Хмыкнула. К черту! С чего ей расстраиваться? Глупость какая! Ее Андрей – потрясающий, талантливый, гениальный! Она сейчас пойдет и будет радоваться и его успеху, и Ленкиному счастью, и волшебному платью!
Андрей был уже в кофейне, сидел на низком подоконнике с видом свежекоронованного монарха. Вокруг была не то чтобы толпа, но заметное скопление из девчонок. На восторги и вопросы он реагировал через паузу, отвечал лениво, с оттяжечкой. Увидев Катю, царственным жестом показал на место рядом с собой. Окружение почтительно расступилось, Катя села, скользнула джинсами по холодному камню поближе к герою дня и улыбнулась, засияв отраженными лучами Андреевой славы.
– Барганов! А ты у нас, оказывается, талант! – Над ними стояла Танька Переверзева: блондинка, обладательница итальянского кожаного пальто и титула «Лучшие ноги факультета». Говорили, что ее отец – то ли дипломат, то ли партийная шишка, то ли вор в законе. В их институте любили трепать языком. – А мне соорудишь что-нибудь? Только не зеленое. – Переверзева сморщила нос и зыркнула в сторону Хлюдовой. Та стояла за столиком в окружении пятерых парней и с аппетитом уминала кремовое пирожное. Оно, по всей видимости, было жертвоприношением одного из новоявленных поклонников языческой богине любви и изобильного приплода.
– А тебе зачем, Переверзева? – Андрей хмыкнул. – Западные шмотки надоели? Они ж хоть и дорогие, но голимый ширпотреб. В Италии или какой-нибудь Бельгии в джинсе и коже каждая первая ходит. Там на тебя никто бы и не глянул.
– Ой, да ладно! Не выпендривайся. Так сошьешь? Розовое что-нибудь. Или сиреневое. Я заплачу, кстати. Сможешь себе джинсы? прикупить, а то ведь на тебе точно не ширпотреб, а индпошив. Из урюпинского ателье. – Две Танькины подружки, ее вечная свита, засмеялись мышиным смехом.
Катя напряглась и уже открыла рот – сказать Таньке что-нибудь остроумное и злое, отбрить ее так, чтоб неповадно было. Но Андрей успел первым.
– Не, Переверзева, для тебя я шить не буду. Во-первых, ты дура. Во-вторых, для тебя мне неинтересно.
– Это почему же? – Танька, не ожидающая отказа, даже не успела обидеться, а только удивилась. – А для Хлюдовой, этой жирной коровы, значит, интересно?
– Стандартная ты, Переверзева, – Андрей зевнул, – скучная. Обычная. А для Хлюдовой интересно, да. Несмотря на. Пойдем отсюда? – Он лениво встал и посмотрел на сидящую Катю. А потом кинул взгляд на Таньку, тоже свысока.
– Да, пойдем, – вслух согласилась Катя, а про себя подумала: «Как это у него получилось – на Переверзеву сверху вниз? Она ж на полголовы выше!»
Весь следующий месяц Андрей был нарасхват. Кандидаток на обладание шмотки «от Барганова» он выбирал придирчиво, даже привередливо. Предпочтение отдавал платежеспособным, исключая из них стандартных красоток с модельной фигурой. Несколько десятков низеньких, кривоногих, толстопопых, ненормально широкоплечих, катастрофически грудастых и удручающе плоских были облагодетельствованы нарядами всех оттенков поблекшей радуги: Андрей предпочитал цвета неяркие, но чистые, небесные, без примеси земли. Цены не заламывал, но заказчицы были щедры: увидев себя в зеркале, сначала разевали рты, а потом и кошельки.
Работал Андрей быстро. Пара часов на оптовом складе, где он с проворством иглы сновал меж огромных полок и широких прилавков, заваленных рулонами тканей, связками кружев, змеящимися молниями. Еще три-четыре часа за машинкой, иногда дома у заказчицы, чаще – у благодарной Ленки, личная жизнь которой благодаря зеленому платью расцвела в ноябре пышным весенним цветом. Туда Барганов разрешил прийти Кате – всего один раз, причем днем, когда из Хлюдовых, кроме Ленки, дома никого не было. Он вообще не любил зрителей, что Кате казалось странным: Андрей уходил в процесс как в заколдованный замок, куда не было хода посторонним. Цвет он воспринимал кончиками пальцев, фактуру материала определял по запаху, вертлявую шпульку и упрямый челнок чувствовал сердцем. Он не делал выкроек, не рисовал эскизов, не устраивал примерок. Его руки и воображение были связаны напрямую, и связь эта не требовала ни переходников, ни посредников.
Однажды Катя робко упрекнула Андрея:
– Ты шьешь всем подряд, а мне? На курсе уже удивляются. Я, видимо, недостаточно уродлива? Но, может, ты все-таки найдешь время для своей девушки? Несмотря на.
Андрей посмотрел на нее каким-то странным и оценивающим взглядом, и она вдруг смутилась, глуповато засмеялась, пытаясь перевести все в шутку. А он сказал просто и серьезно, даже мрачно:
– Хорошо.
На следующий день Барганова на лекциях не было, и вечером они не виделись. А еще через сутки он принес ей прямо в институт нечто невиданное: труба, то ли сшитая, то ли сплетенная из голубых, лазурных, сапфировых лоскутов и лент. То ли юбка, то ли шарф. Вернее, все сразу. Кажется, лет через десять именно это назовут «платьем-трансформером». Оно растягивалось в длину и ширину. Приобретало любую форму по Катиному желанию. Такого не было ни у кого. Девчонки на курсе от зависти позеленели, как хлюдовское платье, и целыми делегациями ходили упрашивать Андрея: «И мне, и нам, хотим-хотим-хотим! Любые деньги, будем ждать, сколько скажешь! Только сшей!» Барганов не говорил ни да, ни нет. Исправно строчил на случайных машинках, выдавая на-гора разноцветные туники, платья, кофты-размахайки, но «трансформер» так и остался единственным.
Только одно роднило принадлежащий Кате «эксклюзив» со всеми остальными нарядами «от Барганова» – изнанка. Неопрятная, махристая, какая-то вахлацкая – в отличие от изысканной лицевой стороны. Андрею было скучно заниматься необязательной работой. «Все равно никто не видит», – говорил он равнодушно и жестом опытного акушера обрезал пуповину, которая связывала новорожденный шедевр со швейной машинкой. К счастью, поклонниц Барганова изнанка не смущала и на размерах вознаграждения не сказывалась.
Заработанные деньги новоявленный кутюрье потратил на «джинсу» и «кожу», пижонскую, с лейблами, говорящими о себе негромко, но гордо. Переверзева, так и не получившая вожделенного наряда, могла бы торжествовать: «индпошив из урюпинского ателье» – штаны Андрея, из которых он не вылезал с сентября, сменили амплуа и поселились на полу в котельной.
Как ни странно, Барганов не попытался снять другое жилье, покомфортнее, попрезентабельнее, потеплее. А Катя мерзла. Затянувшаяся московская осень, глиняно-осклизлая днем и задубело-хрусткая ночью, впитывалась в бетонные стены, вползала в плохо подогнанную дверь, выступала холодным потом на мутных окнах. После душа Катя, трясясь мелкой дрожью, растиралась жестким полотенцем, влезала босыми ногами в сапоги и, волоча голенища по стылому полу, шла к дивану. Залезала под одеяло, прижималась к Андрею – гладкому, горячему. Один раз ей почудилось, что он вздрогнул и отодвинулся, но последующие энергичные телодвижения ее и согрели, и заставили забыть мгновенный, но острый страх возможной потери.
И она все-таки заболела. Грипп, всесезонный абориген перенаселенного города, свалил ее одним мощным ударом. Температура под сорок, выламывающая боль в суставах, чувствительность принцессы на горошине. Складка на простыне, шов любимой пижамы, холодный нос градусника – измученная наждаком болезни кожа на все реагировала нудной протяжной болью. В горячечных видениях Кате являлся Андрей в итальянском кожаном пальто, Переверзева в зеленом платье и голая Ленка в душе котельной – огромная, хохочущая, повторявшая глубоким баритоном: «Это чума, чума, чума!»
Мама Катиной болезни как будто даже обрадовалась. Договорилась с начальником, засела дома, компьютер включала, только пока Катя спала. На усталость и плохое самочувствие не жаловалась, с энтузиазмом закупала микстуры, растворяла порошки, размешивала морсы, протирала супы. Сама же Катя ощущала болезнь как катастрофу. Началась сессия. Приближался Новый год. И в котельной у Андрея не было телефона.
На пятый день гриппозного полузабытья позвонила Переверзева, по явному недоразумению бывшая старостой группы. Спросила, почему Катя не пришла на зачет, липким голосом пожелала выздоровления и пообещала сообщить прискорбную новость деканату и «вообще всем, в том числе Барганову. А то он ведь, кажется, ничего не знает?» Катя молча положила трубку. Через час после этого разговора грипп, казалось бы, отступивший, снова вцепился в Катю акульими зубами. Будто почувствовал слабину, будто понял, что именно сейчас можно брать ее тепленькой, безнаказанно грызть до нутра, до мягкой сердцевины.
Пятнадцать дней жизни сжались в один жесткий комок, как капрон под горячим утюгом. Вечером тридцатого декабря Катя, бледная, истончившаяся, вылезла из постели, смыла с себя бурую горчичную пыль и запах бальзама «Золотая звезда», натянула на влажное от слабости тело кружевное белье, джинсы, свитер, который нравился Андрею – ассиметричный, с широкими рукавами и сложным дырчатым узором. Надела через голову «трансформер», на сей раз в виде шарфа.
Мамы не было дома: она бегала по магазинам, собирая будущий праздничный стол, и не могла предупредить дочь, что за прошедшие две недели город перебрался из осени в зиму – неуверенными шагами, но, похоже, надолго. Иначе Катя не вышла бы в метельную муть в ботинках на рыбьем меху и куртешке «из чебурашки». Такие шил их с Андреем однокурсник, большой и добродушный Валька Ханкин. Девчонки из небогатых с удовольствием заказывали у него полуперденчики из искусственного меха самых экзотических окрасов: зеленого с оранжевыми пятнами, синего с розовыми разводами, ядовито-оранжевого, убийственно фиолетового. Фасон был один: мешок с капюшоном и рукавами, длина по запросу, а цена – вполне божеская. Кате куртку тоже хотелось, но попугайские расцветки повергали ее в ужас, так что Ханкин в знак особого к ней расположения добыл где-то несколько метров итальянской синтетической пушнины «под норку».
Куртка благородного медового цвета выглядела как меховая, но грела как марлевая. Пока Катя, спотыкаясь, брела к метро, жгуты метели скользили по ее спине, вплетались в узор свитера, вили клубки на впалом животе. В вагон она вошла почти неживая; пошатываясь, пробралась в угол, прислонилась, замерла. Глядя на ее выбеленное гриппом и морозом лицо, тетка в шубе из рыжей собаки, изображающей лису, брезгливо забормотала о «проклятых наркоманах». Через пару остановок она тяжело поднялась, ухватила крепкими руками стоявшие у ног сумки, набитые копченой колбасой и бледными мандаринами, и, косясь на Катю, поперла к выходу, экскаваторно сдвигая плотную толпу. Катя упала на свободное место, как в обморок, и закрыла глаза. Ехать было далеко.
Свет в котельной не горел, обитая лишайным металлом дверь была закрыта. Катя рванула ручку на себя раз, другой, третий. От отчаянных усилий легкое тело моталось как тряпка: вперед, назад, снова вперед, к неподвижному дверному полотну. Наконец Катя прижалась лбом к заледенелым райским вратам и тихо сползла на бетонное крыльцо.
– Ты, Барганов, конечно, гений, но сбрендил окончательно! Ты куда меня затащил? – Томный голос Переверзевой Катя услышала как сквозь сон. Попыталась встать. Не смогла. Как в кошмаре, где нет сил на самое простое, но жизненно важное движение, преодолела себя, на четвереньках сползла с крыльца. Погружая бесчувственные руки в снежную крупу, отползла за угол.
– Ты что, здесь живешь? Ну ты придурок! – Переверзева кокетливо засмеялась. – Я тут себе все каблуки пообломаю!
– Тань, это не я придурок, а ты дура! Я и так на полголовы ниже, ты на фига шпильки надела? – Андрей был верен себе: откровенен до хамства.
– Ну, Барганов, ты даешь! – с восхищением протянула Переверзева. – Ты что, вообще не комплексуешь по поводу роста?
– Вообще. Иди сюда!
Судя по звуку, они были уже совсем рядом. Через секунду глухо дрогнула дверь, явно от прижатого к ней тела.
– Это ничего, Переверзева, что я маленький. Зато мне удобно смотреть в глаза.
Скрип трущихся друг об друга кожанок, хриплый вздох, влажное чавканье. Катя за углом онемела, казалось, навсегда. Распласталась по стене, вжалась в нее с такой силой, что сама стала бетонной: тяжелой, холодной, пронзенной арматурой слов и звуков. Звякнули ключи. Взвизгнули петли. Хлопнула дверь, выплюнув в воздух короткий гулкий всхлип. И стало тихо. Уснула метель, упал на сугробы ветер, разжались кулаки. Остановилось сердце.
В институте Катя появилась в начале февраля. Бледная с прозеленью, молчаливая, укутанная в теплые кофты и пушистые шарфы, она равнодушной тенью перемещалась из кабинета в кабинет, оформляла документы для перевода на заочное. Со следующего года, конечно, потому что прошедшая сессия не оставила в ее зачетке ни единого следа. Почти неделю ей удавалось избегать встреч с однокурсниками. Но в последний день, плетясь из деканата в библиотеку, она лицом к лицу столкнулась с Переверзевой: узкие джинсы, сиреневая туника «от Барганова», розовые сапожки на плоской подошве. И мастерски раскрашенное лицо, сочащееся ядом сочувствия.
– Катерина! Бедняжка! Как ты похудела! И что ж тебе теперь делать? Сессия-то – тю-тю! Ой, Андрюша!
Барганов вынырнул как будто из ниоткуда. Подошел, прозвучав шелестом стеганой куртки и кастаньетами высоких, каких-то не мужских каблуков. По-хозяйски обнял Переверзеву за талию, улыбнулся Кате:
– Привет, Катюха. Ну, ты как? Оклемалась? Я все хотел тебе позвонить, да как-то не сложилось. А сейчас – сама видишь… Но мы ведь останемся друзьями, да? Несмотря на.
Катя молча кивнула, обошла Таньку и Андрея по широкой дуге, с силой прижимая к животу стопку учебников, и пошла по коридору – пустому, тусклому, серому, как мешковина. «Останемся друзьями. Несмотря на. Останемся друзьями. Несмотря на», – звучало у нее внутри, задавало ритм шагов, предсказывало будущее. Любимое выражение Андрея – «несмотря на» – застряло в ней как осколок снаряда. В рассказах о войне она читала, что так бывает. Кусок металла обрастает плотью, запутывается в нитях кровеносных сосудов, и человек перестает его замечать. Но однажды сгусток смертельного холода сдвинется с места. И тогда острые края разрежут живую оболочку, изорвут нежную ткань в лоскуты, истолкут в кровавое месиво. Так бывает. Она читала.
АНДРЕЙ
Как-то мать шила на дому халат из атлас-сатина. Когда она раскинула на кухонном столе отрез, Андрей, которому на тот момент исполнилось от силы лет десять, остолбенел. На шелковистой, переливающейся ткани цвели экзотические цветы, бордовые и фиолетовые, топорщились сочные сине-зеленые листья, распускали радужные хвосты крючконосые попугаи. А потом мать сложила материал вдвое – лицом внутрь. Изнанка была тусклой, бесцветной, шершавой; ничто не напоминало о недавнем ослепляющем великолепии. «Атлас-сатин» – Андрей запомнил это название с одного раза и с тех пор каждый отрез, принесенный матерью, рассматривал и с лица, и с изнанки.
Позже оказалось, что наблюдать за людьми – еще интереснее. Изучать привычки, слушать разговоры, присматриваться к выражению лиц. Очень быстро стало понятно: окружающие его заметно отличались друг от друга, были сшиты из разного материала, но оборотная сторона была у каждого. И часто она совсем не походила на лицевую.
Андрей смотрел на удаляющуюся Катину спину – узкую, упрямую, какую-то неудобную и странно прямую. Раньше она всегда чуть сутулилась. Андрей иногда шлепал ее раскрытой ладонью чуть ниже шеи, а она поводила плечами, и лопатки ее двигались под одеждой как беспокойные зверьки.
Зачем он вообще с ней связался? Не хотел поначалу. Но она так просилась в руки, так светилась вся, переливалась как елочная гирлянда. И он подумал: а почему нет? Ничего девчонка. Нос длинноват, правда, а ноги коротковаты, но ладная, какая-то плавная вся.
Скучно стало очень быстро. Даже не скучно, а как-то муторно. Судя по тому, как Катя себя вела, как одевалась – такая же нищая, как он сам. Ну, квартира на окраине. Ну, образование получит. И что? Как-то обмолвилась, что мать бухгалтер, а отца вообще не знала. И зачем это ему? Он еще пару месяцев назад почувствовал: еще немного, и прилепится она к нему намертво, не оторвешь. И дальше что? Жениться, детей заводить, считать копейки, разменять свою жизнь на ползунки-пеленки?
А тут Переверзева нарисовалась…
– Андрюш, ну ты чего? – Танька дернула его за рукав. – Пялишься на пустой коридор. Пойдем уже, а? Кофейку выпьем, а потом за билетами, да?
– За билетами?
– Ну, на «Титаник»! Мы ж договаривались, Барганов! Ты че, дурак, что ли? Или про Катьку думаешь? Ну и иди к своей Катьке, раз так! – Танька надула губы и отвернулась.
– Сама ты дура. – Андрей развернул Таньку к себе, чмокнул в щеку. – Какая Катька? Было – и быльем поросло. Забей уже. Пойдем.
– «Титаник» – это просто нечто! Я на DVD смотрела уже, но на английском, а это не то. А на кассете с гнусавым переводом не стала. Зачем себе впечатление портить, да? На большом экране это просто офигительно будет… А ты мне еще что-нибудь сошьешь, ладно? А то эту, сиреневую, уже видели все и, конечно, обалдели, но мне надо что-нибудь еще. И реклама тебе будет заодно, я же всем рассказываю, что мой Андрюша – гений!..
Танька трындела без умолку, здоровалась со знакомыми, в которых у нее, кажется, был целый институт. Ей улыбались, хотя Андрей неоднократно слышал, как Переверзеву за ее спиной называли «самодовольной богатенькой сучкой».
Андрей Таньку сукой не считал. Да и обвинение в самодовольстве – та еще претензия.
А почему, собственно, она не должна быть собой довольна? Красивая, богатая. Неглупая. Шить вот только на нее было неинтересно. Но бабки зарабатывать надо, карьеру делать надо, значит, забудешь ты, Андрюша, свое «хочу» и будешь пахать на это самое «надо».
У Таньки все схвачено. А что не у нее, так у ее папаши. В дом его пока не ввели, Танька только обещает, но по телефону он с Владимиром Ивановичем уже познакомился и пообещал, что с ним Танька – как за каменной стеной. «Танюшка сказала, что ты отслужил уже. Значит, парень взрослый, а не сопляк какой-нибудь. Так что я на тебя надеюсь. И давайте там, выберете время – приходи на обед или на ужин. Поговорим. По-мужски», – баритон в телефонной трубке был увесистым, как чемодан, набитый деньгами. Имя дочери он произносил необычно, с ударением на первое «а» – Та?нюшка, и это заставило Андрея занервничать.
С другой стороны – чего психовать? Ну, любит папаша единственную дочку. Любит сильно. Значит, и ее избранника вынужден будет если не полюбить, то взять под крыло. Денег, например, дать на открытие собственного дела. Андрей уже почти придумал себе фирменные бирки: «Барганов» – большими буквами, «А» в середине чуть более крупная, цветовое решение – тусклое серебро с глубоким синим. Хотя еще можно подумать, время есть.
– Ой, там Ирка в очереди. Андрюш, что тебе взять? – Они были неподалеку от прилавка, где толпились жаждущие бодрости студенты и преподы.
– Большой кофе и бутер какой-нибудь. Денег дать? – Андрей потянулся к карману.
– Да есть у меня! Но мне приятно, что ты у меня такой… прям мужчина-мужчина!
– Да ладно, – Андрей пожал плечами, – я пойду столик займу, там, в конце! – крикнул он в Танькину спину, но она уже махала рукой, привлекая внимание Ирки – довольно противной девицы, классической прилипалы и подлизы. Андрею она не нравилась, о чем он в свойственной ему манере сообщил Таньке при первом же удобном случае:
– Я эту выдру с крысиным лицом не перевариваю.
– Да ладно тебе! Я, честно говоря, и сама от нее не восторге, но она, знаешь… бывает полезна. Конспекты всегда пишет. Пару раз за меня рефераты делала. И кофе умеет без очереди брать. – Танька засмеялась. – А ты можешь с ней вообще не общаться, буду вас разделять. И властвовать! – Она обняла Андрея за плечи и запрокинула голову. Шея, видневшаяся в вороте голубого кашемирового джемпера, была загорелой и неприятно уязвимой.
Обещание «разделять» Танька выполняла неукоснительно. И в этот раз, поставив кофе и бутерброд с колбасой несъедобного цвета на низкий подоконник рядом с сидящим Андреем, она отчалила к столику, возле которого стояла Ирка с творожным кольцом в цепких наманикюренных пальцах.
– Андрюш, я там потусуюсь пока, ладно? Надо же Ирочке приятное сделать. – Наклонившись, Танька чмокнула его в щеку и взъерошила волосы.
Андрей тряхнул головой, уклоняясь от ласки. Танькины нежности, чуть более фамильярные, чем ему бы хотелось, раздражали. Но зато с ней почти не приходилось сдерживаться и говорить не то, что думаешь. Она не обижалась на «дуру». Она давала людям нелицеприятные, но правдивые оценки, точно такие же, какие мог бы дать Андрей. Всяким ханжеским рожам они могли бы показаться оскорбительными, но какое им с Танькой дело до этого? Главное, что они друг друга понимают. Что они похожи – в чем-то главном, в том, что и определяет человека. Андрея удивляло и даже завораживало, что Танька, типичная москвичка, упакованная по самые гланды, была парадоксальным образом похожа на женщин из его родного городка.
Все эти продавщицы, уборщицы, приемщицы в прачечной и ремонте обуви, подавальщицы в столовке, большей частью довольно молодые и все поголовно полунищие, напоминали недорогой ситец – редкое плетение, нестойкая краска, а на изнанке – те же незатейливые цветочки, горошки, полосочки, что и на лицевой стороне. Разве что чуть бледнее.
И однокурсницы Андрея по швейному училищу, хоть и предпочитали носить яркие лосины и кофты с люрексом, тоже были ситчиком. Одним большим отделом хэбэшных тканей. С ними было легко – учиться, общаться, хохмить. Чувствовать себя кумом королю помогало и то, что он оказался единственным пацаном на все четыре курса. Говорят, лет пять назад на «Верхней одежде» учились сразу два парня, но сейчас на пять коек в «мужской» общежитской комнате был только один претендент.
Учиться он стал гораздо лучше, чем в школе. Сам не понял, почему. То ли, уехав из дома в областной центр, враз повзрослел. То ли, избавившись от ядовитого внимания отца, расслабился: теперь не нужно было постоянно оправдывать чужие и заранее обреченные на обман ожидания. Даже математика, которую Андрей никогда не любил, вдруг пошла как хорошо отлаженный механизм, без стука и скрипа. Особенно к месту оказалась геометрия: прямоугольники и трапеции, прямые и синусоиды перестали быть абстрактной и бесполезной белибердой, стали привычными, по руке, инструментами. Линия плеча, окат рукава, вырез горловины, вытачка верхняя, нагрудная, от линии талии, разрезная, разутюженная.
Преподы, особенно по профпредметам, относились к Андрею с симпатией и, кажется, даже с уважением. Он был самый талантливый. Про него так и говорили: талантливый. Прочили славу Зайцева или (кто знает?) самого Диора. Девчонки соревновались за его внимание, за право сидеть с ним за одной партой, стоять рядом за закроечным столом, прикармливать его щами и котлетами.
Ходили слухи, что Машка Сенцова и Юлька Тарашкина один раз даже подрались за возможность погладить Андрею рубашку: Машка выдрала у Юльки клок волос, а Юлька заехала Машке в глаз. Слухи были похожи на правду: Машка почти неделю ходила, завесив волосами пол-лица, и получила десяток замечаний за нарушение техники безопасности.
– Сенцова, убери патлы! – орала тощая Нинель Самойловна по кличке «Шинель», препод по технологии. – Затянет под лапку или на маховик намотается, сдерет скальп, будешь как жертва Чингачгука!
Все ржали; Машка, нахмурив брови, склонялась над машинкой все ниже и ниже, так и не подобрав свои выбеленные до прозрачности жидковатые волосья.
Нормальная девчонка была Машка. И Юлька ничего. И Наташка со Светкой, и Снежана, и Даша. Все нормальные были, но Андрей хорошо помнил жизненное правило, о котором узнал лет в десять, что ли. Матери в тот день не было дома, уехала в деревню к дальней родне, а к отцу пришел сосед дядя Володя. Барганов-старший брезгливо кинул сыну, доедавшему ужин: «Ну? Че ты там колупаешься? Иди к себе, нечего тут, мужикам поговорить надо!» Едва не смахнув со стола тарелку с остатками жареной картошки, шмякнул на цветастую клеенку полкруга «Краковской», доску с четвертинкой черного, поставил две стопки и бутылку «Столичной».
Поначалу за кухонной дверью было довольно тихо. Низко и почти неразборчиво гундосил дядя Володя; изредка звучал вопросительный, но уверенный голос отца. Когда бутылка почти опустела, а градус беседы достиг классической отметки, дядя Володя, кажется, заткнулся вовсе. Зато отец разошелся и напористо твердил неустойчивым, шатким от алкоголя баритоном: «Не сри там, где ешь! Не сри! Там. Где. Ешь. Не сри! Понял, Володька?»
Спрятанный за примитивной физиологией смысл афоризма дошел до Андрея не сразу. Зато через четыре года его и удивил, и странно расстроил тот факт, что сам отец не последовал такому простому и, надо думать, надежному правилу.
А туповатый сосед, похоже, увещеваниям так и не внял: накануне отъезда Андрея в училище весь подъезд обсуждал, что жена дяди Володи гоняла его с пятого этажа до первого и обратно, с остановками на третьем, где жила незамужняя шалава Нинка. У ее квартиры дяди-Володина жена орала как потерпевшая, дубасила скалкой попеременно то мужа, то Нинкину дверь и угрожала, что она этой суке ноги из жопы повыдергает.
Чем закончилась та история, Андрей так и не узнал. Даже когда приезжал домой на каникулы, большую часть времени проводил вне дома, а каждое лето после производственной практики оставался в областном городе, подрабатывал, где мог.
Жил у своих взрослых подруг. Твердо усвоив отцовские поучения, младший Барганов за все годы учебы не переспал ни с одной из однокурсниц. Хватало и других. Медсестра-хохотушка Лада, с которой он познакомился во время диспансеризации. Кореяночка Вика, торговавшая в гастрономе капустой, морковкой и рыбой хе. Смуглая и кудрявая хохлушка Оксана, которую бог знает как занесло в их предсеверные края.
Одни обитали на съемных хатах, другие – в замызганных и пыльных коммунальных комнатушках. Иногда случались и те, кто жил в родительских квартирах, но взрослой, самостоятельной жизнью, позволявшей не только приводить «мужика», но и не спрашивать на это разрешения у пропитых отцов и истрепанных бытом матерей.
За четыре года к женщинам, дававшим ему кров, кормившим его, ложившимся с ним в постель – с нежностью и страстью, отчаянием и печалью, терпением и покорностью – в Андрее само собой выработалось единообразное отношение. Превалировала жалость, потому что все они, красивые и не очень, совсем юные и уже потускневшие, были ущербными. Надкусанными. Треснутыми. И всем им нужен был мужчина, чтоб эту щербину, вмятину, трещину закрыть и замазать. Все они были как мать, и это придавало жалости оттенок брезгливости, почти презрения.
Привкус благодарности, почти неразличимый и лишь изредка осознаваемый, приходил вместе с физическим желанием и забывался после его удовлетворения. Желание вообще существовало отдельно и не смешивалось ни с жалостью, ни с брезгливостью.
Его первую женщину звали Ольгой. Олькой. Ей было тридцать, она торговала в ларьке неподалеку от швейного училища. Алкоголичкой она, возможно, и не была, но пила каждый день.
От Андрея Ольке было нужно не так уж много: чтоб приходил почаще (ключ ему Олька вручила почти сразу, чуть ли не через неделю после знакомства и первого перепихона); ел со сковороды, поросшей снаружи слоистым нагаром, картошку и яичницу с колбасой; слушал рассказы о напарнице Ритке, которая «жрет как не в себя», оставляет повсюду пакеты от чипсов и залапывает витрины жирными пальцами; чтоб делал сочувственное лицо, когда Олька жаловалась на хозяина Арифа, который за эти самые засранные витрины материт только ее, а Ритку нет, потому что трахает эту прошмандовку в глубине киоска на коробках с чипсами и паках с лимонадом, ярким, как импортные фломастеры.
Андрей ел, слушал, сочувствовал, попутно размышляя: может, Олька просто завидует напарнице, потому что сама хотела бы пыхтеть и взвизгивать на затянутых в полиэтилен бутылках, похожих на игрушечные снаряды? Или наоборот: она была бы рада похвастаться Ритке, что сама она спит не с волосатым вонючим азером, а с молодым и чистым русским. Но вряд ли решится, потому что трахаться с тем, кому нет восемнадцати, – это ж статья! Эти мысли Андрея возбуждали, как и то, что у него, пацана, которому до совершеннолетия еще жить да жить, есть собственная женщина с отдельной квартирой. И от всего этого у него вставал гораздо надежнее, чем от Олькиного мосластого тела; ее растопыренных грудей, похожих на крысиные морды; жестких, как крупный наждак, пупырышков на ее бедрах.
Но Олька хотела не часто. Уставала в своем ларьке до бурых обводов вокруг глаз, до потливой слабости. И нужно-то ей было в лучшем случае десять минут суетной возни, которую сама Олька обозначала суконным глаголом «сношаться». «Сегодня сношаться не будем, устала как сволочь», – бормотала Олька, стоя у плиты и длинной поварешкой закручивая в кастрюле смерч, в котором безысходно кружились пельмени.
В те дни, когда Андрей оставался ночевать, они ложились сразу после ужина, и Олька молниеносно вырубалась. Во сне она почти не ворочалась, а дыхание ее было нежным и беззвучным, как снегопад в безветренную погоду.
К Андрею, дни которого, быть может, оказывались не столь изматывающими, но тоже наполненными до краев, сон приходил уверенно и основательно. Поэтому на Олькины ночные вскрики он реагировал не сразу, долго всплывая из темной глубины. Со временем он научился, даже не проснувшись, гладить Ольку по голове, подставлять ей свое неширокое плечо, чтоб, уткнувшись в теплое, она отстонала, отвсхлипывала свой кошмар и снова уснула.
Снились Ольке покойники. Точнее, ее бывшие покупатели, ставшие покойниками после паленой водки. Одни были просто мертвыми, другие – еще и слепыми. Мертвяки окружали Олькину палатку плотным кольцом, смотрели молча, но обвиняюще. «Даже слепые, суки, смотрят! Даже слепые!» – подвывала Олька, когда, поддавшись на уговоры Андрея, решилась рассказать ему свой повторяющийся сон.
В тот же день Андрей выяснил: о конкретных случаях, чтоб кто-то умер или ослеп от напитков, купленных именно в Олькином ларьке, ей самой неизвестно. Ни менты к ней не приходили, ни родственники жертв метанола. Но, начитавшись «просветительских» статей в газетах, наслушавшись страшилок от знакомых, Олька обзавелась не только интеллигентским чувством вины за содеянное не ею, но и параноидальной уверенностью: пить то, что стоит в витринах ее собственной торговой точки, – гарантия мучительной смерти. Поэтому она, вопреки логике и здравому смыслу, ходила за пойлом в соседний киоск.
– У Надьки товар нормальный! – горячо говорила она, наливая «Столичную» в единственную имеющуюся в доме хрустальную рюмку. В Андрея мутная бутылка с криво налепленной этикеткой уверенности в качестве напитка не вселяла, но Ольку сомнительный вид стеклотары не смущал.
– А все почему? Потому что хозяин там – наш, русский, Серега из соседнего двора, я его всю жизнь знаю! Поднялся сейчас, на «мерсе» ездит, но все равно мужик нормальный. Своих травить не будет! – Олька со стуком ставила бутылку на стол, поднимала исчерканный алмазным резцом цилиндрик, смотрела через него на свет. – Слеза! Будешь?..
Андрей вздрогнул.
– Пить будешь, Андрюх? – Над ним стоял однокурсник Валька Ханкин, здоровенный, белобрысый, с детской улыбкой и икающим смехом парень. Как он умудрился поступить на отделение дизайна, Андрей не понимал: рисовал он как детсадовец, материал не чувствовал и со вкусом у него были бо-ольшие проблемы. Посмотришь на куртешки, которыми он снабдил полфакультета, – и коростой покрываешься от кроя и колористики.
Но у Барганова с Валькой как-то незаметно сложились ровные, почти дружеские отношения. Возможно, из-за того, что от Ханкина часто пахло свежевыглаженным бельем и детским мылом, а только изредка – перегаром; был он простым и надежным как брезент. Неопасным.
– Не, у меня другие планы.
– А, ну ладно. – Валька присел рядом с Андреем, спросил, глядя в сторону: – Слушай, говорят, Катя приходила?
Андрей молчал.
– Андрюх, ты Катю видел? – Ханкин повернул голову; его глаза с близкого расстояния напоминали осеннюю лужу: где-то на дне – потемневшие разноцветные листья, сверху – серо-голубая жижа. – Ты с ней говорил? У вас же было?..
– Ну, было, – Барганов швырнул слова в Валькино лицо как камень в воду. – Было да сплыло. А так – да, видел. Нормально все у нее, не парься.
– О, Ханкин и Барганов! Попались, голубчики!
Алла Михайловна Георгинова, преподаватель по истории костюма, была громогласной, энергичной и увлеченной своим предметом до самозабвения. Как-то в кофейне обсуждали Георгинову и ее манеру одеваться, и кто-то из девчонок с откровенной издевкой сказал:
– Вкуса у Аллочки нет совсем. Это ж надо: все знать о моде и настолько не уметь одеваться. То она в балахонах каких-то, то рукава прицепит, из километра кружев сшитые. Я все жду, когда она придет в кринолине или турнюре. Только вот корсет на такой размерчик фиг найдешь.
– Дураки вы. – Андрей по традиции не церемонился. – А Аллочка – гений. Вы бы лучше, чем ядом плеваться, учились, как быть непохожими на других. А то все как под копирку – либо в фирме, либо в рыночном говне под фирму. В лучшем случае – самострок по выкройкам из «Бурды». Я уверен: максимум лет через двадцать-тридцать мода как таковая, все эти «цвет сезона», «модель сезона» и прочая муть будут не актуальны. Каждый будет искать свой стиль, свой цвет, своего модельера или просто портного. Каждый будет из кожи вон лезть (Андрей бросил насмешливый взгляд на Переверзеву, которая как раз дефилировала мимо), чтоб выделяться из толпы. Вот тогда вы Аллочку и вспомните.
Сегодня Георгинова пришла в прямом, почти до пола платье из темно-зеленой ткани, на которую были настрочены разноцветные полосы, квадраты, трапеции. Получился бы чистый Малевич, если б по Аллочкиной прихоти геометрию не разбавляли романтические воланы на рукавах и подоле. Андрей мысленно присвистнул, отдавая дань смелости решения. Надо все же спросить: это она сама или кто-то шьет по ее эскизам? И телефончик попросить, вдруг пригодится…
– Так, Барганов. – Георгинова стояла рядом, качала воланами и смотрела на Андрея сверху вниз. – Вы мне должны реферат, помните? Я вам, конечно, пятерку поставила, потому что… Да вы сами знаете, почему, – Аллочка усмехнулась. – Но реферат все равно надо.
– Несмотря на. – Георгинова Андрею нравилась, и это было взаимно. Поэтому он поднялся с подоконника, хоть мало для кого стал бы это делать. Он был ниже Аллочки на полголовы, она смотрела сверху ласково и спокойно. На секунду ему показалось, что сейчас она поцелует его в лоб, а потом спросит, почему он не причесался и как следует не умылся.
– Вот именно! – Аллочка кивнула Вальке: – А вам, Ханкин, пора свой трояк отрабатывать. Двигайте конечностями, мне на кафедре помощь нужна. И как раз по вашему профилю – тяжести таскать.
Валька скорчил рожу, но все же подчинился и принял из Аллочкиных рук стопку каких-то журналов и буклетов (Георгинова все время таскала с собой свежий глянец вперемешку с книгами по искусству).
– Барганов, так мы договорились? Неделя у вас в распоряжении, не больше. Вы, конечно, мой любимчик, но не злоупотребляйте! А вы, Ханкин, шагом марш! Да не пугайтесь вы, там всех дел минут на пятнадцать.
А щиколотки у нее узкие. И запястья породистые. Странно даже: при безобразной, почти патологической полноте – такое изящество. И тяжелая плотная ткань, и воланы эти. Идеально. Не хуже, чем сделал бы он. И чем-то похоже на то платье, которое он сшил для жены майора Погремухина.
Да, похоже. Силуэт. Строгая простота, но с форсом, с изюмом. Ткань, конечно, попроще была, к тому же не плательная, а портьерная. «Унесенных ветром» он посмотрел уже после дембеля и развеселился, глядя, как Скарлетт срывает шторы.
А майору в тот день было не до смеха. Ввалился в каморку за «красным уголком», пыхтя как Винни Пух, застрявший в норе. Бровями-кустиками шевелит, пот со лба утирает и бормочет под нос что-то нецензурное. Проверил все до буковки, до последней тряпочки, искал, к чему придраться. После ротный прибежал: кто-то ему доложил, что замкомдива инспектирует подготовку к праздникам.
Но у Андрея – полный порядок. Растяжки с лозунгами, плакаты и щиты, герб, заново серебрянкой выкрашенный – все на месте, все чики-пуки. Осталось только на территории кое-что подкрасить-подмазать-обновить, «Боевой листок» доделать. Майор, конечно, повод гавкнуть нашел, но всем было ясно, что это так, для порядка и воинской дисциплины.
– Рядовой… Как тебя там?
– Барганов, товарищ майор!
– Смотри мне тут! Чтоб все! Чтоб на высшем уровне, понял?
– Так точно, товарищ майор!
Хлопнула дверь, вторая, через минуту за стеной заговорили двое:
– Кончик, закурить есть? – Об фамилию капитана не точил язык только ленивый.
– Так точно, товарищ майор!
– Да ладно тебе, не на плацу.
– Вот, Сан Михалыч, держите. Только у меня…
– Дамские куришь? Что толку от них? Ни весу, ни дыму. Ладно, давай хоть такие. Мне, блин, сегодня ваще…
– Что-то случилось, това… Сан Михалыч?
– Бабы, блин! Ты вот не женат, кажется? Правильно, Кончик! И не женись на хрен! Была ведь девочка-припевочка, тонкая-звонкая, пела целыми днями, птичка прямо. Посуду моет – поет, картошку чистит – поет. Белье на речке стирает – и то поет. Я ж лейтенантом в таких местах служил, что тебе и не снилось. И чего? Чего стало-то с той девочкой? Кажется, живи – не хочу, так нет! Каждый день что-нибудь! То вопит, что устала тут, в глухомани и что в Москву хочет или хоть в Самару какую-нибудь. То ругается, что храплю. То рыдает, что толстая.
– Ну…
– Ну толстая, да! Я ж не жалуюсь, что она толстая. Я и сам не Ален Делон. Говорю, как в кино американском – что красивая, что люблю. Ну, всю эту хрень. Не помогает ничего. А сегодня – вообще атомная катастрофа, Хиросима с Нагасакой натуральные. Поехала в город, чтобы платье забрать: заказала в ателье чуть не три месяца назад. У жены комполка послезавтра день рождения, надо ей выглядеть, фуе-мое. Ну и забрала. Я на обед пришел – а нет обеда ни хрена! А она на кровати лежит и воет. Кончик, я те серьезно говорю: прям воет как волчица!..
Отличное все-таки место – эта комнатушка, много можно услышать. А люди – идиоты. За редким исключением. В армии, похоже, вообще все, поголовно, вне зависимости от должности и звания. Задняя стена внизу глухая, а наверху узкое оконце, в которое звуки, как в пылесос, всасываются. И ведь башку вверх задрать мозгов не хватает ни у сержантов, ни у майоров. Так что сиди себе, Барганов, слушай, на ус мотай.
Ему, конечно, повезло, и еще до того, как ушел на дембель прежний художник-оформитель. Желающих на это место было немало, но он вовремя успел и ротному доложить о своем дипломе, и помочь дембелям с альбомами. Так что по факту не нашлось никого, кто мог бы лучше рядового Барганова написать «Береги Отчизну, солдат!» и срисовать с открытки мужественное лицо этого самого солдата, не сделав его похожим на хорька.
А первое везение – что не попал в Чечню. Все знакомые пацаны боялись, что отправят туда, сразу после призыва или потом. Ходили слухи, что товарняки с «грузом 200» приходят на станцию каждую ночь, что разгружают их тайно и хоронят так же. А родителям выплачивают бешеные деньжищи за убитого, чтоб молчали и не жаловались, а если спросят их, как там сын, чтоб отвечали: все нормально, служит себе, а после, возможно, и на сверхсрочную останется.
Но на то они и слухи, что не проверишь. Андрей понимал, что раз война – то и трупы должны быть, но про себя почему-то твердо знал: его туда не пошлют. Этого просто не может быть.
Второе везение – что успел призваться до того, как срок службы все из-за той же Чечни увеличили до двух лет. В казарме и лишняя неделя – не пайка сахара, а шесть дополнительных месяцев?
И третье – что попал в этот военный городок в Приуралье. Климат, конечно, не курортный, но места красивые и сам городок ничего: красные кирпичные казармы, ангары для техники, клуб с колоннами (на Большой театр смахивает, только поменьше), бараки для неженатых лейтенантов и всякой вольнонаемной шушеры, хрущевки для женатого комсостава. В центре водонапорная башня, похожая на остатки средневекового замка. Все ухоженное и чистое, хоть и слегка уже облезлое. Нормальное место.
И командование вполне себе ничего. Пацаны в казарме трепались, что «Батя», то есть комполка – кореш чуть ли не самого Грачева и что за рюмкой чая тот обещал батиных парней не трогать и в Чечню не отправлять. Еще говорили, что в этом полку даже при Союзе дедовщины не было, что комполка – правильный мужик и держит личный состав в ежовых рукавицах.
Насчет дедовщины – это как сказать. Всякое бывало за эти полгода, но в целом без криминала; а к тычкам и затрещинам, к скрытой и явной враждебности Андрею было не привыкать. И то, что страха в нем не было, было легко понять любому. Люди как собаки – чуют, если их боятся…
– Ты, Кончик, парень молодой, скажи, как с этими бабами управляться-то? – Баритон Погремухина стал как будто поспокойнее, не истерил, как затюканный дедами салабон. – Я ж так и ушел из дома не жрамши. И вечером домой идти боюсь. Мне, блин, и так забот хватает! Из округа могут приехать, надо ж все в порядок привести, а тут…
– Да у меня с бабами как-то не очень…
Андрей хмыкнул, но тут же зажал себе рот рукой. Кончик – носатый, белобрысый и худой, как глиста, точно не тянул на героя-любовника.
– Жалко, Кончик. Жалко, блин!
– Да ничего, Сан Михалыч, я нормально. – В хрипловатом тенорке Кончика (вчера на плацу связки сорвал) отчетливо слышалось показное бодрячество.
– Да не тебя мне жаль, мне, блин, себя жалко! Ты вот что скажи: вроде у Зайченко жена шить умеет? Ну, этого, из мотострелкового батальона.
– Не могу знать, товарищ майор!
– Не могу знать, не могу знать! – передразнил капитана Погремухин. – А надо знать, чем, так сказать, боевые товарищи живут и дышат! Че делать-то, блин? Может, сходишь и узнаешь у Зайченко? Может, его баба с Нинкиным платьем помудрит, переделает как-то? Я этот вой больше слышать не хочу, мне, блин, борща надо и мирное небо над головой!..
Андрей выводил последнее слово в заголовке стенгазеты «Ты сильней и крепче год от года, армия российского народа!» Н А Р О Д А. Восклицательный знак. Отлично.
Месяц назад он обнаружил в углу каморки целую стопку советских плакатов и методичек и теперь пользовал их в хвост и в гриву: перерисовывал и переписывал, меняя красный флаг на триколор, а «советский» на «российский». Этот вот лозунг – на все времена, для всех годится, даже после развала Союза. «…крепче год от года армия армянского, грузинского, таджикского народа!» Кто там еще у нас? Казахского? Украинского? Не, в ритм не ложится.
Так. Теперь сюда фото нужно присобачить, тут – пару изгибов георгиевской ленточки пустить и красных гвоздик намалевать. Три, наверное, чтоб не как на похороны. А за окном тихо стало. Ушли, наверное. И Кончик, у которого «с бабами не очень», и голодный Погремухин.
Может, надо было выйти, напомнить, что он закончил швейное училище, спасти майора и его толстую Нинку, а себе очков захавать? Нет, лучше не высовываться. Продолжать слушать и подмечать, аккумулировать тайное знание, сортировать его – высший, первый, второй. Что-то может и в брак пойти, но это не беда.
В его копилке уже собралось немало фактов и фактиков, одни из которых тянули на гауптвахту, а другие – не меньше чем на статью (и не газетную, а уголовную). Он помнил фамилии офицеров, которые используют солдат для личных хозяйственных нужд. Знал, что старшина частенько выдает новое обмундирование не новобранцам, а дембелям. Пацаны из роты обеспечения за бабки неурочно давали горячую воду. В их части (как, наверное, везде) тырили с пищеблока и гнали налево консервы, масло, перемороженные брикеты мяса. Один из каптеров, Артур Хузроков, даже вынашивал глобальный бизнес-план: выйти на командира части с предложением купить пресс для сплющивания консервных банок и продавать жесть (кстати, интересно, сколько тушенки сжирает за сутки их полк?). Были и более личные, но от этого не менее полезные сведения: например, о романах между неженатыми офицерами и женами их начальников. Кстати, папочек с фамилиями Кончика и Погремухина в его мысленном архиве до сегодняшнего дня не было…
Прорисовывая тени на лепестках гвоздики, Андрей не заметил, как в отдалении хлопнула дверь, а через секунду в комнату вошел капитан Кончик.
Нина Владимировна Погремухина уже отрыдалась. Когда Кончик и Барганов зашли в ухоженную погремухинскую двушку (майор открыл им дверь и свалил, сославшись на неотложные дела), она, одетая в голубой стеганый халат, сидела на кухне перед бутылкой коньяка, уже наполовину пустой. Андрей непроизвольно поморщился: иметь дело с расстроенной, да еще и пьяной женщиной никакого желания не было.
Но голос у Нины Владимировны был совершенно трезвым, хоть и усталым, а из-за потекшей туши и размазанной помады она была похожа на грустного клоуна.
– Здорово, Кончик. Какими судьбами? И как ты, кстати, вошел?
– Здравия желаю, Нина Владимировна. Да тут, понимаете…
– Понимаю. Мой вам открыл, а сам сбежал. Боится. – Погремухина изобразила лицом зверскую гримасу. – А ты, Кончик, значит, смелый? И кто это с тобой, такой хорошенький?
Кончик, хоть порой казался мямлей, в этот раз проявил себя настоящим орлом: представил рядового Барганова и доложил по форме, что майор Погремухин, то есть Александр Михайлович, то есть ваш законный супруг, прислал этого э-э-э… портного (Андрей зыркнул на Кончика, но ничего не сказал), чтоб он решил вашу э-э-э… проблему. После чего оставил Андрея наедине с Ниной Владимировной, а сам рысью поскакал к Зайченко в надежде позаимствовать у его жены швейную машинку.
Погремухина оказалась отличной теткой: душевной и юморной. На несколько минут она удалилась в спальню и вышла оттуда походкой манекенщицы. Андрей с трудом промолчал, но, когда Нина Владимировна подошла к трюмо, хрюкнула, а потом и захохотала, Барганов тоже перестал сдерживаться.
Исправить цветастое творение портнихи по имени Валентина и фамилии Белоноженко, которую Погремухина с подачи Андрея тут же переименовала в «Криворученко», не было никакой возможности. Нина (она сразу велела называть ее только так) выпирала из платья сверху, снизу и по бокам, грудь вываливалась, объемистый зад задирал подол сантиметров на тридцать. В общем, выбрать для величественной фигуры майоровой жены такой фасон, приталенный и декольтированный, мог только человек с полным отсутствием не только вкуса, но и мозга.
На поездку в город за новым отрезом времени не было, так что Андрей с благословения Нины проинспектировал ее запасы. Баечка на халатик, ситчик на сафаранчик, бязь и жесткое льняное полотно – на постельку. Нежное поименование тканей и умиляло Андрея, и злило: ничего из этого не годилось на парадно-выходное платье, в котором Погремухина мечтала блеснуть на гарнизонном сабантуе.
– Так, а это что? – В бледных залежах ситчика и баечки промелькнула глубокая синева.
– Нет, Андрюша, это не годится. – Нина Владимировна, усталая, грустная, так и не смывшая с лица клоунские краски, махнула рукой и грузно присела на диван. – Это я шторы в зале хотела поменять. У нас тут южная сторона, солнце жарит целый день, думала что-нибудь темненькое повесить к лету.
– Нина, я все-таки посмотрю, хорошо? – Андрей развернул отрез. Идеально. Цвет вечернего неба с едва заметными серебряными штрихами. Да, ткань более плотная, чем нужно на платье, но это ничего. Силуэт – трапеция, сзади будет чуть длиннее, буквально сантиметров на пять-семь. Сбоку небольшой разрез (ноги ниже колена у Погремухиной – длинные, идеальной формы, вполне можно показать), а стоячий воротник, присборенный, викторианский, как раз подойдет по стилю к высокому узлу прически…
– Андрюша! – Танька плюхнулась рядом с ним на подоконник. – Кто звезда? Я звезда! Нашла тебе еще пару заказчиц, тебе понравятся. Вон, видишь, рядом с Ирочкой стоят: одна сутулая, как Баба-яга, другая – недомерок без груди. Прямо в твоем вкусе. – Танька засмеялась. – И чего тебя так к уродинам тянет, как муху на… Ладно-ладно, не сердись, помню я, что тебе интересно их красавицами делать!
Андрей поморщился и встал:
– Тань, не дребезди. И пойдем уже, нам пора. Ты телефоны взяла у этих девиц? Вечером позвоню, сейчас некогда.
Уже подходя к двери, Андрей увидал Ханкина, которому один из однокурсников закричал издалека: «В чем сила, брат? В бицепсах и трицепсах?» И радостно заржал.
Все с ума посходили с этим «Братом», цитируют по поводу и без. Тоже мне нашли героя нашего времени – тупого и бездарного Данилу Багрова. Хотя в чем-то он и прав. Отчасти. Потому что сила и в правде, и в деньгах. Они как инь и ян, как нить и игла, как лицо и изнанка. И у него, Андрея Барганова, все будет отлично. Потому что с правдой у них отношения близкие, считай, родственные, а скоро и с деньгами будут такие же.
Андрей толкнул тяжелую дверь. В лицо швырнуло снежную кашу, замешанную на бензиновой вони. Из припаркованной у тротуара тонированной «девятки» неслось надрывное «…идет по плану! Все идет по плану!» Андрей улыбнулся, кинул короткий взгляд на Таньку и вышел первым.
III
Андрей
Андрей не любил пуговицы. Все без исключения, даже не фабричные, вырезанные или отлитые вручную. Что толку от декларируемой уникальности, если ты отличаешься от десятка соседей-униформистов только одной неявной деталью? И как заставить равнодушный взгляд выделить тебя из ряда других, таких же эксклюзивных и абсолютно одина- ковых?
Заходя в бутики дорогой дизайнерской одежды, Андрей рассматривал костюмы, блузы, пальто и, казалось, слышал, как пуговицы орут – кто в два, а кто и в четыре горла: «Я не такая, как все, кромка у меня ровнее и цвет ярче! Я особенная: на оборотной стороне у меня царапина. Пусть ее не видно, но она отличает меня от всех остальных! Посмотрите на меня!» Люди приходили в магазин, примеряли перед зеркалами одежду, и пуговицы – одна за другой – послушно совали голову в петлю. Потом из петли. И снова в петлю. Бесконечная казнь без надежды на смерть.
Молниям было легче. Ни одна из них не претендовала на индивидуальность и не требовала времени на особое обхождение. Вж-ж-жик! И готово. Даже простодушная липучка, нейлоновая сестра репейника, нравилась Андрею больше пуговиц. Она была хотя бы забавной: беззвучно хваталась сотнями крючковатых лапок за тысячи петелек и возмущенно шикала на тех, кто разрывал эту судорожную хватку. А пуговицы, эти безмолвные одежные солдаты, стоящие на страже тепла и морали, всегда были готовы предать. Они так и норовили вывернуться из петельной удавки, выставить на всеобщее обозрение затертые кружева лифчика или складки застиранных трусов, разрешить ветру хватать холодными руками голые шеи. Самые отчаянные из пуговиц тайно перетирали нитяные путы и дезертировали с места постоянной службы. Пыльная щель в полу, лужа с зеркальным отпечатком домов и деревьев, жирная глинистая каша дорожной обочины становились для беглецов вековечным убежищем.
За всю свою недолгую карьеру Андрей сшил всего две вещи на пуговицах. Одну – для несостоявшейся тещи, Танькиной матери, женщины выдающейся глупости и столь же впечатляющих размеров. Липучки были слишком грубы для невесомой струящейся ткани – серо-стального итальянского крепдешина; а молния, даже самая тонкая, бугрилась на квадратной спине горным хребтом, невысоким, но выразительным. И Андрей, пробежавшись по любимым магазинам фурнитуры, купил десяток овальных полупрозрачных пуговиц. Они были похожи на леденцы, их хотелось положить в рот и катать там до томной сладости, до полного растворения. Андрей нежно, всего несколькими стежками закрепил пластмассовые кругляшки на положенных местах, мимолетно позлорадствовав: он не купил ни одной запасной, так что в будущем несчастной дуре придется изрядно помучиться, подыскивая замену.
Вторую вещь с пуговицами, точнее, с одной, авторской работы, огромной, размером почти с кофейное блюдце, он сшил для Капли.
Эту странную женщину-девочку Андрей часто видел на показах второсортных и начинающих дизайнеров, где стал бывать после расставания с Танькой. Небольшого роста, с узкими плечиками – чуть больше размаха крыльев канарейки. Двигалась она рывками и будто вразнобой, с пластикой марионетки. На выступающих планках ключиц сверху крепилась изящная шея, на ней голова: удлиненная, с большеротым лицом и взъерошенным стожком светлых волос; снизу – девчоночье безгрудое тело, тонкие руки с бледными кистями и ноги с красивыми округлыми коленями.
Она необычно одевалась, и Андрей долго не мог понять, шьет ли Капля свои немыслимые шмотки сама или отоваривается в специализированном секонд-хенде, куда свозят барахло, надоевшее европейским и американским фрикам. Даже летом на ней можно было увидеть узкое пальто – фиалкового цвета, длинное, мягкое на вид, с огромным капюшоном, который болтался на спине раскрытой пастью бегемота. Еще одной любимой Каплиной вещью был полосатый зелено-оранжевый свитер, связанный из пряжи толщиной в карандаш.
Ее юбки были коротки по полной незаметности или, напротив, длинны настолько, что ими можно было заметать следы. Брюки она тоже носила: галифе, шаровары, бриджи, цветастые, полосатые, в змеящихся орнаментах – любые, кроме скучной сине-черной классики. Но однажды она пришла в штанах, которые Андрея просто заворожили. Они были сшиты из сотен кусочков разной фактуры и цвета. Бархат соседствовал со штапелем, плотный индийский шелк – с мелко-рубчатым вельветом, английская шерсть – с африканским, вручную окрашенным хлопком. Бордовый и лазурный, салатный и охристый, маренго и фисташковый, нежный пепел розы и плюющаяся цветом фуксия – здесь было все. До полного умопомрачения идею доводили декоративные швы и мережки, пристроченные обрезки кружев, мелкие цветы, вышитые бисером, нитками мулине и шелковыми лентами.
Андрей знал, как называется этот фантастический стиль: крейзи-пэчворк, развлечение скучающих английских леди и идеальных американских домохозяек. Безумные штаны и их носительница подходили друг другу как нельзя лучше. Андрей весь вечер пялился на Каплю и не удивился, когда после показа она подошла и предложила поехать к ней, на Калужскую – «потусить».
Под утро, когда компания из художников, дизайнеров и просто любителей выпить на халяву покинула тесную двушку, Капля нашла Андрея на кухне, где он спал, положив голову прямо на стол.
– Эй. Тебя Андрей зовут? Все уже ушли.
Он вскочил, потер лицо. Капля стояла совсем близко и смотрела на него снизу вверх. Ее глаза были цвета вываренных почти до белизны голубых джинсов; от нее пахло корицей, земляничным мылом и как будто нафталином, как в мамином гардеробе. На ней все еще были те самые штаны. Андрей опустился на табуретку, медленно провел ладонями по Каплиным ногам – от бедер до колен и обратно. Закрыл глаза. Снова пробежался пальцами. Бархат. Шелк. Кружево. Бисер. Теплая кожа. Запрокинутая голова. Учащенное дыхание. Влажные тела на несвежей постели.
Он застрял там на пять лет.
Это произошло как-то само собой. Будто кто-то решил, что Андрею можно дать передышку. Будто кто-то знал, как он устал нажимать на кнопки чужих звонков, слушать звучные переливы и рвущий тишину звонкий треск (у Вальки был именно такой звонок, занозистый, как неструганая доска). Будто кого-то так же, как Андрея, оскорбляла необходимость просить об одолжении – если не словами, так действиями.
Он задержался у Капли до следующей ночи, потом еще на сутки. После они сходили на какой-то показ, и вечером, когда все участники очередной пьянки разошлись по домам, он снова остался. Они ели, пили вино и чай, выходили из квартиры и возвращались, ложились в постель и вставали из нее. На кривом гвозде, вбитом прямо в стену у входной двери, висело два комплекта ключей, и Андрей однажды автоматически сунул его в карман. И этот факт, и само присутствие Андрея Капля принимала как растения – изменение погоды: без удивления, сопротивления, радости или печали.
Через неделю после того, как Андрей перевез к Капле свои немногочисленные пожитки, она ушла из дома на целый день, а вечером вернулась не одна. Когда Андрей вышел в прихожую, там стояла девочка в зеленом болоньевом пальто и коричневой шапке с раздерганным помпоном. Капля уже разделась и, уходя в ванную, равнодушно сказала:
– Это Фло. А это Андрей. Я в душ.
Андрей не понимал, что ему делать. Помочь девочке раздеться? Покормить ее? Что вообще делают с детьми? Он растерялся настолько, что даже не поздоровался.
Фло тоже молчала. Стояла и смотрела на Андрея, чуть мимо него, как будто за его спину – ему даже захотелось повернуться и проверить.
В ванной зашумела вода, голая Капля высунулась из-за двери:
– Не стой тут. Раздевайся, руки помоешь на кухне. В холодильнике… Ну, найди там что-нибудь. А потом спать. Давай-давай. – Тон ровный и холодный, как неподключенный утюг.
О том, что у Капли есть дочь, догадаться заранее было почти невозможно. Потом, специально приглядываясь, Андрей заметил в ванной бутылку с детским шампунем, а на галошнице – маленькие тапочки. В меньшей комнате, которая по факту оказалась детской, стояла в углу коробка из-под обуви с десятком тоненьких книжечек, полосатым мячом и голой растрепанной куклой. Еще позже он узнал, что у Фло есть собственная полка в гардеробе.
Но в целом обстановка детской ничем не отличалась от антуража остальной квартиры: мебель времен кубинской революции; продавленные диваны – навечно разложенные, застеленные линялыми вязаными пледами из секонд-хенда. На вытертом линолеуме повсюду лежали ковры и коврики, до того шершавые на ощупь и пыльные на вид, что Андрей, наступив на них босыми ступнями, каждый раз боролся с желанием вымыть ноги.
Эти ковры цвета лежалой говядины, незадернутые шторы, похожие на тощих висельников, общая неприкаянность вещного мира Каплиной квартиры вызывали у Андрея почти восторженное недоумение.
«На выход» она могла собираться часами: полчаса плескалась под душем, сушила и укладывала волосы, раскладывала на диване свою одежду и ходила вдоль радужного строя, прикидывая сочетания, приглядываясь и даже принюхиваясь. Среди людей была яркой, порою вызывающей; громко смеялась, закидывая голову назад и поднимая ко лбу руки с полусогнутыми пальцами, будто сведенными судорогой.
Дома она вместе с нарядной одеждой снимала оживление, блеск, желание нравиться. Ходила в трениках и растянутых майках, часами лежала на диване с альбомом, рисовала длинные фигуры, закутанные с ног до головы в разноцветное тряпье, одетые в юбки из воздушных шаров, цветов или перьев.
Из еды больше всего любила сыр, несладкую соломку и яблоки – с последними у Капли были особенные отношения, похожие на ритуальные. Яблок она покупала минимум килограмма по три и всегда трех цветов: красные, зеленые и желтые. Способная без колебаний сунуть в рот упавший на пол кусок хлеба, даже не сдув с него пыль, яблоки она тщательно мыла и вытирала. А после, сложив блестящие плоды в таз, ходила с ним по квартире и раскладывала во все свободные емкости, на все незанятые поверхности; иногда сворачивала из полотенец и тряпок гнезда и туда тоже укладывала яблочный «светофор».
Ела их везде, хрустко вгрызаясь в сочную мякоть и обычно не оставляя от яблок ничего, кроме плодоножки. Их Андрей потом находил везде, даже в постели.
Его это раздражало. Иногда, устав от пыльной затхлости квартиры, он устраивал косметическую уборку (на капитальную не хватало ни времени, ни сил, ни имеющихся у него прав постояльца). Сметал с тумбочек пыль и яблочные хвостики, менял постельное белье, чистил ковры истошно орущим пылесосом «Буран», похожим одновременно на космический шлем и шар для боулинга.
– Откуда у тебя этот агрегат? – спросил как-то Андрей, оглохший от хриплых завываний, и с раздражением швырнул на пол шланг, напоминающий пупырчатого удава. – Он старше нас обоих, вместе взятых.
Капля, сидевшая с ногами на диване, взглянула на него с рассеянным удивлением, махнула рукой, в которой каким-то чудом удерживала огромное яблоко, пурпурное с фиолетовым отливом:
– Он всегда тут был. – Она перелистнула страницу глянцевого журнала и снова надолго замолчала.
Охотнику за чужими секретами жизнь с Каплей не сулила богатой добычи, но тем интересней казалась задача. Андрей добывал информацию по крупицам: из разговоров Капли с другими людьми, из ее оговорок, из документов, найденных в серванте.
Вот она со знанием дела поддержала разговор о небольшом городке в дальнем Подмосковье. С неожиданной злостью высказалась о чьих-то родителях, не дающих взрослым детям спокойно жить собственной жизнью, но тут же с кривой усмешкой заметила, что этих сволочей можно использовать и таким образом отомстить. С пылом защищала право женщины распоряжаться собственным телом и ядовито высмеивала экзальтированную неофитку, которая продвигала мысль о греховности не только абортов, но и противозачаточных пилюль.
В паспорте Капля значилась как «Капитолина Ивановна Лапина», а полное имя ее дочери было «Флора». Капитолина, Флора. Кто сейчас так называет детей? Может, они сектанты какие-нибудь? Андрей перебирал старые квитанции, инструкции, какие-то еще бумажные лоскуты, хрупкие, покрытые шелковистым тальком пыли. За закрытой дверью детской негромко стукнуло. Он быстро сунул документы обратно в дерматиновую папку и заглянул к Фло.
Девочка сидела на полу и держала в руках куклу. Он не сразу понял, что головы у куклы нет: она лежала отдельно, на полу, и в первый момент показалась Андрею бледно-желтым яблоком.
– Фло, все в порядке? – Он так пока и не понял, как общаться с этой замкнутой и тихой девочкой, поэтому использовал идиотский полусюсюкающий-полубодряческий тон, от которого ему самому было неловко.
Фло неопределенно помотала головой, лицо ее было спокойным, даже безмятежным.
– Ну ладно. Я тогда пойду? – Андрей шагнул к порогу.
– А мама?.. – Голос Фло был нежно-шелестящим, как рубашечный шелк.
– Мама скоро придет, она ушла по делам. – Черт, да как же вообще разговаривать с этими детьми?! – Ты, может, есть хочешь? У нас есть макароны. Хочешь?
Девочка отрицательно качнула головой, Андрей вышел и с облегчением прикрыл за собой дверь.
Флора была и похожа, и не похожа на мать. Тоненькая и невысокая, она все же выглядела крепкой и выносливой. Ей передалась акварельная прелесть Капли, но Фло будто нарисовали менее разбавленными красками: темно-серые глаза, волосы цвета поджаренной хлебной корочки, русые, а не соломенные брови и ресницы.
Утром Капля уводила девочку в детский сад, по вечерам приводила и легко оставляла ее дома одну, если шла на тусовку. Фло почти никогда не капризничала, ничего не просила, безропотно вставала по утрам и послушно ложилась в постель. Иногда Андрею казалось, что девочка боится матери, хотя при нем Капля ни разу дочь не ударила и даже не повысила на нее голос.
Спрашивать о чем-либо Каплю было бесполезно. Как-то само повелось, что они не рассказывали о себе и вообще мало разговаривали. Обменивались скупыми оценками очередного показа: тебе как, фигня, и мне (о каждой новой коллекции известных модных домов отзывались примерно так же, и это единодушное высокомерие, это созвучное презрение аутсайдеров к чемпионам объединяло их больше, чем что-либо другое). Могли поручить друг другу сделать мелкие покупки. Иногда Капля просила Андрея накормить Фло или уложить ее спать. Но ела девочка мало и быстро, а «уложить спать» значило лишь включить свет в ванной, а позже – выключить в детской.
Фло была – и ее почти не было. Ее незаметность, бесконфликтность и на удивление крепкое здоровье не докучали, не расстраивали, не были помехой удобной и размеренной жизни.
Тем неожиданней оказалась истерика, которую Фло устроила года через полтора после их с Андреем знакомства. Конец мая выдался холодным и пасмурным. Капля, которая обычно болела редко и стремительно (факельно взлетающая температура, лающий кашель, слабость, но всего на три-четыре дня, а после – лишь бледность и усталость, как после затянувшегося визита незваных гостей), в этот раз уже неделю лежала в постели, измученная упрямым вирусом.
Андрей забрал Фло из детского сада, по пути заглянув в аптеку, и, намешав в литровой банке морса для Капли, засел на кухне, придумывая платье для очередной заказчицы. Звук, который раздался из большой комнаты, был не похож на детский крик. Он, казалось, не мог исходить из человека, а больше всего напоминал скрип застывших петель на тяжелой, давно забытой двери.
Когда Андрей вбежал в комнату, Фло уже не кричала, а только хрипло дышала и молотила руками по краю дивана, который от ударов ватно ухал и изредка взвизгивал пружинами.
– Фло, – голос Капли был спокойным, как всегда, – успокойся и иди в свою комнату. Фло. Фло, успокойся.
Девочка не реагировала, и Капля вдруг надсадно и хрипло заорала:
– Пошла вон отсюда! В детскую, немедленно! – На «-нно» у Капли не хватило дыхания, и вместо нее фразу закончил диван, едва слышно икнув от последнего удара детского кулака.
В своей комнате Фло забилась в угол между диваном и трюмо, зажав голову между расставленных коленей, и на попытки Андрея выяснить, что случилось, отзывалась чуть слышными стонами.
Капля лежала, отвернувшись к стене и закутавшись в одеяло. Андрей дотронулся до ее плеча, но она, дернувшись всем телом, скинула его руку:
– Отстань! – Слез в ее голосе не было, только злость.
– Знаешь, что? – Андрей разозлился. – Я, в конце концов, тоже здесь живу. – Капля не поворачивалась, но ему показалось, что она пожала плечами. – Пока, по крайней мере. И я хочу жить спокойно. Так что ты не психуй, а давай объясняй, что случилось. Час назад твоя дочь была совершенно нормальной, а теперь орет, как бешеная, и трясется вся. Ну?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/liliya-volkova-31599254/iznanka/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
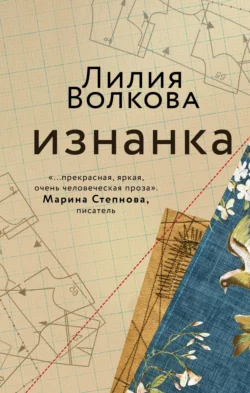
Лилия Волкова
Тип: электронная книга
Жанр: Современная русская литература
Язык: на русском языке
Издательство: Эксмо
Дата публикации: 15.11.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: У всех и всего на свете есть оборотная сторона: у добряков и циников, событий и явлений, у бескорыстной помощи и показного равнодушия. И хотя чужую изнанку бывает непросто разглядеть, неприглядную правду можно использовать в своих интересах.