Московские праздные дни. Метафизический путеводитель по столице
Андрей Балдин
История и наука Рунета
Книга Андрея Балдина (1958–2017) – книжного графика, архитектора и писателя, ведет читателя в одно из самых необычных путешествий по Москве – по кругу московских праздников, старых и новых, больших и малых, светских, церковных и народных. Праздничный календарь полон разнообразных сведений: об ее прошлом и настоящем, о характере, привычках и чудачествах ее жителей, об архитектуре и метафизике древнего города, об исторически сложившемся противостоянии Москвы и Петербурга и еще о многом, многом другом. В календаре, как в зеркале, отражается Москва. Порой перед этим зеркалом она себя приукрашивает: в календаре часто попадаются сказки, выдумки и мифы, сочиненные самими горожанами. От этого путешествие по московскому времени делается еще интереснее. Под москвоведческим углом зрения совершенно неожиданно высвечиваются некоторые аспекты творчества таких национальных гениев, как Пушкин и Толстой.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Андрей Балдин
Московские праздные дни. Метафизический путеводитель по столице
© А.Н. Балдин (наследники), текст, иллюстрации, 2021
© Р.Э. Рахматуллин, послесловие, 2021
© Издательство АСТ, 2021
* * *
В Москве действует не один календарь, а несколько; вместе они сворачиваются клубком – повторяют друг друга, сходятся, расходятся и пересекаются во множестве мест. В точках пересечения встают праздники; их роль тут наиважнейшая. Они освещают наподобие ламп помещение московского года – гулкое и необъятное пространство времени. Это самое главное: праздники сообщают нам о пространстве времени. Для Москвы нет ничего важнее этого сокровенного сообщения
Эскиз к иллюстрации на тему пословицы
«Как в Ивана Великого крест вколотили? – Нагнули, да и воткнули»
Вступление
КАК НАЧИНАЛАСЬ ЭТА КНИГА
Начиналась эта книга не то чтобы праздно, так – достаточно свободно, без определенной надобности.
Я был занят другой книгой о Москве – полностью нарисованной, состоящей из одних картинок[1 - Балдин А.Н. Москва. Портрет города в пословицах и поговорках. М.: Радуга, 1997.]. Когда-то, лет пятнадцать тому назад, мне заказали картинки в журнале, и даже не в одном, а в нескольких; бывают такие совпадения: вдруг в нескольких местах потребовались картинки с пословицами. Я принялся рисовать.
Сразу выяснилось, что рисовать пословицы очень удобно. Не нужно выбирать сюжет. Другое дело – рассказ или повесть, где надо найти один персонаж, одну ситуацию или сцену, годную для иллюстрации. А тут не нужно выбирать: пословица – картинка. Простое равенство: рисунок равен слову.
Рисунок = текст. Знал бы я тогда, до чего доведет это равенство: Москва не клином сошлась, околицы нет. Что это значит? Нужно рисовать город целиком – бескрайний, без околицы. В одной фразе заключено довольно пространства; сиди, рисуй слово за словом.
Заказ я выполнил быстро. Кстати, больше всего пословиц оказалось о Москве.
Я стал их собирать и понемногу рисовать, уже для себя, по-прежнему не задумываясь, к чему это приведет. Может, выйдет серия или альбом, что-то в этом роде.
Все-таки начало было праздно.
Собирание пословиц не составило особого труда; в большинстве своем они уже были собраны. У Даля, Афанасьева и других собирателей фольклора их оказалось великое множество. К ним добавились выраженция, близкие по смыслу, намеки на Москву и насмешки над ней. Что-то я услышал на улице – новые, недавно сочиненные выражения. Вместе собралось несколько сотен пословиц и поговорок. К каждой я постарался нарисовать картинку (или несколько, если выражение было многозначительно). Затем сложил их вместе – так вышла первая книга.
Слово и изображение переплелись в ней так, что составили подобие ковра. Собралась московская ткань, плотная и пестрая, подвижная, заворачивающая город в необъятный кокон. Страницы книги были оклеены ею, как обоями.
Я рисовал эту книгу семь лет. Вот чем обернулось равенство рисунка и текста.
* * *
Одновременно с рисованием происходило следующее. Каждая пословица, как ни была она мала, требовала разбора и толкования, дополнительного чтения, исследования и, главное, параллельного сочинения. Нельзя «дословно» иллюстрировать пословицы, нужно непременно при этом что-то сочинять, воображать свое, выдумывать Москву. Появились (нарисовались) заметки, комментарии и попутные рассуждения. Постоянно что-то записывалось – на полях, на соседних листах, на чем придется. Все это громоздилось на столе бумажной горой. Гора росла.
Постепенно стало ясно, что собирается еще одна книга – незаметно, как и первая; сама собой.
Скоро обозначилась главная тема этой книги.
Я опубликовал несколько заметок в газетах (взял с вершины бумажной горы). Первая появилась в газете «Сегодня»[2 - Праздный день в Кремле // Сегодня. 1995. 2 сентября.]*; редактор городского отдела Екатерина
Меледина отнеслась к моему рисованию-сочинению с сочувствием. Затем их было напечатано еще немало, по разным газетам и журналам. Большей частью они посвящались московским праздникам. Так было проще пристроить материал: начав с праздника как повода для публикации – в Москве каждый день праздник, – я легко мог перейти к рассуждениям попутным и отвлеченным. История, философия, метафизика Москвы – все вокруг праздника. Покров или Рождество, или такой, скажем, как обливание водой, который приходился на 26 сентября, когда было положено бегать по улицам, поливая сограждан водой из всего, что попадется под руку. Каждый праздник мог дать повод к размышлению: что такое это удивительное явление (не город, но именно явление, состояние души) – Москва.
Эти праздничные истории легко подверстывались одна к другой. Так – опять-таки, само собой – выяснилось, что у моей еще не существующей книги есть главная тема: календарь московских праздников.
Тогда же я встретил Рустама Рахматуллина – писателя, москвоведа и большого энтузиаста исследования Москвы. Он работал в журнале «Новая юность»; в нем были опубликованы «эскиз» будущей книги, вступление и несколько глав[3 - Новая юность, 1997, № 3 (24).].
* * *
И опять, как с первой, рисованной книгой, изначальная простота и легкость замысла (что может быть проще календаря?) привели к результату, которого я не планировал.
Сначала все шло, как задумывалось: один за другим «рисовались» праздники, церемонии, обычаи и обряды. Дальше, однако, все стало сложнее. В Москве действует не один календарь, а несколько – старый и новый, церковный и светский, официальный и народный, еще с десяток национальных и еще полный набор профессиональных праздников, не считая личных, имя которым легион.
Сравнивая, складывая их, я понемногу стал выяснять для себя некоторые закономерности в устройстве московского календаря. Сначала простые, затем все более сложные. В какой-то момент я даже принялся чертить его устройство. Занятным делом оказался этот «чертеж».
Календари совпадают и расходятся; вместе они составляют рисунок весьма своеобразный.
Этот рисунок не всегда точно соответствует счету месяцев. Я определил для себя, что праздничный календарь делится не на месяцы, а на сезоны. В этой книге их описано восемнадцать (можно насчитать и больше); они сменяют один другой, вместе составляя единый циклический сюжет[4 - В 2000 году у своих друзей в газете «Первое сентября» я опубликовал цикл рассуждений о календаре; он печатался весь год, по одному выпуску в месяц. Совпадение показалось нам интересным: юбилейный год, 2000-й, самый круглый из всех возможных, и его обозрение – также круглое, циклическое.].
Не только сюжет, но чертеж: праздники расставляют характерные точки на белой странице года. Опорные, исходные точки; между ними обнаруживаются смысловые связи (линии), общие сюжетные ходы, сходства и различия. Они образуют орнамент, искусно заплетенную сеть (времени). Легко представить себе сеть, сумку-авоську: праздники – узлы в этой авоське. Год помещается в прозрачную, но при этом удивительно прочную сеть из праздников; такова его форма в «пространстве», его характерное целое. Московский год представляет собой единую округлую фигуру, помещение во времени.
Оно весьма просторно; мы, сознаем это или нет, постоянно пребываем в этом помещении московского времени. Для нас пестрая сумма московских праздников составляет некую душевную оболочку, необходимый, хоть и незаметный покров. Мы не просто их отмечаем: мы как будто оборачиваемся этим покровом, оборачиваемся Москвой.
КРУГЛЫЙ ГОД
Некоторое время я наблюдал эту фигуру.
Самое интересное в ней то, что она никогда не остается неподвижна. Она как будто дышит, пульсирует: растет и затем опадает, как снежный ком. Год, согласно общему ходу праздников, растет из одной точки, округляется, превращается в шар, достигает максимума и затем опять постепенно сжимается в точку.
Представить это нетрудно, если понять, что исходная точка – это точка света. Пункт зимнего солнцестояния, когда мы наблюдаем минимум света: самый конец декабря и начало нового года. В начале года света мало, затем он начинает прибывать, к середине года достигает максимума и затем убывает, «сжимается» к декабрю обратно в точку.
Этот пульс года довольно прост; к тому же он прямо соответствует астрономическому чертежу.
Шар дышит во времени – это похоже на Москву.
Вот что занятно: последовательность праздников указывает не только на крайние точки минимума и максимума света, декабрь и июнь, но и промежуточные позиции «роста» и «убывания» года. Каждая такая позиция отмечена характерным праздником (что это за поэтапные праздники, я определил довольно скоро, и сейчас коротко об этом расскажу).
В Москве все начинается просто. Проще всего начать с круга: очевидно, что в основу календаря положен солнечный цикл. Лучше так: пульс – от минимума света в декабре к максимуму в июне. Солнечный свет пульсирует, расходясь сферой и сжимаясь: такая «фигура во времени» подходит Москве
Вот другая композиция – кстати сказать, не слишком московская.
Скорее, «немецкая» или пифагорова: в игру вступает геометрия – точки, линии и кубы. Так, согласно учебнику, в голове ученика растет пространство – из малой точки в куб, постепенно пребывая в числе измерений. Не иначе, эта постепенность досаждает Москве – ей все подавай сразу. Точное черчение наводит на Москву уныние; она согласна с «пифагоровым» учебником, растет в пространстве согласно его законам, но более интересуется временем. Она перелагает пифагоровы законы, отыскивая пространство времени; в этом заключается ее собственная потаенная грамота
Нужно разобраться с этими стадиями; в дальнейшем мы будем постоянно следить за ними: четверть года, половина, три четверти и так далее.
Москва – как Луна: сначала освещена на четверть, потом наполовину, летом полностью и так далее.
Тут могут возникнуть некоторые сложности, с которыми следует разобраться с самого начала.
На самом деле год в ощущении наблюдателя не растет, как воздушный шар, не «надувается» из малой сферы в большую. Наблюдатель иначе воспринимает его рост.
Год для него «раскладывается», постепенно пребывая в числе измерений.
Сначала мы видим точку света. Затем добавляется одно измерение: точка протягивается линией (линия одномерна). Линия расходится в плоскость – прибавилось еще одно измерение (плоскость двумерна). Наконец, плоскость разворачивается в пространство – оно трехмерно.
Точка – линия – плоскость – пространство. В принципе, и тут нет ничего сложного, все это известно нам со школы из уроков геометрии.
К примеру, так поэтапно растет воображаемое помещение в голове ребенка. Он так учится рисовать: от точки к линии, затем у него появляются плоские фигуры, и только после этого, далеко не сразу он приучается различать и воспроизводить пространство.
Я все это знал, принимал как нечто очевидное и некоторую игру: прикладывал к календарю точки, линии, плоскости и пространства – он без усилия складывался и раскладывался, как «пифагоров короб». Я наблюдал это и радовался: вот они, этапы «роста» времени – и вот они, соответствующие этим этапам праздники. Время в начале года растет по праздникам и к концу его убывает.
Есть день в календаре, когда в голове московского наблюдателя точка света протягивается линией, и есть соответствующий этому праздник. Есть день, когда эта линия (луч) растекается плоскостью света – и для этого есть праздник. Наконец, есть день и есть праздник, когда плоскость света разворачивается полным пространством.
Разумеется, сам по себе год не растет, тем более не раскладывается, как короб. Это происходит в нашем воображении, мы так воспринимаем прибавление и убывание света, но наше восприятие также подчинено некоторому закону развития – стало быть, и оно может быть «расчерчено», разложено на определенные стадии роста.
ПОВОРОТЫ И ОТКРЫТИЯ
Первое упражнение по московскому черчению. В начале года на чистый лист бумаги (времени) ставится точка.
Проще представить черную школьную доску и на ней точку, поставленную мелом. Так легче обозначить появление света. Это первый в нашем году праздник: точка – это единица, «корпускула» света, Рождественская звезда. Она появляется из кромешной тьмы в самые короткие дни года, в конце декабря. С нее начинается отсчет светового года. Его стартовый пункт – Рождество.
* * *
Дальше ставится вторая точка. В московском календаре ее отыскать нетрудно. Это Сретение (по старому календарю 2 февраля, по новому – 15-е, сороковой день после Рождества).
Христос во второй раз является людям: отсюда это «двоеточие». Младенца Христа впервые приносят в храм, где его встречает старец Симеон: так, согласно церковной символике, встречаются старое и новое времена, рисуется «двоеточие» Библии – Ветхий и Новый Заветы.
Для Москвы языческой – Москва не вполне еще избавилась от воспоминаний о язычестве – это связывается с сюжетом встречи двух сезонов, зимы и весны. Сретению соответствует Масленица: встреча, выкликание солнца. Сретение буквально и есть встреча. Этот праздник в том или ином виде существует в большинстве календарей. Церковь христианизировала древний языческий праздник; для нее это «неделя сыропустная и мясопустная», начало Великого поста. Таким образом, языческая Масленица оказывается в кругу переходящих церковных праздников, кочующих в календаре с места на место. Но, так или иначе, это место в календаре близко «стационарному» празднику Сретения. Они и по смыслу близки: тот и другой праздник означают встречу разных эпох, разных времен (года).
Рассматривая этот праздник, мы наблюдаем две точки – две стороны, двух участников события. Символ Сретения – «двоица». И далее: от одного к другому участнику события протягивается невидимый луч (времени). По этому лучу год начинает движение, начинается его постепенный разворот в пространство.
Неслучайно этот «двоящийся» праздник в году стоит в календаре как будто в одном шаге от Рождества. Время в Москве, окаменевшей за зиму, понемногу приходит в движение, делает первый шаг. Время учится ходить, как младенец – по линии, по тонкому лучу света.
Я рассматриваю праздник как некую пространственную фигуру и нахожу, что его устройство весьма разумно; он устроен точно по законам моей «праздной» геометрии. В нем видна последовательность: от «однозвездного» Рождественского праздника мы переходим к «двоящемуся» Сретению. Год все еще мал, но он уже прибавил в числе измерений. В этом смысле февральское Сретение представляется своеобразным «детством» года.
Все логично. Год понемногу разворачивается.
День за днем прибывает свет, прибывает жизнь.
* * *
Далее, по идее, нужно делать следующий шаг: от одномерной линии (луча) к двумерной плоскости (света). Так поэтапно должно расти помещение года.
Но не все так просто – все уже очень непросто, ведь мы говорим не об одних только точках и линиях, но о восприятии времени, о том, как последовательность больших праздников в году понемногу приучает московского человека к тому, как велико и поместительно время, как грамотно и складно устроен божий мир.
Точка (звезда), линия (луч, первый шаг от зимы к весне, символика встречи), плоскость – кстати, что такое плоскость света? – все эти образы открывают значительную глубину смысла. Они сложны и серьезны. Свет и самая жизнь появляется и растет; растет время, прибавляется жизнь. Но жизнь конечна. В «февральском» детстве, в самом начале жизненного пути к нам приходит сознание конечности собственной жизни.
На «чертеже» это выглядит так: проведенная мелом линия в одно мгновение может прерваться, утонуть в черном. Таково графическое отражение нашей мысли о смерти. Жизнь представляется тонкой нитью света, смерть прерывает ее. Заливает поле времени черным цветом.
Христианский календарь находит для этого должный образ: светлая нить, луч жизни протягивается над темной пропастью Великого поста.
Великий пост – сезон драматический; время на его протяжении натянуто струной. Но это также праздник: другой, протяженный, иначе окрашенный род церемонии. Праздники – это не одно только пение и пляски; это дни, свободные от будничной суеты, открытые для размышления, для помещения себя в бесконечность времени. Себя, конечного, требуется поместить в бесконечность, и так принять мысль о смерти: таково праздничное (великопостное) значение символа – линии, протянутой над темнотой.
Но вот приходит Пасха. По сути, в этот день Москва празднует бессмертие – для нее это главный праздник в году. На нашем чертеже это означает, что тонкий луч света более не один: он переплетается, сливается с другими лучами, растекается в плоскость, скатерть света. Символика Пасхи сложна и многогранна, однако этот образ прост и утешителен: вся земля развернута скатертью под лучами солнца, окончательно победившего зиму и (одномерную, единичную) смерть.
Так же просто и понятно наблюдателю, который взялся разобрать устройство года, «геометрическое» значение этого главного весеннего праздника. Пасха – это очередная ступень в развороте года, именно ступень, на которую можно уверенно опереться, а не ходить над прорвой времени по тонкому лучу, как по канату. Это очередное прибавление нашему праздничному году: точка, линия, – теперь плоскость (скатерть времени).
Рост года, видимый нами как рост света, продолжается. Теперь очевидно (с каждым шагом становится все более очевидно), что совершается не игра, не одни только упражнения с «коробом Пифагора». Календарь – не простое перечисление дат, не одно только прибавление дня за днем, но постепенное (сезонное) преображение сознания московского наблюдателя – как растущего поля смыслов, особого ментального помещения.
Так, поэтапно, меняется ощущение времени у празднующей Москвы. В своем воображении она раскладывается как, цветной короб, развертывается, как кокон света.
* * *
Далее в календаре Троица. Это очередной «переходный» пункт в строительстве года. После рождественской точки, после сретенского луча, после пасхального пребывания в плоскости (скатерти) света время, наконец, разворачивается в объем.
Троица: время делается «трехмерно».
В июне год развернут максимально. Свет достигает полноты, астрономического максимума. По новому календарю это конец июня. По старому – начало июля, Иванов день, праздник в честь Иоанна Крестителя. Это высшая точка светового года, момент полноты, предельной близости Москвы к солнцу.
Тут можно вспомнить реальный рельеф Москвы. Нам еще предстоит сравнить в нескольких ключевых точках рельеф Москвы и «синусоиду» ее календаря. В чем-то они схожи; линия московских холмов и впадин временами совпадает с этой «синусоидой». Москва, качаясь на холмах, стекая вниз к реке и следуя за рекой, представляет собой своего рода диаграмму, запись во времени.
На мой взгляд, высшая точка года, когда Москва вся целиком разворачивает себя в пространстве – таков в столице месяц июль, – соответствует положению Кремля на Боровицком холме. В этот момент праздничная Москва велика, почти безгранична; июль – это ее самый глубокий вдох (света), переполнение собой. И есть определенное сходство между июлем и Кремлем; оно будет разобрано в главе «О Кремле и колокольне». Сходство на уровне образа: точка на вершине года, Иванов день «совпадает» с золотой точкой на макушке колокольни Ивана Великого. Это один и тот же Иван: неудивительно, что день в календаре «похож» на купол колокольни.
Если представить себе некую идеальную Москву (сейчас ее различить трудно – она вся заросла новостройками, поспешными и неуместными, но если отвлечься от них и рассмотреть настоящую Москву), то сразу станет видно, как хорошо ее облик согласован с календарем. Москва похожа на календарь. Подъемы и падения ее рельефа, подчеркнутые храмами и колодцами старой застройки, соответствуют подъемам и падениям (бывает и такое) ее праздничного календаря.
Москва не просто проживает год – она катится по нему, как на русских горках: вверх-вниз. Боровицкая горка всегда была высшей точкой в этом катании.
* * *
Здесь же, в Кремле, на макушке июля наступает предел росту московского года. Начинается постепенный спуск с Боровицкой «вершины времени». Летний, полный год, широко развернутая сфера света начинает понемногу сжиматься.
Это странный, не очень заметный, непростой процесс. Или так: его не хочет замечать Москва. Ей хочется пребывать и далее на высоко взбитой Боровицкой подушке. Однако свет пошел на убыль – нужно привыкать к растущей темноте, осваивать новые правила бытия.
Церемония «сжатия» года так же расписана, разложена на праздники. Их множество; их появление и процедура весьма закономерны. Не погружаясь в подробности, но только продолжая чертить нашу предварительную схему, можно указать на несколько ключевых точек (праздников) «убывания» Москвы.
Петр и Павел (12 июля) час убавил, Илья-пророк (2 августа) два уволок. Это классика: беспокойство Москвы по поводу убывания света здесь выражено прямо.
Август: света заметно меньше, небо обещает осень.
В августе в календаре один за другим выступают три Спаса. Три праздника, которые разыгрывают каждый свою тему, но при этом составляют вместе сюжет бо?льший, сводящий их в одно смысловое целое. Нам как раз интересен этот бо?льший сюжет: он показывает, как поэтапно меняется «чертеж» года.
Меняется природа света: он не просто убывает – он преображается, замедляется, делается как будто плотнее. Так, словно свет и самое время переходят в плоть собираемых в августе плодов.
Первый из них – мед; первый Спас – Медовый (14 августа, 1-го по старому стилю). Это красивый образ: свет замедляется, но все еще течет; мед прямо напоминает о солнце. Время течет все медленнее, об этом говорит мед: он показывает, как «тяжелеет» время.
Первый Спас еще называют «мокрым». В этот день в Кремле во время церковной службы царю брызгали святой водой в лицо. И тогда царь «видел» время, лучше понимал его ход.
Далее идет Яблочный Спас: собственно Преображение (19 августа, 5-го по старому стилю). Свет как будто останавливается: яблоко налито подвижным светом (соком), но само уже неподвижно. Эта символическая остановка означает, что некий важный период года закончен. Год закругляется, как яблоко (понемногу закругляется Москва); при этом прошедшее время не исчезает – оно преображается, остается этим именно яблоком, которое нам дарит август. Символ очевиден: время, «созревшее» за прошедший год, теперь заключено в яблоке. Весь предыдущий рост, все возрасты дерева теперь сосредоточены в одном предмете – яблоко представляет собой фокус, в котором собраны, существуют одновременно весна, лето и осень. Непременно осень: в яблоке есть и будущее время – оно сохраняет время на будущее.
Это ясно отмечает церковный календарь; он в первую очередь устроен так, чтобы его пользователю было легче сориентироваться, увидеть в рое случайных дней разумное строение времени. По церковному календарю год заканчивается в августе. Преображение (света) – это последний из больших праздников православного московского года. Сюжет праздника тот же – о перемене света, о его переходе из (земного) пространства в иное, большее.
Третий Спас – Ореховый (29 августа, 15-го по старому стилю); в рамках того же образа это означает, что время успокоилось окончательно: ничто, никакая влага в нем не движется, не говорит о течении времени. Третий плод в этом смысле достаточно «сух»; плод в скорлупе ореха (прошедший год) упакован надолго – до следующего солнечного цикла.
Таковы три главных праздника августа: три стадии остановки света, три этапа метаморфозы – так еще недавно широко разлитый летний свет уходит из земного пространства. Прячется, сжимается, переходит в мед, яблоко и орех. Так в августе, в результате праздничной церемонии Москва готовится к осени.
Нужно отметить, что наша фигура года выходит не вполне симметричной: «выдох» времени, спуск с июльской вершины происходит не совсем так, как совершался «вдох», подъем на нее – это эмоционально разные сюжеты. Все логично: пульс года происходит в нашем воображении, он неизбежно окрашен эмоциями. Московский год – одушевленная, живая фигура, пространство чувств, короб-кокон нашего воображения.
* * *
К сентябрю московский год закругляется.
Сентябрь представляет собой корзину малых праздников. В первую очередь это связано с крестьянской традицией. Наступает пора праздновать успехи урожая. По крайней мере, сентябрь – это самое сытое время. Для русского крестьянина – а Москва еще во многом «крестьянская столица» – это соображение немаловажное. В календаре постоянно сказывается ее крестьянская память, действующая с незапамятных времен.
Крестьянская память подсказывает: сентябрь есть в первую очередь праздник урожая.
Церковь празднует Новолетие, церковный новый год (14 сентября, 1-го по старому стилю). В Москве это красивейший из всех сезонов: бабье лето составляет для столицы лучший фон. Москва сама, точно плод, созревший за год, покоится в корзине сентября. Здесь много поводов для веселья. Свет (продолжаем метафору) разобран на сувениры и подарки; амбары полны, о зиме думать рано.
Тут потребуются уточнения: сентябрь – месяц весьма непростой. У него есть своя изнанка, не столь пестрая и яркая, как лицевая сторона. Хмурые небеса, за шиворот сеет дождь, в домах еще не затопили, и потому Москва мерзнет. Сентябрь «двоится». Мы еще рассмотрим этот двуликий сезон подробнее, когда доберемся до него в обозрении календаря.
* * *
Бабье лето завершает Покров (14 октября, 1-го по старому стилю). Это один из самых необычных дней в году – день-фокус, переворачивающий время, ощутимо меняющий его ход.
Покров – это еще и праздник первого снега; в свое время, когда погода была более предсказуема, первый снег часто выпадал на Покров. В Москве тогда случался особый праздник – мгновенный, «точечный», разом меняющий пейзаж с черного на белый и обратно. Первый снег, как правило, лежит на земле недолго. Москва как будто вздрагивает: зрелище ее под покровом первого снега одновременно празднично, светло и печально.
В каком-то смысле Покров ставит точку в развитии сюжета о росте и убывании московского года.
По идее, точка нас ждет в декабре, когда свет дойдет до своего минимума, до появления Рождественской звезды. Однако мгновенность Покрова, этого дня-выключателя, меняет эту последовательную, геометрически выверенную картину. Покров «выключает» свет заранее. Время словно засыпает, закрывает глаза до Рождества.
Этому есть определенное подтверждение в календаре: большие праздники закончены после того, как свет (на одно мгновение) Покрова уходит под снег.
Что такое этот день-выключатель на нашем «чертеже», где меняются измерения Москвы? У него должна быть особая позиция; летом мы пребывали в пространстве Москвы, в сентябре устроили ему проводы – что такое позиция поем пространства? Куда переместилась Москва, в какое измерение, четвертое или пятое – какова она за (под) Покровом? Возможно, время достигло высшей степени плотности – такой, что сделалось уже невидимо, стало осенней тьмой.
Или, напротив, все начинается сначала? В этот день начинается «нулевой» цикл года. Метафора из области строительства: возведение следующего года (год есть архитектурное сооружение, «здание времени») начинается с закладки его фундамента. Под «землей», под покровом времени, после праздника Покрова начинается невидимая работа: следующий год задумывается, проектируется, чертится. Ему закладываются опоры, о нем составляется фундаментальное понятие.
Разумеется, мне, архитектору, близка и понятна эта строительная метафора.
После некоторого размышления я решил оставить в силе обе версии толкования Покрова. Пусть пока будет так: октябрь – это то именно «четвертое» или «пятое» измерение Москвы, когда свет есть предмет, мы еще посмотрим, что это за чудо. За ним идет ноябрь: пересменок, странное время, ни осень, ни зима, сезонное шатание Москвы. И наконец, декабрь – месяц пророков (в декабре действительно празднуется много пророков) – это «нулевой», проектный месяц, когда закладываются и рассчитываются параметры следующего года.
* * *
Самый удивительный из декабрьских праздников – Никола зимний: явление Деда Мороза, как будто поворачивающего ключ (во времени) и открывающего Новый год.
После «нулевого», проектного декабря пойдет первый месяц, январь – в общем и целом все сходится. В качестве предварительного наброска такая версия мне подходила.
Продолжал ли я играть в отвлеченные стереометрии или принял такое пространственное «устройство» года всерьез? К тому моменту я был достаточно уверен в своей календарной расшифровке; допустим, так: я играл в Москву всерьез.
Москва – это, помимо прочего, еще и поле игры, пространство верований, иногда поверхностных, которые закономерным (удивительным, игровым) образом вплетены в орнамент здешних праздников.
Мы празднуем Москву всерьез.
Мы «дышим» в ней временем. Время меняется в Москве мгновенно – на Рождество, Сретение или Покров – как если бы, открывая и закрывая двери, мы переходили из одного помещения года в другое.
Год выстраивается анфиладой, суммой помещений во времени, по-разному освещенных. В иных залах более тьмы, чем света. В «темных» помещениях октября, ноября и декабря праздников довольно; они смотрятся отдельными самосветящими фигурами на фоне поздней осени и зимы.
Черчение заканчивается.
Снова перед нами черная доска (времени). Тьмы больше, чем света; белые точки и штрихи – праздничные дни – окружает ночь. Главное содержание праздников поздней осени – ожидание нового света в точке Рождества. Время как будто пусто, течение его незаметно, но на самом деле оно хорошо спрятано. Календарь, словно шар, закатился в лунку, погрузился в темные воды вечности. Год коснулся своего дна. С закрытыми глазами Москва наблюдает бесконечность времени. Философствует, празднует ночь, молчит. Это время без времени: сфера московского года выйдет на поверхность и покатится далее в первое мгновение Рождества.
* * *
Упражнение завершено. Все сходится: «геометрически» (душевно) точно совершился праздничный пульс года. Москва вдохнула и выдохнула – так глубоко, что в ноябре оказалась как будто в минус-пространстве. Наша предварительная «пифагорова» схема – точка – линия – плоскость – пространство (света) и затем его, света, преображение, сжатие, возвращение в точку – нашла себе определенное подтверждение. Год нарисовался правильной фигурой (наше воображение так его представило, так подсказало наше желание: мы хотим видеть год правильной фигурой, того же хочет и Москва – чтобы у нее было все в порядке с «чертежом времени»).
Мы заподозрили также паузу, перерыв в годовом цикле, когда время «отдыхает», прячется от Покрова до Рождества.
Год не просто длится, он пульсирует, живет, и каждая стадия этого одушевленного пульса отмечена своим особым праздником. Московский праздничный год оказывается фигурой целостной, «черченой», неравнодушно сочиненной.
Круг московского календаря в «пифагоровых» измерениях (роста, сжатия, преображения пространства времени и его «отсутствия» на отрезке от Покрова до Рождества).
Последние два праздника условно симметричны
Некоторое время я предполагал оформить эту книгу наподобие комикса; в ней должен был действовать человек Москва (анонимный, праздный персонаж). Но затем явилось это простое соображение: не только он сочиняет Москву, но и она его сочиняет, водит по его голове колесиком календаря. Встречный процесс: выдумывание идеального города и попутное преображение горожанина. Такой сюжет не раскладывается напрямую в комикс – тут требуется рисование иного рода
Это самое важное приобретение в исследовании московского календаря. Не так важно, что «идеальный» сюжет роста и сжатия года счастливым образом замыкается, – мы рисовали его сами, притом достаточно свободно. Гораздо важнее то, что, сочиняя, мы постепенно московским образом меняемся сами.
Незаметным, самим собой происходящим ходом событий, празднуя, мы укладываем Москву в пространстве своей памяти. В помещении воображения, которое синхронно с Москвой «дышит» согласно световому пульсу года: так нам открывается переполненная праздниками московская сфера.
Идеальная фигура, лучшая из всех возможных.
Москва есть сфера перманентного сочинения во времени: такова ее идеальная форма. Москва – это живая сфера праздников, извлеченная человеком из небытия, равномерного, астрономически выверенного, «мертвого» хода времени.
ЧЕЛОВЕК МОСКВА
Итак, идеальная, лучшая из всех возможных, «круглая» Москва нарисована нами на праздники. Она есть продукт нашего коллективного сочинения.
Все московские праздники были кем-то и когда-то выдуманы и расставлены по своим местам. Это было сложное, зачастую анонимное, совместное, очень постепенное и сокровенное дело – строительство «праздной» Москвы. Удивительное дело: к примеру, в нем не имел обычной силы чиновный авторитет – сколько праздников, выдуманных властью по всякому удобному для себя случаю, канули в Лету? А если остались, то переменились так, что Москва и не помнит исходного, чиновного действия сверху. В Москве прежде всего празднует личность. Фильтр личного предпочтения постепенно освобождает новоизобретенный праздник от казенного налета, от политической и любой другой корысти и оставляет в календаре то, что нужно человеку: помещение во времени, чертог веселия и покоя, поле для свободного умствования и вольного разговора или такого же, никем не навязанного молчания. Вот праздник.
Его выбирает человек. «Дыхание» времени происходит у него в голове; таков пульс памяти. То же и о «чертеже» календаря: вся разобранная нами машинерия – точки, линии и плоскости, прилагаемые к подвижному телу года, – не более чем условность. Это вспомогательные конструкции, необходимые для того, чтобы помочь нам представить, как «дышит» Москва в пространстве времени, в воображении празднующего человека.
«Дышит» временем и сочиняет праздники человек Москва.
Что такое этот коллективный сочинитель?
Это довольно занятная фигура. Московит в общих чертах европеец, человек рациональный, но это только на поверхности. В значительной мере он крестьянин (весьма своеобразно верующий христианин) и еще отчасти язычник, который зачастую верит колдунам. И к ним в придачу – гороскопам, восточным календарям и прочей прикладной хронометрии. Московский «праздный» сочинитель живет по нескольким календарям сразу – и при этом мало об этом задумывается. (Правильно делает: рассчитать и свести вместе все имеющиеся в ходу календари есть задача сугубо математическая, притом немалой сложности.) Человек Москва этим не озабочен. Можно сказать так: он верует в некое правильное устройство (времени), которое независимо от всяких расчетов действует в Москве. Правильность московского хода времени он ощущает всей своей округлою душой. Он верует в Москву.
Это позволяет нашему сочинителю смешивать весьма произвольно праздничные рецепты многих календарей, своих и чужеродных (последние он предпочитает: в них ему чудится максимум тайны). Он очень интересен, этот воображаемый и воображающий персонаж. Не персонаж, автор – именно он постепенно и незаметно рисует обнаруженную нами идеальную московскую сферу, помещение его души.
Его хочется представить воочию.
* * *
Однажды я разбирал биографию Пушкина – не всю, только один год. Собственно, мне и нужен был один год, один праздничный цикл. Этот пушкинский год нельзя назвать просто годом – скорее это был опыт длиною в год.
1825 год – от первого до последнего дня проведенный в Михайловском, в ссылке (очень важно то, что это был год, проведенный вне Москвы). За этот год Пушкин решительно переменился: он начал его одним человеком и закончил другим, внутренне преображенным. Это был год, когда поэт написал «Бориса Годунова», произведение о Москве, как он сам его называл – комедию о беде Москвы. Но этого мало о «Годунове»; все мы признаем в нем нечто большее, нежели просто комедию. Это был опыт национальной самоидентификации нового русского слова. Сам поэт оценивал «Годунова» как результат провидения, мистического путешествия во времени в другую эпоху, в другую Москву.
Свой «московский» 1825 год Пушкин прожил определенно поэтапно – как только я это понял, все прочие вопросы были отставлены в сторону. Даже не так: он прожил год празднично: в последовательности традиционных календарных праздников. В той именно последовательности, какую мы только что разобрали: Рождество, Сретение, Пасха, Троица и так далее.
На Рождество, с приездом Пущина, он словно ожил, на Сретение двинул (по линии) свое перо; на Пасху, расстелив чистый белый лист (скатерть света), начал «Годунова». Удивительные душевные приключения случились на Троицу, когда состоялось его знаменитое хождение в народ (ярмарка, красная рубаха, ел апельсины, с нищими пел Лазаря). Так он вышел на воздух, в пространство. Лето для него оказалось максимально просторным и возвышенным; это было лето авторского преображения Пушкина, приуроченного к просто Преображению, главному празднику августа.
Осенью, на Покров, заочное – через пространство времени – наблюдение Москвы закончилось. «Годунов» был к первому снегу завершен – накрыт заключительной белой страницей.
Как точно этот пушкинский сюжет вписывается в наш «пространственный» сценарий года! Важно то еще, что, прожив этот год и оглянувшись, Пушкин сам увидел его как единую (идеальную) фигуру во времени. Это была «оптическая» сфера, заглянув в которую, он увидел Москву. Под замком, во тьме псковской ссылки он увидел свет. Так он «вернулся» в Москву – через праздники. Он сделал вдох и выдох московского времени, научился видеть, дышать и творить в этом большем времени.
В конце 1825 года Пушкин прямо признал себя пророком; как если бы у него на ладони был шар (московский год), инструмент для рассмотрения других времен.
Этим шаром, этой удивительной «оптической» сферой времени была для него Москва. Глядя в нее, празднуя с ней, Пушкин путешествовал во времени, оглядывался в историю, смотрел вперед – и пророчествовал. Стихотворение «Пророк» было им написано в следующем, 1826 году: на пике московского года, в июле. Это было обобщение, сжатие до точки всего предыдущего, преобразившего поэта года.
После этого, я считаю, есть все основания записать Пушкина праздничным московским человеком. В таком прочтении Пушкин и есть человек Москва.
Мы еще рассмотрим его 1825-й михайловско-московский год по позициям нескольких его ключевых праздников.
Это наблюдение убедило меня окончательно, что «дыхание» Москвы во времени актуально и действенно для сочиняющего московита. Он сочиняет Москву – встречным образом, и она его сочиняет, преображает в пределах своей живой подвижной сферы. Московский календарь есть творящее помещение, его наблюдение в авторском смысле весьма продуктивно.
С этого момента разбор праздников приобрел новое качество: по календарю я принялся следить за самосочинением Москвы.
* * *
Есть еще одна кандидатура на роль характерного московского сочинителя (соавтора Москвы). Возможно, при всем своем вселенском масштабе она может показаться для праздничной Москвы несколько сторонней. Это Лев Толстой. Тут может возникнуть вопросов куда больше, чем с идеальным московитом Пушкиным. Тем более «Толстой и праздничная Москва» – это сопряжение и вовсе неожиданное.
Однако некоторые мои изыскания, произведенные в данном вопросе, предварительные, «праздные» исследования показали, что есть существенная связь между Москвой и Львом Толстым (ее примеры мы также рассмотрим в этой книге, по ходу календаря). Что еще важнее, в своем творчестве, не обнаруживая этого явно, Лев Николаевич часто использует праздники как смысловой фон повествования. Иногда «фигуры» праздников прямо участвуют в его сюжетах.)
Роман Толстого «Война и мир» при внимательном рассмотрении оказывается достаточно точно разложен по праздникам. Это настоящий роман-календарь, в котором все сколько-нибудь серьезные события происходят на праздники, названные и неназванные. Мало этого: характер всякого подобного эпизода весьма точно соответствует характеру праздника, вплоть до деталей.
Толстой обладал удивительным чувством времени – и чувством Москвы, которую всегда предпочитал Петербургу, полагал ее истинной столицей, туго затянутым узлом русской истории и фокусом здешнего пространства.
Пусть Толстой будет на время исследования еще один человек Москва.
Замечательны оба кандидата.
Ситуация с Толстым в чем-то противоположна пушкинской: тот прожил год согласно праздничному календарю, написал выдающееся сочинение о Москве – и преобразился сам, и уверовал. Толстой тоже написал выдающееся сочинение о Москве, роман «Войну и мир» как роман-календарь, – и так написал, так точно его темперировал, уложил во времени, что в него уверовали мы все, его читатели.
Два сочинителя освещают планету Москвы каждый со своей стороны. Они живут в ее календаре, добавляя ему красок, переменяя его каждый на свой лад. С ними вместе фигура Москвы растет в (воображаемом) пространстве.
* * *
Итак, календарь: круглый (растущий сферой и опадающий, сходящийся в точку) московский год и человек Москва, проводящий время в творчестве, празднующий согласно этому календарю и его же, календарь, сочиняющий. Такова главная тема этой книги и главный ее герой.
ЕЩЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
Большей частью в ней собраны статьи (отрывки из них и предлинные цитаты), написанные незадолго до 2000 года, в самый Миллениум и некоторое время по его завершении. Наверное, и это нужно отметить. Нам выпало наблюдать занимательное зрелище, которое в суете перемен осталось большей частью не замечено: Москву на рубеже тысячелетий. Москва, как колобок, прокатилась через трижды круглое (три нуля – 2000) отверстие в календаре. Несомненно, в это «мгновение» она переменилась, внешне и внутренне. Как – нам еще предстоит оценить, на это нужно значительное время; событие тысячелетнего юбилея еще не завершено.
Но уже Москва видна по-другому, или мне так кажется после стольких лет наблюдений за ее волшебным пульсом? Нет, она определенно видна кругом: обведена по периметру идеальной часовой «сферой». В Москве все круги и сферы. Она есть русские часы; в ней как будто закручивается пружина времени, от нее идут волны воображаемого (метафизического) пространства.
Город как часовой механизм – одушевленный, склонный к праздным грезам; инструмент по наблюдению времени. Не хронометр: хроноскоп. В этом качестве Москва известна мало; ее исследование как машины времени только начинается.
Композиция исполнена глубокого смысла. На одно мгновение предмет Москвы разъят; не нужен тысячелетний юбилей – мгновение может явиться «вне графика». Несколько раз в году московская скорлупа таинственным образом размыкается и показывает свое идеально организованное содержимое. Мечту о сфере (времени)
Ее фигуре свойствен вес: Москва в принципе массивна. Столичный статус дополняет ее тяжесть. На юбилей (см. предыдущую картинку) Москва предстает монументом. При этом в мечтах и грезах она обезвешена, постоянно готова к полету. В идеале Москва стремится к нулевому (небесному) состоянию. Ее сходство с нулем во многих отношениях многозначительно
Первая часть
Предмет Москвы
Московский «механизм» работает просто. Начиная с Покрова город съезжает в осень. С высоты лета – вниз, к меньшему свету, в темень и дожди. С этого момента начинается вымысел Москвы о пространстве года, об идеальной механике круговерчения времени. Эта механика более всего занимает Москву.
Ей нужно совершенное устройство (во времени)
Казанский спуск
14 октября – 4 ноября
Началом «праздного» года следует считать не 1 января, не 1 сентября (Новолетие по старому стилю), но Покров – 14 октября по новому стилю, 1-е по старому. Тут необходимы объяснения. Часть их уже была представлена; это были рассуждения «геометрические»: Покров – одна из ключевых точек в цикле метаморфоз света; в этот день свет меняет число «измерений», уходит из пространства, прячется до начала следующего года, до будущего Рождества.
Праздничная традиция также особо отличает Покров. За ним (под покровом) Москва начинала другую жизнь. Этот день-выключатель, приходившийся в свое время на 1 октября, завершал череду ярких сентябрьских праздников – с ним из Москвы уходило бабье лето.
Сентябрь еще вполне светел; его праздничная корзина полна доверху. Закончилась страда, совершены все церемонии, связанные с уборкой урожая. Их множество: вспомнили все – от свеклы до овса; даже пчел, укрываемых на зиму, проводили особой «медовой девятиной» – девятидневным поеданием меда.
Все это позади; на Покров Москва пересекает некую важную границу: отныне цвет и звук в ней меняются, она словно пустеет, наполняется тишиной.
Наступила пауза для размышления. Если в человеке Москва сидит крестьянин (а он в нем сидит несомненно), то для него этот переход из сентября в октябрь представляет принципиальную перемену состояния.
Это переход от праздника к праздности.
К состоянию странной (относительной) свободы, когда круг занятий, способных его развлечь, стремительно сужается и он оказывается наедине с самим собой. Он принимается сочинять, воображать лишнее.
Важнее всего – за Покровом начинается праздное самосочинение Москвы.
* * *
Сразу вспоминается Пушкин – вот признанный октябрьский автор. Александр Сергеевич Москве родной сын – буквально, по месту рождения. (Толстой, скорее, ею усыновлен; о нем предстоит особый октябрьский рассказ.)
Пушкин определенно указывает на октябрь как на свою сокровенную лабораторию: это место в календаре, где ему легче всего сочиняется. Стихи он собирает, как урожай; точно крестьянин, готовит эту позднюю страду – весь год собирает заметки, эскизы, развернутые, но не отделанные главы – на Покров уединяется, под покровом творит. Пустыня поздней осени, с каждым днем, с каждым вздохом леса отворяющаяся все шире, его не пугает – напротив. Уходящую явь Пушкин успешно заменяет словом – пространство остается полно.
Его слова делаются октябрьским образом предметными.
Хороший урок: ушедшее из Москвы лето должно теперь заменять предметом слова – растить его в тишине, в отрыве от пестрого летнего тела.
* * *
Был упомянут еще один аргумент в доказательство того, что именно после Покрова следует начинать наблюдение московского «праздного» календаря.
Покров выступает как заранее объявленное начало зимы. Это своеобразный зимний предел во времени, ясно отмеченный в народном сознании: на Покров приходится праздник первого снега.
Первый снег теперь все реже выпадает именно в этот день, но для традиционного календаря это не суть важно: календарь помнит о первом снеге, на Покров вспоминает зиму и дает об этом знать Москве.
Что такое это высланное далеко вперед заявление зимы, ее первый ледяной привет? Малое чудо, «окаменение» воды, длящееся один покровский день. Все, что связано с переменами в состоянии воды, имеет для календаря существенную важность. Превращение воды в снег и лед означает для Москвы своеобразную остановку времени. Время словно замирает на мгновение. Этого природного фокуса не знает ни одна христианская столица – только Москва.
Праздник первого снега отделяет Москву от других христианских, родственных ей культурных и сакральных пространств. В первую очередь от Константинополя, от которого она унаследовала традиционный календарь.
Константинополь представляет для Москвы хронологическую матрицу: ее календарь строится поверх византийского, более или менее точно повторяя его ключевые праздники. Но вот в одно мгновение падает на Москву первый снег и белым пологом (чистою страницей) отделяет ее от материнского лона.
После Покрова Москва делается сам по себе календарем.
Она не просто отделяется от византийской матрицы: она делается в истории самостоятельной, узнаваемой фигурой. Теперь она другой «предмет времени». У нее должны быть особое начало во времени и соответствующий этому началу праздник. Этот праздник – Покров.
Византийский календарь завершает праздничный цикл в августе. 1 сентября православная церковь, согласно этому календарю, отмечает Новолетие. Москва после этого протягивает праздничный, урожайный сентябрь; ее лето – третье, бабье лето – все длится.
Но вот в один день, разом, с появлением первого снега это лето заканчивается. На одно мгновение в Москве поселяется зима. Нет более Константинополя и его счета времени. Есть Москва: так начинается ее собственный календарь.
Покров, как никакой другой день в году, обозначает самостоятельность московского календаря; после него начинается сезон, которого ни у кого нет более. До Рождества еще три месяца, а уже вода в Москве окаменела и встало время. Нужно выдумывать бытие заново.
Это повод для большого праздного художества.
14 октября открывается дверь в «лабораторию» Москвы: полутьма, пространство гулко, предметы и краски показательно отдельны и округлы. Неудивительно – если сама Москва теперь отдельна от прежней истории, отчленена, свободна от Царьграда.
Тут есть повод для печали (октябрьской): не просто свободу, но разрыв Москвы с привычной матрицей фиксирует «покровский» календарь. Нет Царьграда – стало быть, Москва осиротела.
Новое состояние Москвы во многом драматично; не столько она покинула старый свет, сколько свет ее оставил. Лето кончилось, время спряталось, раскатилось яблоками, рассыпалось золотым зерном. Начинается пьеса об осенней пропаже времени, об октябрьских прятках света. Время рядом, за оболочкой мгновения, как летний свет за глянцевым, улыбающимся покровом яблока, – там, не здесь.
Задание для Москвы: восстановить присутствие времени. Вернуть лето: неосуществимое, утопическое задание. Все равно что найти дорогу в рай. От этого Москве является печаль, и вместе с ней твердое ощущение необходимости особого рода художества – времязаменяющего, которое пока неизвестно что такое. Как заменить, как (в календаре) нарисовать другое, собственное время?
ЗА ПОКРОВОМ, В СТОРОНУ КАЗАНИ
Этот «лабораторный» послепокровский сезон в Москве можно определить как Казанский.
Первое объяснение: на следующий день после праздника Покрова, 15 октября, Москва празднует покорение Казани Иоанном Грозным (1552). Таково начало сезона, которое сразу задает стиль его проведения. Рисуется восточный вектор; в том направлении готово течь московское время, там совершается событие, главное на этом отрезке календаря. Туда указывает Казань.
Так начинается художество Москвы во времени: мысленно она поворачивается на восток.
Завершает октябрь Казанская (празднование Казанской иконы Божией Матери), приходящаяся на 4 ноября; большой праздник, во все времена отмечаемый в Москве. Это означает, что начало и конец первого праздного сезона Москвы отмечены казанской рифмой.
Москва слышит это: она меняется согласно этой рифме. Таково ее «пластилиновое» свойство – она умеет меняться на праздник.
Вот пример самый показательный, который имеет смысл рассмотреть подробно, чтобы понять, как способно перемениться на праздник «пластилиновое» тело Москвы. Пришел Покров, за него спряталось прошедшее лето: нужно строить ему замену. На следующий же день ему является замена – и какая! Собор Василия Блаженного – один из самых ярких, знаковых предметов Москвы.
В память о победе над Казанью в Москве строится особый собор – Покровский, Покрова, что на Рву, он же Василия Блаженного. Это настоящая визитная карточка Москвы. Очень хорошо, что собором Василия Блаженного открывается наш праздный календарь: собор встает на обложке календаря – по нему Москва узнаваема сразу.
Сюжет строительства Покровского собора есть уже готовое литературное произведение: согласно легенде, он строился – собирался – из нескольких малых храмов, каждый из которых знаменовал взятие очередного города в войне Москвы с Казанью. (Не совсем так: малыми храмами отмечались ключевые события той войны – начало похода, начало штурма Казани, его победное завершение.) Так Покровский собор являет собой воплощенную историю. Одновременно это календарь: каждый храм посвящался святому, на праздник которого приходилось то или иное победное событие. Один храм в этом соборе «весенний», другой «летний», в центре же встает «осенний», Покровский: в праздник Покрова начался решающий штурм Казани.
Не здание, а вереница праздников, застывший в воздухе салют победы (кстати, похоже; к тому же салют как таковой прямо связывается в нашем сознании с Красной площадью, Спасской башней и этой фигурой Покровского собора). Это не собор, а постоянно действующая иллюминация: синее небо, которое в октябре из-за золота листвы делается вдвое сине?е, не хуже ночной тьмы оттеняет этот салют красок: отдельных, самосветящих, каменно плотных.
Таков первый фокус праздной Москвы: 14 октября летний свет ушел за Покров и 15-го вернулся этим фейерверком истории. Такова вышла первая октябрьская замена свету. Вот он, первый предмет Москвы, свет в «четвертом» измерении. Собор в Москве уместен во всяком смысле: к примеру, находится от Кремля по направлению к востоку, к Казани. Кремль, согласно московской метафизике, находится в центре пространства и времени. И, что не менее важно, этот собор уместен в календаре между 14 и 15 октября, сразу за Покровом: в этой точке времени разворачивается его цветная композиция, отсюда бьет фонтан красок.
Свет был просто светом, а стал Москвой: мы наблюдаем лучшее из всех возможных изображение, скульптуру Москвы.
КАЛЕНДАРЬ НАКЛОНИЛСЯ
Почему «спуск»?
Вторая половина октября: спуск в позднюю осень, тьму и хлябь ноября. Москва в своем художестве контрастна. Победный салют Василия Блаженного, столь уместный в день Покрова, означает, по сути, пальбу напоследок, проводы лета. Свет замыкается в дробные, вьющиеся, растущие булавами главы собора. Они поднимаются и замирают: лето окончено.
Собор встает над спуском – Васильевским спуском: показательная мизансцена. Это спуск не только к реке, но и в осень, на дно календаря. Солнце катится все ниже, словно повторяя рисунок Васильевского спуска; все яснее рисуется разрыв московской материи – собор вверх, земля вниз.
Собор встает над обрывом, над бывшим рвом: земля по обе стороны собора валится вниз водопадами булыжника. Слева и справа от собора Красная площадь льет вниз.
Красная площадь – строго говоря, не площадь, а широкий проход вдоль стены Кремля: парадный, церемониальный, торжественный, причем в одном господствующем направлении – к реке. Площадь степенно движется, течет, огибает собор и обрывается вниз «осенним» Васильевским спуском. Не подъемом, но именно спуском. Так и в календаре: спуск в осень после (праздника) собора.
Пластилиновая поверхность Москвы поднимается и опускается по указанию календаря. После Покрова она ощутимо опускается. Собор стремится вверх и оказывается «на рву» – в точке разрыва, и в календаре, и в пространстве. У обрыва, по-над рекой, и в календаре, по-над зимой.
И в истории, по-над казанской войной.
Собор вписывается характерным, эмоционально окрашенным сюжетом в некий основополагающий московский текст: он встает в верхней точке Казанского спуска.
Этот московский текст есть сочинение связное и последовательное. Мы уже наблюдали, как он составил круг, единый цикл времяпровождения. Осенью в этом тексте мы читаем о прятках света и замене его покровско-казанской иллюминацией. Здесь же история о Казанском спуске (во тьму ноября, в войну), в верхней точке которого помещается Покровский собор как предмет света.
Вот и на схеме, которая рисует рост и убывание года, мы видим спуск: «дно» времени уже близко.
На этой схеме пункт Покрова обозначает переход Москвы в качественно новое состояние. Она осталась вне света, без света. Свет заменяют ей «москвоподобные» фигуры и предметы, подобные Покровскому собору.
* * *
Единство московского сюжета, связывающего, как в случае с собором Василия Блаженного, рельеф города и календаря, представляет еще один пластический закон Москвы.
Москва стремится собраться узлом или по многим местам многими узлами, «рифмами» пространства со временем. Место должно соответствовать календарю, быть проникнуто одинаковой с ним эмоцией, оно должно быть очеловечено, награждено именем. Все должно соответствовать имени места и единому московскому сюжету: Москва, как сочинитель, тотальна.
Она подвигает своих авторов, архитекторов, художников или, скажем, поэтов, предпочитающих писать после Покрова, к целостным, всесвязующим действиям. В ее тотальном произведении изображение должно быть одно и то же со словом, равно и с чувством, которое вызывает это слово. В результате Москва, видимая и невидимая, собирается нервными узлами, сгустками смысла, фокусами плоти – такова ее подвижная, ежесекундно замирающая узорчатая ткань.
Замечательно то, что она одновременно дробь и целое.
* * *
В Москве связь места и времени часто предстает воочию: так сложно и неслучайно лепится этот древний город. Здания-кораллы (те, что сохранились; оттого, что они редки, они тем более выглядят как фокусы и узлы московской ткани) – изъеденные временем, сбрасывающие шелуху штукатурки, они являют собой обломки истории, поочередно согревающие и леденящие душу.
Плоть Москвы, как и ее календарь, пестра, конфликтна, эмоционально насыщенна.
Очень хорошо, что наблюдение началось с Василия Блаженного: в своих составных частях он предельно контрастен, никак не мертв, но жив – чудный, украшенный звездами и каменьями восточный спрут воссел на изгибе москводна, его винтом заверченные щупальца-купола тянутся к небу (поверхности моря?). Поверхности времени: по Васильевскому спуску мы ощутимо съезжаем на дно календаря.
* * *
То же и с персоналиями: герои здешней истории обязаны вписаться в «тотальный» сюжет Москвы, ввязаться в тот или иной ее узел, притом в контрасте, конфликте, споре – иначе память города их не удержит.
Физиономически Казанский спуск представлен парой: Иоанн Грозный и Василий Блаженный. Московская память уверенно соединяет их вместе. Две полярные фигуры – царь и юродивый: верх и низ московской политической сферы.
На иконах Василий гол и космат; особенно хорош его образ на Большой Полянке, в церкви Григория Неокесарийского.
По «рельефу» московской истории эти двое шагают вместе; царь и юродивый доходят до покровского предела, до 1557 года. В тот год собор был закончен – так закончилась «сентябрьская» (средневековая) эпоха Москвы. Здесь же, в этом переломном пункте истории, между ними происходит разрыв. Блаженный Василий умирает, ложится у Троицкого придела новопостроенного храма, Грозный отправляется далее – и срывается в темень, в деспотию и Казань.
Москва отлично помнит эту драматическую сцену, и теперь ее воспроизводит в сцене спуска, и показывает нам: вот она, во всем возможном контрасте, – юродивый и царь, собор и обрыв.
Москва вся сошлась на похороны святого. Грозный с боярами нес гроб, митрополит Макарий с собором высшего духовенства совершал службу. С этого момента, в этом месте (времени), с покровского разрыва-обрыва московской истории начинается Казанский спуск.
Это одно событие, день-узел: 15 октября, первый день после Покрова. Первый шаг на ту осеннюю плоскость, с которой не будет другого пути, как только вниз. Этот первый день спуска показательно отделен, оторван от праздничного (сентябрьского) тела. Москва на его примере ясно обозначает свои казанские сезонные предпочтения.
В октябре ей надобны предметы света.
* * *
Это важное слово: предпочтения.
Сейчас, когда мы только определяем правила дальнейшего похода – вслед за Москвой, в поисках света по ее охлажденной «хроносфере», – имеет смысл объясниться по поводу этих как раз предпочтений. По сути, это единственное средство, которым может пользоваться Москва, побуждая своих авторов к тому или иному оформительскому действию. Она напускает на них облако предпочтений – векторов, указателей для вдохновения, тайных стрелок и струений, подсказок, скрытых рифм, всего, что только может разбудить их интуицию, сокровенное зрение и слух. В этом месте и в этот день она обнаруживает некий неравнодушный фон – давай, пиши по этому фону, вписывайся в Москву. Ты свободен, фон будто бы пуст (особенно такой, октябрьский), но эта пустота наэлектризована; поле ее разведено между полюсами чувства, и только ткни пером, попади в верную точку – и полетят искры, явятся смыслы, которые только что были неразличимы. Странная штука – московская пустота.
Так вот, о предпочтениях, и тут, возможно, станет более ясно, что такое сезоны московского календаря. Это те его помещения, в рамках которых действуют устойчивые суммы московских предпочтений. Календарь – это последовательность пространств, анфилада помещений времени, и каждая комната, каждый зал, что мы проходим по этой анфиладе, означена сезонными предпочтениями.
С такого-то по такое число Москва склонна вспоминать о Казани; в пространстве немедленно рисуется восточный вектор, под ногами клонится спуск октября, календарь отворяется послепокровской пустотой, ее без остатка занимает фигура Покровского собора. Ко всему, что происходит в эти числа октября, приложимы контрастные стрелки-предпочтения этого сезона. Мы пребываем в облаке этих указующих стрелок. Московский сезон сообщает всему, что происходит в его пределах, определенный (фоновый) смысл.
Эта книга – о переменах календарного смысла; мы переходим из одного «помещения» Москвы в другое, из сезона в сезон, и так, двигаясь постепенно и «кругосветно», стремимся обогнуть всю необъятную планету Москвы. Каждый день в этом странствии описать невозможно; но можно попытаться обозначить контуры календарных пространств. Определить их предпочтения, найти те события, те праздники (фокусы пространства времени), которые наиболее характерны для этого сезона.
Совпадения различных календарей, праздничных рецептов указывают достаточно определенно на главный сюжет сезона, на то или иное предпочтение Москвы.
ЕВЛАМПИЙ, ОНДРОН, ОСИЯ
Народный календарь
Эта рубрика будет постоянной – показания народного календаря весьма устойчивы. Они оттеняют «сольные» выступления оформителей Москвы, выходят на передний план или остаются фоном, но всегда сообщают нечто фундаментально важное о смысле происходящего в том или ином сезонном «помещении»: на свой лад, на своем языке.
Народный календарь полон приметами и пословицами, то и другое суть рифмы. Москва – особенно в октябре – хорошо различает рифмы.
Что такое Казанский сезон в народном календаре? Праздность, «пустота» октября (свобода от страды, от утомления урожаем) очевидным образом провоцирует народное сочинение; в частности – мы это еще отметим не раз – московский крестьянин-христианин начинает перелагать греческий календарь на свой лад. Константинополь после покровского (ментального) разрыва во времени отходит в прошлое. Теперь в Москве свое царство, свое помещение календаря. И – свои имена.
23 октября, в церковном (византийском) календаре – Евлампий
Евлампий лучину отщепляет, огонь вздувает, тотемъ стращает. Тут сочинения немного: Евлампий и на греческом означает благосветлый. Русский человек прямо и без особой ошибки связывает Евлампия с лампой; в этот день положено было расставлять по дому все, что может гореть и светить.
Тотемъ за окнами сходится с каждым днем все гуще, небо все ниже – самое время отодвинуть границу тьмы малым домашним огнем. Топят печь, в ней дробят угли. Дом полнится созвездиями, в этот день дом сам себе небо.
Так же светит всеми красками, сам по себе, заменяя Москве летний свет, Покровский собор.
25 октября – Андроник
У Даля он на «А», в народе на «О»: Ондроник – здесь уже идет некоторая (северная) отсебятина. Андроник – святой армянского происхождения. Здесь же, в Москве, Ондрон – это длинный шест, на конце которого укреплен черпак, коим обыкновенно достают в колодце воду. Но в ночь на Андроника Ондрону находится другое важное применение. Им достают до неба и черпают звезды: гадают. Ходят на крышу и машут шестом с черпаком, ловят свет. (Опять о соборе: он наловил звездный свет черпаками своих куполов.) Или, обмотав паклей, сжигают Ондрона в чистом поле, в очерченном круге. Снова обряд со светом. Так ввиду грядущей зимы зазывают огонь.
Ондрон метет звездный двор. Сметает небесный сор. Отворяет обратную сторону (скрывни) луны. Произнесение имени Ондрон в самом деле напоминает гром при проведении палкой с черпаком по жестяным октябрьским небесам.
29 октября – Евфимий
Его сложное имя никак не перетолковывается, только укорачивается и произносится по-людски (Ефим и Ефим, что делать с ним?). Зато Ефиму приписываются свойства колдуна. Евфимий смыкает корни деревьев и трав с землей, навевает сон. Рожденный в этот день боек, ему суждено разгонять осеннюю тьму, развеивать тоску.
В этот же день – Солнечная Щерба. Редкие (оттого крепкие) лучи солнца. Выносят во двор всякую ветошь и тряпки, освещают и проветривают их, «укрепляя» перед долгой зимой.
Еще о крепости (предметов). Однажды я услышал, что в прежние времена применялся такой рецепт соления огурцов: их закатывали в бочки, затем оные бочки конопатили и после Покрова опускали в воду (неподвижную – скажем, в пруд или бочаг). Чем скорее после этого на воде вставал лед, тем было лучше для огурцов. Они дольше оставались крепки – отдельны, предметны – и отлично сохраняли вкус. Их можно было так хранить всю зиму, до следующего большого света. Огурцы прятали, как Москву: под лед, за Покров.
30 октября – пророк Осия
Этот совпал с тележной осью. Расстается колесо с осью. Убираем телегу, достаем сани. Отдых лошади. Внешнее пространство сужается.
Зато словно заново является, в темноте становится ярче цвет. (Вспомним собор.)
31 октября – апостол и евангелист, врач и художник Лука
Вот как раз: художество и цвет. Художник Лука написал первые и потому знаменитейшие иконы Богоматери (нам досталась Иверская, после многих странствий и позднейших мытарств; полякам – Ченстоховска). Евангелие от Луки самое из всех цветное; оно наиболее полно и последовательно и по-своему тепло, человечно. Вообще, Лука просится в сентябрь (к луку), в тамошнюю корзину праздников. Его символ – Телец (не путать с гороскопом, здесь другие знаки и смыслы: Иоанн – орел, Марк – лев, Матфей – человек). Его рассказ сосредоточен на жертве Христа и фигуре Богородицы. Сюжет заклания, жертвы первенца непременно связан с историей матери: он становится у апостола Луки центральным.
Ему молятся об исцелении глаз и помощи при иконописании. В октябре нужно учиться видеть заново, заменять летний свет предметами сочинения.
В этот же день, 31 октября, – прилет зимних птиц. Сорочий праздник. У лошадей продолжаются каникулы: дороги развезло. Поэтому активен домовой в конюшнях. Сорока мешает ему, домовой с досады хлопает по соломенной крыше. Таково толкование ветра.
От этого дня начинается кормление всех и вся хлебом и пирогами: птиц, домовых и собственно земли. Все отдельные предметы света: крошки хлеба, пироги, птицы.
2 ноября – Артемий-помощник
Этот оказывает помощь при грыже (время надорвалось за лето?). Артемию молились об избавлении от хворей и напрасной смерти.
Трудный день, водит от счастья к горю. Есть поверье, что на защиту рожденного в этот день встает мать зверей волчица. Артемий по духу (и по имени – сестра его Артемида) близок лесу, зверям, птицам.
Волчий корень ему покорен.
3 ноября – первая пороша – не путь
Зазывание зимы, чтобы мороз скорее мостил дороги. В этот день обходили за три версты чужих и уличных собак. Лают чужие – попадешь в убыток. И напротив: домашняя собака должна лаять как можно больше. Чем громче лай в доме, тем сытнее жизнь.
Это сочинение календаря (снизу) неостановимо, анонимно, в каждом отдельном случае как будто случайно и вместе с тем в общем – в октябре, ввиду зимы, – закономерно. Так в нарастающей тьме и холоде согревается душа. Рецепты «самовозгорания» (огня и слова) актуальны; человеку требуются тепло и свет во всяком смысле.
Все это сохраняет силу и по отношению к Москве: накануне зимы она так же ищет тепла и света. В октябре она включает (пушкинские) слова-лампы и строит соборы-маяки.
* * *
Еще одна рубрика: церковный календарь.
Кстати, я нечаянно отнес апостола Луку в народный календарь; неудивительно: он человечен и тепел. Опять-таки – художник. И вообще: календарь – это живое пространство смысла, не все в нем нужно расставлять по полочкам. Тем более такой, где мы разбираем московские художества.
Это праздный, свободный календарь.
17 октября – Собор Казанских святых
Это не совпадение, а простое подтверждение заявленной казанской темы. Церковь согласно сезону проводит цикл казанских служб; Москва стремится духовно освоить новопокоренный восток. Интересно другое: здесь можно наблюдать, по крайней мере, предполагать формирование ментального ландшафта всей России. Бо?льшая часть местных соборов в церковном календаре приходится на май-июнь. Это сюжеты восхождения, подъема к Москве, на кремлевское июльское «плато». Казанские святые стоят в календаре как будто особняком: на «востоке» календаря, на спуске (в зиму) из Москвы.
За Казанскими святыми в календаре чудятся прорва и Тартар; на востоке контур Московии не замкнут.
Исторический календарь
Он полон совпадений, закономерных и случайных. Вот, кстати, «восточное» совпадение – наверное, его следует признать случайным, подтверждающим разве что азиатский колорит сезона: 16 октября 1853 года турецкий паша объявил России войну. Так была обозначена севастопольская катастрофа, провал 1855 года. Сто лет спустя, 16 октября 1954 года, в Севастополе была открыта знаменитая панорама.
17 октября 1582 года в католических странах введен григорианский календарь. Это максимально возможное воплощение отдельности и разрыва (во времени).
После окончания строительства Покровского собора прошло едва пять лет. По сути, эти события синхронны. На обоих полюсах Европы «сентябрь» Средневековья закончился. После составления григорианского календаря между этими полюсами произошел разрыв по времени и месту. Запад, рассчитав время заново, «отправился» на запад. Восток остался на востоке. Юг, Царьград уже сто лет как исчез вовсе. Что в центре? Что в Москве? То, что открывается за (под) Покровом: ее сокровенная охлажденная центральность – особый, «нулевой сезон» времени.
* * *
Еще два октябрьских – конфликтных, драматических сюжета. (От собора – по спуску вниз.) Один известен мало; это события октября 1941 года: паника в Москве, расстрелы мародеров, бегство города на восток. Только к концу месяца властям удается взять ситуацию под контроль. Такой октябрьский срыв Москва вспоминать не хочет; ни одной книги, ни одного фильма на эту тему мне неизвестно.
Другой сюжет, напротив, знаменит: 1812 год, Наполеон в Москве. Не пожар: он совершился в сентябре, «на праздник города». Октябрь 1812 года – это, по сути, первая (скорее, нулевая) послепожарная эпоха. Москва еще в плену, французское войско в процессе распада (на спуске). Порядок в городе, в том, что осталось от города, никакими силами удержать не удается. В нем царит «восточный» хаос. В своих записках Наполеон упорно называет Покровский собор мечетью – mosca слишком похоже на Москва.
24 октября начинается исход французов; им по пяткам бьет мороз, за спиной завоевателей остается вместо города обгорелая дыра. Москва с Васильевского спуска валится (по календарю) в обратную сторону: в тартарары.
Выбор событий субъективен (он всегда субъективен при составлении «праздного» календаря); его задача – указать на содержание, главную тему сезона и, что не менее важно, – на его пластику. Мы наблюдаем общее склонение, главный (зимний, восточный) вектор сезона и его эмблему, собор на Васильевском спуске. Воплощающий, заменяющий собой ушедшее лето Москвы.
ПОЧЕМУ ТОЛСТОЙ?
Это большая тема, к которой мы будем возвращаться постоянно. Явился, наконец, второй московский сочинитель.
Это неверно о Толстом; он не второй, и даже не первый: он, в самоощущении, единственный. Другой роли он сам бы не признал – Толстой, как Москва, тотален. Он все готов заменить одним собой. Также и во времени он готов поместиться единственной, все заполняющей (узловой) фигурой.
Он очень похож на Москву – как облако предпочтений, как авторская сфера (шар, не имеющий размеров, – так в романе «Война и мир» учитель Пьера Безухова, швейцарец, являющийся Пьеру в вещем сне, характеризуют самую жизнь). Толстой в метафизическом смысле есть безразмерный шар, и в том же заумном смысле он «равен» Москве.
Пушкин, хоть и рожден в Москве, все же помещается как бы вне ее, освещает ее ясным внешним светом. Этот же человек-шар сидит внутри Москвы, спрятан в ней – и она в нем спрятана. Они совпадают в пластическом приеме, одинаково плетут время: вокруг себя, как кокон или паутину.
Толстой уже был заявлен тайным «церемониймейстером», большим знатоком московского календаря. По крайней мере как автор, в высшей степени чувствительный к его ходу. Толстой и праздник, Толстой и праздность – эту связь теперь нужно доказывать.
Лучше так: «Толстой и чудо», «Толстой и чудо Москвы».
Чудо – это то, как сходятся время и место и родится московский сюжет; как время распадается на мгновения и затем собирается вокруг них праздниками; как праздник собирает вокруг себя (действуя собором) новое московское место. Чудо – это то, как возникает, дышит и живет Москва.
Толстому все это близко, он тайно сосредоточен на этой теме – чудо времени и чудо Москвы. В известной мере, в исследовании календаря как осмысленной композиции во времени, он для нас более важен, нежели Пушкин. Тот «сыграл» в Москву, обошел ее кругом в своем сюжете 1825 года; Толстой словно заново ее построил – послепожарная Москва его произведение: он связал ее узлом времени (его собственное выражение) и так поместил в пространство нашей памяти.
Отношения Толстого и Москвы станут еще одной сквозной темой этой книги. Тема Пушкина пройдет пунктиром.
* * *
Толстой и Москва, две одушевленные сферы времени, впервые встречаются в 1837 году, в момент, для них обоих драматический, судьбоносный: Льва (ему девять лет, он в тот момент еще Левушка) с братьями и сестрой везут в столицу после кончины отца, Николая Ильича.
Здесь все важно: то, что на поверхности, и то, что за ней. Здесь уже слышны знакомые темы – после лета (после детства), разрыв, отдельность, пустота. Послепокровские, «казанские» мотивы.
Детей увозят от похорон, чтобы не наносить детям лишней травмы: теперь они круглые сироты: мать умерла семью годами ранее. Левушка едва ее помнит, скорее уговаривает себя, что помнит, уговаривает всю жизнь.
Со своей стороны Москва также пребывает в состоянии неординарном. К моменту встречи со Львом она уже в значительной мере восстановила себя после пожара 1812 года. Прошло 25 лет: готовятся юбилейные торжества, город весь в ожидании и приготовлениях к большому празднику.
Главное событие праздника: закладка нового кафедрального собора в Москве, по сути, ее нового сакрального центра – храма Христа Спасителя. В этом и заключается неординарное содержание момента: Москва готовится к некоей важнейшей перефокусировке: в ее обширном теле готов обнаружить себя новый духовный центр.
Итак: сирота, ребенок в отрыве, вне (родительского) центра координат, и ищущая новый духовный центр Москва. Такова скрытая геометрия их встречи.
* * *
Стройка идет на Волхонке; Толстые живут от нее в двух шагах и наблюдают постоянно, как растет котлован под строительство, который к тому моменту как будто в половину города открыл широченную пасть. Таких ям Москва еще не видела. Тем более Левушка: в эту яму вся его Ясная Поляна поместится с головой.
Он впервые наблюдает за работой московской «лаборатории», за тем, как заново (узлом, собором) строит себя Москва.
Мало того, что стройка в двух шагах: она производится на их родовой земле, на земле Волконских (отсюда название улицы – Волхонка). Братья Толстые по матери Волконские. Они знают это и наблюдают за стройкой весьма пристрастно. Временами котлован представляется им могилой – тут не нужно никаких подсказок: в котловане во время торжеств были захоронены останки героев войны 12-го года. Их отец был участником той войны.
Все это не совпадения, по крайней мере, не случайные совпадения – нет ничего случайного в этом (узловом) наложении исторических сюжетов и имен: так сходятся подобные фигуры, связывается узлом время – так мальчик «узнает» себя в Москве. И все это сфокусировано посредством праздника.
Праздник состоялся – накануне Покрова, в красивейший, золотой московский сезон; в синее небо шарахнули пушки, на мгновение вернув в Москву войну. Войско во главе с царем вошло в яму; прах героев был захоронен; состоялась церковная церемония (отпевание отца?).
Москва в тот момент решительно преобразилась, обнаружила новый центр, но не менее Москвы преобразился и юный Толстой: он воспринял произошедшее как чудо перемены времени; для него это было знамение, обещание судьбы необыкновенной, прямо связанной с собором и Москвой.
Когда-то он написал рассказ, первое сочинение Льва Толстого: «Рассказ дедушки». Несколько длинных фраз, без запятых. Дедушка собирается рассказать о своем сыне (об отце юного автора), как тот участвовал в войне. Обоих узнать нетрудно: дедушка – князь Николай Сергеевич Волконский; Левушка его не знал, дед умер задолго до его рождения. Отец – Николай Ильич Толстой, который участвовал в Отечественной войне. Между отцом и дедушкой – в трех фразах – угадывается некая семейная коллизия, расшифровка которой подразумевается автором в дальнейшем. Пока это эскиз. Сочинение в формате семейной хроники, посвященное войне 1812 года.
По сути, это первый набросок «Войны и мира». Нетрудно понять его замысел: вернуть – хотя бы в слове – отца, вернуть счастливое детство. Вернуть (собрать) «летнее» время. Как это можно сделать? Только чудом (собором). Посредством, приемом чудотворения.
И вот на его глазах происходит чудо – праздник, «возвращение» войны, таинственная перефокусировка Москвы.
Далее – самое важное в сюжете их встречи. После первого чуда начинается синхронное действие, значение которого мы еще не вполне сознаем. Начинается строительство собора – и писание романа. То и другое посвящено победе в войне 1812 года. То и другое, строительство и писание, длится сорок лет. Это одно и то же действие, долгое, сложное, постепенное, с перерывами и паузами. Постепенно собор меняет Москву; роман ее меняет тем более – меняет фокус истории в наших головах, обустраивает заново помещение нашей памяти о событиях 1812 года.
Удивительное дело – мы до сего дня не различаем подобия двух этих важнейших, центральных московских произведений.
Оба они о чуде, о празднике – исчезновении Москвы в пожаре и последующем ее возвращении, спасении.
Стоит только различить эту синхронность – и многое становится на свои места. Толстой (по матери Волконский) много лет наблюдал строительство «волхонского» храма – молча, со стороны, с ясным ощущением соревнования. И параллельно писал свой роман. Ревность, упакованная в слове «соревнование», в данном случае имела существенную силу: он именно ревновал, не допуская мысли, чтобы кто-то превзошел его в чувстве к Москве, в сочувствии с Москвой, которая в известном смысле заменила ему родителей.
Это очень важно: для Толстого обыденные слова о Москве-матушке имели существенный смысл. Москва заменила ему мать, дала ему кров, тот именно покров, «пластические» свойства которого мы теперь разбираем. Неудивительно, что сразу после встречи с Москвой Толстой принимается писать семейную хронику, эскиз «Войны и мира».
Толстого можно признать приемным сыном Москвы – и это не дежурная формула, но правда о Толстом.
Он написал, построил свой роман. Роман не просто удался; Толстого ждал не один только литературный успех – эта книга стала краеугольным камнем новой Москвы. Той, что растет, дышит в наших головах. Постепенно роман-календарь, роман-собор «Война и мир» стал предметом новой веры – вне зависимости от того, что на самом деле произошло в 1812 году. Послепожарная Москва уверовала в то, что о ней написал Толстой; его роман стал для нее мифом. Действенным, формообразующим, судьбоносным – настолько полно в толстовском бумажном соборе суть Москвы была воплощена.
Ничего удивительного: показательно синхронно росли от исходной точки (праздника 1837 года) две «сферы»: писатель и храм, и с ним вся послепожарная Москва. Они росли вместе духовно и душевно, обоими владело чувство чуда, и именно это «геометрическое» сочувствие, это подобие в пространстве определило успех толстовских интуиций, удивительную адекватность его сочинения о Москве.
* * *
Можно отметить определенную последовательность фактов, которые позволяют принять Толстого за весьма чувствительного и успешного оформителя Москвы, – в той области, которую принято называть метафизической. Есть несомненная связь в цепочке «Толстой – Москва – чудо (праздник)»; наверное, сознавать ее не очень привычно. Слишком устойчив образ Толстого-реалиста, искателя земной правды; этот образ самостоятелен, к тому же в достаточной мере удален от Москвы (обратно в Ясную Поляну).
Однако эта связь есть: начиная с момента встречи, с чуда совпадения 1837 года, Толстой постоянно и напряженно наблюдает Москву. При этом он так же постоянно – фоном – пишет о ее праздниках. Он составляет ее портрет, точно мозаику, из праздников. Разных: заметных и незаметных, явных и тайных, счастливых и несчастных дней, каждый из которых, каждое мгновение которых есть чудо из чудес.
Одним из важнейших мотивов творчества является для Толстого потеря Москвы. Он страшится ее потери, для него это означает второе сиротство: с тем большим упорством он возводит ей бумажную замену, роман-добор, узел времени, предмет Москвы.
РОМАН-КАЛЕНДАРЬ
Освобождение Москвы
Тезис, заявленный для дальнейшего (поэтапного) доказательства.
Роман Льва Толстого «Война и мир» весь, от начала до конца, есть описание праздников (большей частью московских). Праздники суть фокусы романа, его скрытые центры; вокруг них вращается его действие (равно и бездействие, праздность).
Роман есть цикл, он формой напоминает год: так же округл и бесконечен.
Первое упражнение. Как в романе «Война и мир» обозначен разбираемый нами Казанский сезон? Что такое в романе-календаре Льва Толстого вторая половина октября?
Мы наблюдаем у Толстого начало и конец Казанского сезона.
1. Октябрь 12-го года, французы уходят из Москвы; Толстой празднует ее освобождение. Уже было сказано, что праздник – это не обязательно радость, пение и пляски. Это отстранение от будней, погружение головы в вечность, фокус общего и личного времяобразования. Праздник всегда имеет имя. В данном случае можно говорить об общем для Толстого и города октябрьском празднике: освобождение Москвы от Наполеона.
Картины отступления французов показательно ярки (по ощущению, пространственному видению текста это несомненный спуск, все сопутствующие октябрю «пластические» мотивы налицо: разрыв, пустота, отдельность, предметность, яркость). Состояние города ужасно: Толстой, который чудесным образом с Москвой одно и то же, словно из себя извлекает иноземное, чужеродное войско. Рана города открыта; можно говорить о сочувствии почти телесном. Одновременно приходит ощущение пустоты (конец войны, конец романа близок); с этого момента пустота постепенно разливается по страницам книги, которая только что была переполнена сентябрьским событием пожара, общегородской жертвы.
Это верная зарисовка октября. Москва (здесь обескровленная, полумертвая после «праздника» войны) засыпает, закрывает глаза на зиму.
2. Разбираемый нами сезон, Казанский спуск в романе заканчивается точкой более чем характерной: именно на Казанскую. Весьма определенно Толстой указывает, что весь военный сюжет в романе заканчивается на Казанскую, 4 ноября. В этот день в партизанском бою погибает Петя Ростов. В этот же день его находит освобожденный из плена Пьер Безухов. В этот же день
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/andrey-baldin/moskovskie-prazdnye-dni-metafizicheskiy-putevoditel-po-stoli/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Балдин А.Н. Москва. Портрет города в пословицах и поговорках. М.: Радуга, 1997.
2
Праздный день в Кремле // Сегодня. 1995. 2 сентября.
3
Новая юность, 1997, № 3 (24).
4
В 2000 году у своих друзей в газете «Первое сентября» я опубликовал цикл рассуждений о календаре; он печатался весь год, по одному выпуску в месяц. Совпадение показалось нам интересным: юбилейный год, 2000-й, самый круглый из всех возможных, и его обозрение – также круглое, циклическое.
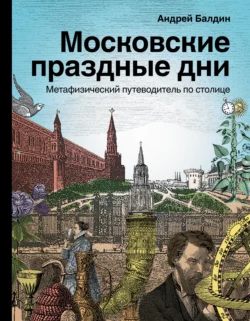
Андрей Балдин
Тип: электронная книга
Жанр: Популярно об истории
Язык: на русском языке
Издательство: АСТ
Дата публикации: 01.07.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Книга Андрея Балдина (1958–2017) – книжного графика, архитектора и писателя, ведет читателя в одно из самых необычных путешествий по Москве – по кругу московских праздников, старых и новых, больших и малых, светских, церковных и народных. Праздничный календарь полон разнообразных сведений: об ее прошлом и настоящем, о характере, привычках и чудачествах ее жителей, об архитектуре и метафизике древнего города, об исторически сложившемся противостоянии Москвы и Петербурга и еще о многом, многом другом. В календаре, как в зеркале, отражается Москва. Порой перед этим зеркалом она себя приукрашивает: в календаре часто попадаются сказки, выдумки и мифы, сочиненные самими горожанами. От этого путешествие по московскому времени делается еще интереснее. Под москвоведческим углом зрения совершенно неожиданно высвечиваются некоторые аспекты творчества таких национальных гениев, как Пушкин и Толстой.