Иск Истории
Иск Истории
Эфраим Баух
Многие эссе и очерки, составившие книгу, публиковались в периодической печати, вызывая колоссальный читательский интерес.
Переработанные и дополненные, они составили своеобразный «интеллектуальный роман».
В отличие от многих, поднимающих «еврейскую» тему и зачастую откровенно спекулирующих на ней, писатель-мыслитель не сводит счеты ни с народами, ни со странами, ни с людьми. Но, ничего не прощая и не забывая, он предъявляет самый строгий иск – Иск Истории.
Эфраим Баух
Иск Истории
Историко-философские эссе
Знамя злых гениев Европы несут философы: их зовут Гегель, Маркс и Ницше… Мы живем в Европе, созданной их идеями.
Альбер Камю
Часть первая
Иск Истории
Вступление
Подражание, вытеснение, забвение…
Риск ли предъявлять Истории иск?
Если жизнь – выживание, не является ли История синдромом потери памяти во имя выживания?
Считать ли в таком случае собственное достоинство душевным изъяном?
Может ли потерять достоинство целый народ: столь пестуемый поколениями немецких философов Volk: «вместебытие»?
Как переживается эта потеря – неотступным страхом, ставшим привычной формой рабского существования, или массовым ослеплением, животной агрессивностью, истребившей более шести миллионов моих соотечественников?
Говорят: суд Истории. А быть может, сама История под судом?
В наши дни всемирного террора, идущего об руку с никогда и никуда ни исчезающим антисемитизмом, который вновь и вновь потрясает нас, по сути, кажущейся внезапностью, иск Истории, хотя бы на уровне постановки вопросов обвиняемой, – следует предъявить. Написание исчерпывающего иска потребовало бы неимоверных энциклопедических усилий и утонуло бы в забвенной глубине текстов и череде томов. Но иск этот еще ждет своего часа.
Говорят: История ничему не учит. Еще как учит.
Уроки Истории, главным образом и в первую очередь, – уроки подражания.
Поток событий уходит в прошлое, поглощается временем, но если пользоваться терминами геологии, уходящее в осадок не исчезает, уплотняется: более молодое грубо складывается в конгломераты, более древнее превращается в мрамор. А в изначалье это было песчинкой или частицей глины. В Истории прошлое соединяется в некие условные (сегодня в ходу модное слово – «виртуальные») острова, архипелаги – царств, империй, республик. Остается от них лишь письменная фиксация – текст, как весьма спорный документ. И тут вступает в действие мифическая, восторженно-агрессивная сила подражания, подчас и прямой компиляции. Культура, государство, национальная лепка личности – все в подражание «незабвенной солнечной Элладе», державному Риму. Христианство, а за ним ислам полностью переосмысливают, подчас, в достаточной степени, подражают, а то и впрямую компилируют свой первоисточник – иудаизм. Происходит этакое «двойное убийство отца» (по Фрейду): убил, наследовал без всякого почтения да еще взвалил на отца вину за убийство сына Божьего. По такому поводу достаточно свежий анекдот: палестинец (сумели все же присвоить себе это филистимско-римское имя) выступает в ООН: «Евреи распяли Христа в Иерусалиме». Еврей-израильтянин (тоже проблема, требующая философского разрешения): «Это палестинцы распяли Христа». Палестинец: «Но нас тогда еще не было вообще». Еврей-израильтянин: «Что и требовалось доказать».
История дает уроки подражательного искусства, очищая образцы от всего якобы наносного, то есть жестокого и мерзкого, и вот уже Осип Мандельштам, приняв протестантство, все же пленен державным Римом, хотя сам уже ступил в трясину тирании и совсем скоро в ней захлебнется.
Борис Пастернак, в свою очередь плененный христианством в ореоле европейской культуры и искусства, плывет в русле французской философской мысли о евреях, став на сегодня в определенной степени отцом постмодернизма. Но об этом ниже.
Нас по сей день поражает настойчивый, подчас яростный поиск ответа на вопрос: «Кто такой еврей?»
Мы себе не можем отдать отчета, насколько этот поиск идентификации болезнен, иногда воистину безумен у европейцев, по сей день жаждущих быть тем или иным «народом». Поиск подходящих образцов подражания в прошлом, созидание мифов, конечно же, дело, даже удел интеллектуальной элиты.
Вопрос армянскому радио в советские времена: «Что такое коньяк?» Ответ: «Это такой напиток, который пьет весь наш народ посредством своих представителей». Для того чтобы пить коньяк, элита должна была воспевать Александра Невского и Ивана Грозного в сталинские годы, Жанну д’Арк в петеновской Франции.
Но это, конечно, не идет ни в какое сравнение с нацистским мифом, сумевшим в считанные годы с невиданным доселе размахом «вбросить в будущее» (понятие из философии Мартина Хайдеггера, о котором речь пойдет далее) немецкий народ, а, по сути, сбросить его в бездну.
Речь идет о «конструировании» Истории, представляющемся, во всяком случае, в начале некой «игрой», осью которой в последние два века был всегда один концептуальный принцип, построенный на расе (арийцы) и на классе (классовая борьба).
Решающая, агрессивная сила воли, навязываемая массе, непременно и вызывающе называет себя тотальной «великой концепцией». Опыт последних двух веков учит, что нет ничего более заманчивого и более опасного, а иногда и просто преступного, чем та или иная «великая концепция», триумфально втискивающая набегающую будущим жизнь в свое прокрустово ложе. «Исправительная колония» Франца Кафки, казавшаяся невероятным преувеличением при написании, спустя короткое время выглядела детской забавой в сравнении с реальностью.
В начале своего пути «великая концепция», выстраивающая по себе всю мировую Историю, будь то гегельянство, ницшеанство, марксизм, провозглашает свое возникновение из «свободы мышления». Однако весьма быстро, благодаря заложенным в ней ядовитым семенам, прорастающим идеологией, сбрасывает c себя бремя логических законов мышления, сомнения, скепсиса, взывает к мифу, не подлежащему обсуждению, требующему безоговорочного приятия и беспрерывного восхваления в своей непогрешимости, а не то: пуля в затылок.
Сила любой «великой концепции» в поистине циркаческом умении манипулировать, примазываясь к «логике Истории», а вражескую «великую концепцию» называть иррациональной (ругательное слово в нашей молодости). На самом же деле каждая «великая концепция» выстраивает свою логику по научным (как потом оказывается, псевдонаучным) законам.
Умение взывать к темным инстинктам, простым, но вызывающим слепой подъем животной силы, замешенной на страхе, переходящем в восторг, обеспечивает «великой концепции» быструю, ошеломляющую победу и не менее ошеломляющий верный крах в будущем. «Великие концепции» обладают одним постоянным свойством: в реальности они осуществляются в наихудшем варианте, опять и опять оправдывая пословицу, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Наступает потрясение, отрезвление, повязка падает с глаз. Оказывается, «великие концепции» после всего, что натворили, обнаруживают невероятную алогичность, банальные провалы, псевдонаучные утверждения, заставляя человечество раз за разом «впадать в разум». Длительная потеря сознания навевала «человечеству сон золотой». Но вот разум очнулся от сна и – о, ужас – не во сне, а в реальности породил чудовищ.
В значительной степени возникновение постмодернизма – реакция на катастрофические провалы «великих концепций» ХIХ и двух третей XX веков.
Сейчас, во времена постмодернизма, оглядываясь на Историю мировой культуры, искусства, философии, обнаруживаешь существование некой параллельной и весьма захватывающей Истории фальсификаций, подделок, подражаний, часто неотличимых от оригиналов, с драматической сенсационностью связанных с авторством того или иного великого творения. Возникли целые теории, подчас не выдерживающие критики, об аутентичности в литературе, музыке, изобразительном искусстве. Вместе с тем, в этой параллельной Истории есть и твердо установленные факты. На пересечении этих двух Историй возникают самые заманчивые сюжеты для литературы.
К примеру, музыковеды считают, что наиболее известное произведение Иоганна Себастьяна Баха «Токката и фуга», вовсе не написана Бахом для органа и вообще предназначена для скрипки.
В Истории же литературы и философии, где речь идет о тексте, разворачивается бесконечный свиток подражаний, подделок, ошибок при переписке, в дальнейшем ставших истоком целых теорий, исследований стиля до последней запятой, жизни автора до последнего вздоха в доказательство, к примеру, что шекспировские пьесы написаны вовсе не Шекспиром.
В последнем, полном собрании сочинений Платона на английском, где его «Диалоги» следуют один за другим, рядом с названиями некоторых из них поставлены звездочки, относящие к примечаниям типа; «Ученые, в общем-то, считают, что Платон не является автором этого «Диалога». Примечания иного типа: «Между учеными нет согласия в отношении того, что авторство этого сочинения принадлежит Платону».
Но, касаясь претензии Истории на владение истиной, можно сегодня с достаточной достоверностью сказать, что, по сравнению с другими вышеупомянутыми Историями, нет большего греха лживости и фальсификаций, чем те, какими грешили политические Истории народов и государств Европы в последние два века. В них, в значительной степени, господствовали – домысел, социальный заказ, восторг, ослепляющий зрение. Доминировал характер историка, и чем он был изобретательней и талантливей, тем более был опасен, ибо путал два жанра – сухой исторической правды и «игр» литературы, искусства, политики, в угоду публике и властям предержащим. Историки 20-40-х годов прошлого века – великие анестезиологи: сумели без эфира вырубить массовое сознание, выключить рецепторные центры боли, называемой муками совести, внушить фантазии о светлом будущем, которые обернулись гибелью сотен миллионов людей.
Подчистка, вычеркивание, улучшение, одним словом, редактирование в литературе – необходимость. В истории – преступление.
Любопытен пример истинно «иудейской» драмы римского историка, писавшего на греческом, еврея Иосифа Флавия (Йосефа Бен-Матитьяу). Несмотря на свои несомненные заслуги перед мировой Историей, в иудейской традиции он выступает как предатель. «Иудейская война» была им в первую очередь написана в назидание другим народам Римской империи, мол, вот какая участь ждет вас, если восстанете против цезаря и великого Рима. В этом назидании, достаточно достоверном в отношении евреев, ибо потерпели поражение, он вовсе не чурался вымыслов.
В 1966 году, в библиотеке Коктебельского дома творчества, я обнаружил толстый фолиант – тридцать две версии, если мне память не изменяет, – «Иудейской войны». Переведены они были на старославянский. Из предисловия можно было понять, что они использовались как пропагандистский материал против хазар, одолевавших славян: вот, мол, что вас ожидает. В самом же Риме Иосиф Флавий был «принят» как придворный историк императоров Веспасиана и Тита. Особенно выводило его из себя, что греческие историки относились к нему пренебрежительно, считая «чужаком», презренным иудеем, начисто лишенным «греческого акцента», греческого стиля письма, и он из кожи вон лез, чтобы протиснуться в их ряды.
Это удивительно видно при даже поверхностном анализе оригинала, который педантично сделал переводчик «Иудейских древностей» с греческого на иврит Авраам Шалит (издательство «Мосад Бялик»). «Казус Флавия» протягивается и возвращается на «круги своя» через всю историю еврейского народа в две с половиной тысячи лет, с момента потери им государственности. Нам, при советской власти, казус этот был хорошо известен.
С переписыванием Истории связано – после Фрейда – понятие «вытеснения». Вытеснение – подсознательный способ выживания нервной системы не только индивида, но и целой нации. Но само вытеснение несет в себе «невытесняемость», нечто, вообще не подающееся фиксации. Эта «невытесняемость» не задевается динамикой мышления, потоком сознания, она неподъемна, неподвластна образам и словам, недоступна эстетизации, враждебна этике, подобна неоперабельным осколкам в теле: операционное прикосновение к ним чревато гибелью.
С «вытеснением» тесно связано «забвение», что не обязательно требует впрямую: забыть. Можно просто назвать другим именем. Так шаманы излечивают болезнь, называя ее по-иному.
В связи с «вытеснением» и «забвением» возникает устойчивое ощущение, усиливаясь в последние годы, что настоящее не рассчиталось с такими чудовищными феноменами, выплеснувшимися огнем и кровью в, казалось бы, «облагороженной» Возрождением и Просвещением Европе – как нацизм и сталинизм, олицетворяемые двумя короткими, сжимающими горло звуками – Шоа и ГУЛаг.
Справедливо говорил выдающийся французский философ XX столетия Габриель Марсель: «Ничего не преодолено». И это, по сути, перекликается со сказанным великим французским философом, евреем Анри Бергсоном: всякое явление в духе и нравственности, положительное ли, отрицательное, меняет общий духовный баланс мира.
И нет пути назад.
Глава первая
Двадцатые годы двадцатого века
В эти годы засеиваются зубы дракона, которые приведут к немыслимой катастрофе – Второй мировой войне.
В России безумствует гражданская бойня: отец на сына, брат на брата. Евреи, лишенные защиты, – козлы отпущения банд и армий разных цветов, от которых рябит в глазах. Над вихрем несущейся красной конницы с шашками наголо витают кощунственные слова из поэмы «Двенадцать» такого, казалось бы, мистически-надмирного, не от мира сего поэта Александра Блока: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови – Господи, благослови!»
Рафинированное дитя западной культуры, кумир российской интеллигенции, только недавно сказавший, что Истории зубы коварны и проклятия времени не избыть, в каком-то неистовом ослеплении не просто пишет стихи – выводит формулу из четырех лихо сложившихся строк. В них, если убрать слово «кровь», свернута пружиной вся теория Троцкого о «перманентной революции», уже разворачивающаяся той самой конницей, а если вернуть слово «кровь» – не заставляющая себя долго ждать, уже маячащая в будущем теория «бесноватого фюрера». Сорокалетний Блок, присмиревший, с потухшим взглядом, отчужденно смотрит на листки своих стихов, по которым прошелся сапог беснующейся толпы в их разоренном летнем доме.
Затаенное раскаяние и слабая, уже потусторонняя надежда – в его записи «О «Двенадцати» 1 апреля 1920 года: «...в январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией... Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая политика так грязна, что одна капля ее замутит и разложит все остальное; может быть, она не убьет смысла поэмы; может быть, наконец – кто знает! – она окажется бродилом, благодаря которому «Двенадцать» прочтут когда-нибудь в не наши времена. Сам я теперь могу говорить об этом только с иронией; но не будем сейчас брать на себя решительного суда» (Ал. Блок. Собрание сочинений. 1960. том 3, стр. 474-475).
Суд Истории уже в тот год без всякого колебания берут на себя разрушители, чья родословная тянется от «прославленной и великой» французской революции. Решителен и скор их приговор: расстрел.
Через год, в страшном августе, собирающем жатву смерти, Блок тихо уйдет. Истает под безмолвный аккомпанемент выстрелов где-то в глухих подвалах: расстреляны Гумилев и с ним еще шестьдесят два человека. Еще через год, летом 1922-го, – массовая высылка интеллигенции, репрессии как постоянный, ставший привычным элемент каждодневья, планомерное уничтожение двух поколений русской литературы.
Именно Троцкий с завидной энергией еврея, сына богатого землевладельца, восставшего на отца, жестоко подавляет в марте 1921 года Кронштадтский мятеж, с фанатическим блеском в глазах продолжая внедрять свою перманентную революцию «с налета-поворота по цепи врагов густой».
В Европе смута и брожение. Семена перманентной революции дают всходы, не всегда желаемые: в Италии Муссолини захватывает власть; еще никого не удивляет, что в его фашистской партии немало евреев. Францию затопили потоки эмигрантов. Тысячи евреев, бегущих с полей гражданской войны в России, от погромов в Румынии, селятся в Париже. Еврей Леон Блюм возглавляет французскую социалистическую партию, отколовшуюся от коммунистической. Еврей Жорж Мандель назначен главой канцелярии военного кабинета президента Клемансо, того самого, который, не стесняясь, выражает «особую» любовь к немцам: «Боши заплатят за все».
Но особенно царят смута и хаос, ненависть не только к другим, но и к себе самому, чувство унижения от разора, голода, бессилия, принесенных поражением в Первой мировой войне, в германских землях. Веймарская конституция 1919 года уравнивает евреев в правах со всеми гражданами страны. Радость евреев, то-бишь, отныне немцев, настолько велика, что ассимиляция достигает пика: до 50 процентов смешанных браков. Еврей Эдуард Бернштейн, известный нам по ленинским наскокам, избирается главой социал-демократической партии, а в 1920-м становится депутатом рейхстага. Революционное правительство в Баварии возглавляет еврей Курт Эйснер, назначающий министром просвещения другого еврея, анархо-социалиста, испытавшего влияние Прудона и Кропоткина, писателя и философа, друга Мартина Бубера, Густава Ландауэра. Еврей Вальтер Ратенау, поклонник иррационализма Ницше, становится министром иностранных дел Веймарской республики в правительстве канцлера Вирта. Молодые евреи активно участвуют в создании коммунистических партий в разных германских землях, что усиливает антисемитизм. Евреев обвиняют в поражении и всех бедствиях Германии.
С одной стороны, затаившие ненависть немцы упиваются чтением книги «Основы XIX века» натурализовавшегося в Германии англичанина X.Чемберлена, женатого вторым браком на дочери Рихарда Вагнера. Весьма талантливый популяризатор расово-антисемитской «великой концепции» Истории, он умело придает ей научную респектабельность. Он цитирует Цицерона, Шекспира, Вольтера, Канта, Ренана. Он проявляет завидную в те годы интеллектуальную смелость, доказывая, что евреи – это тайные дьявольские враги человечества, поедающие мировую культуру изнутри, несущие каждому народу, среди которого они обретаются, порчу. Уже в 1920-м эта расовая «концепция» начинает все более претендовать на роль общегерманской и с большим прилежанием штудируется будущими вождями нацизма во главе с тогда еще малоизвестным Гитлером. Книга Чемберлена – воистину учебник по окончательному решению «еврейского вопроса»
С другой стороны, во Франкфурте в 1920 году философ Франц Розенцвайг, стремящийся соединить иудаизм с современной немецкой культурой, ученик выдающегося немецкого философа еврея Германа Когена (у него учился и Пастернак), создает «Свободный еврейский дом учения». Этот дом объединяет леволиберальных евреев-интеллектуалов, с присущей им обезоруживающей наивностью пытающихся бороться за мир и братство. Среди них имена тех, кто станут знаковыми фигурами XX века. Трое из них – философы Мартин Бубер, Акива Эрнст Симон, исследователь Каббалы Гершом Шолем – уедут в Израиль. Эрих Фромм, автор знаменитой книги «Душа человека», – поныне один из гуру в психоанализе после Фрейда и Юнга.
Линия фронтального столкновения проходит между «националистами» и «интернационалистами». Значительное число последних составляют евреи. В 1919 году националисты убивают в Баварии премьер-министра еврея Курта Эйснера и министра просвещения еврея Густава Ландауэра, а летом 1922-го, в Берлине, – еврея Вальтера Ратенау.
Впервые лепится к евреям знакомый ярлычок – «космополит». В нашу бытность ярлык расширяется – «безродный космополит»: раскрытие отчества сразу показывает отсутствие отечества.
В 1920 году возникает движение «Консервативная революция». Название, как говорится, в духе времени. В Англии еще господствует дизраэлевский дух «демократического консерватизма». Здесь же, быть может, по некоторой ассоциации, – «консервативная революция», но также в противовес «пролетарской» или «социалистической». Основатели движения – философ Мелер Ван ден Брук, писатели Томас Манн и Гуго фон Гофмансталь. За прикосновение к Томасу Манну в эссе об Аверинцеве меня уже обвинили в «досадной прямолинейности уподоблений» и в «не совсем справедливом укоре великому немецкому писателю», репутация которого как юдофила и антифашиста «была очень прочной». В эссе я писал о том, что Манн, создавая в своем романе «Волшебная гора» образ еврея Нафты, верный своей творческой концепции «жизни в цитате», называемой им также творческим методом, основанным на «сколках», смешал в Нафте «коммунистическое мировоззрение с принципами католиков-иезуитов, и все это – на основах иудаизма». При этом он пользовался элементами биографий Томаса Мюнцера и Георга Лукача. Следующий приводимый мной фрагмент из эссе писался явно под сенью упомянутого выше (не к ночи) X.Чемберлена – интеллектуального антисемита: «Сатанинский образ «разрушителя-еврея» Нафты, с одной стороны, тянущегося к еврейской религиозной мистике (Каббале), а с другой стороны, ядом марксистско-пролетарского атеизма разрушающего «арийскую» гармонию народов – бальзам на душу «интеллектуальных антисемитов», подводящих теоретическую базу под свою нелюбовь к евреям».
Томас Манн писал роман «Волшебная гора» именно в двадцатые годы (роман вышел в свет в 1924-м).
Касаясь образа Нафты, я говорю: «...это не было неким интуитивным прозрением Манна, а скорее смешением его личного опыта, желанием игры, скрытыми реакциями на общественно-политическую ситуацию тех дней и, несомненно, преодолением некой душевной некомфортности, связанной с евреями».
Скрытые реакции на общественно-политическую ситуацию тех дней могут быть утаены в ткани романа. В реальности же тех дней движение «Консервативная революция» объявило борьбу с распадом и смертью немецкого народа как единого целого, считая, что немцы смогут избежать этого распада, лишь сплотившись на «органической» народной «почве» и обратившись к ценностям «высшего порядка». Немецкий национализм является неким «сколком» древних традиций, подражая которым немцы ищут способы своей национальной идентификации. Исходя из всего этого, участники движения «Консервативная революция» с особой неприязнью, если не прямой ненавистью, относились к «космополитам». Трудно, как говорится, отнести все это к грехам молодости такой мощной личности и воистину великого писателя, как Томас Манн. Да, он одним из первых распознал чудовищную суть нацизма, открыто выступил против него, покинул Германию. Да, он был признанным лидером германской интеллигенции, бежавшей от нацизма в США, которую почти сплошь составляли евреи – такие всемирно знаменитые, как Франц Верфель, Теодор Адорно, Альфред Деблин, Бруно Франк, Лион Фейхтвангер, не говоря уже об Арнольде Шенберге. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь, и называть его юдофилом без сучка и задоринки, по-моему, и есть «досадная прямолинейность уподоблений».
Да и не следовало искать у Манна, заботившегося о своем народе, юдофильство или даже вообще человеколюбие, которое в те годы могло восприниматься как хитрая и разрушительная идея тех же «космополитов», ну, положим, стремящихся к мировому господству «мудрецов Сиона».
Так мог восприниматься тот же Мартин Бубер. В те годы он пытался соединить свои леволиберальные политические искания с исследованием хасидизма. Он переводил на немецкий рассказы рабби Нахмана из Брацлава, легенды и притчи Бааль Шем-Това. Просто Манну, к сожалению, в те годы недостало провидения и даже малейшего представления, что его увлечение «сколками» может вести в Аушвиц.
Хаим Нахман Бялик, пекущийся о своем народе, жил на правах туриста в Берлине в те годы (1921-1924). Много времени он проводил в компании Бубера, молодого писателя Шмуэля Йосефа Агнона, писавшего свои «Страшные рассказы» (в смысле страха перед Всевышним, богобоязненности и раскаяния), основанные на современности, писателя Шимона Равидовича, издавшего собрание хасидских и каббалистических текстов.
Реакция Бялика на это повальное увлечение немецкими интеллектуалами-евреями Каббалой и хасидизмом, на атмосферу тех лет в Германии особенно ощутима в найденном буквально в эти дни оригинале. О существовании этого произведения, написанного под влиянием «Зоара» и названного «Миссия Змея» («Шлихут ха-Нахаш»), никто не знал.
Первое заглавие этого сочинения, «Рабби Элазар и Змей», Бялик зачеркнул.
Найденное сочинение изучено графологически, стилистически, тематически. Изучены метафоры и эпитеты, исследован даже способ нумерации страниц. Все указывает на то, что это сочинено Бяликом, вероятнее всего, в год смерти (1934), в Тель-Авиве.
Но дух, настрой, необычно острая реакция на окружающий враждебный народ («Гой») указывают также и на возможность написания этого сочинения именно в Берлине тех лет. Публикация его в те годы могла действительно стать «идеологической бомбой». В сочинении идет речь об освобождении народа Израиля ценой уничтожения посланного на него Змеем другого народа, на чью голову обрушатся все те проклятия, которые он несет Израилю.
В Берлине Бялик был потрясен личностью молодого в ту пору исследователя Каббалы Гершома Шолема, личностью еврейско-немецкого философа Франца Розенцвейга, который намеревался принять христианство, в 1913 году вошел в Судный день в маленькую берлинскую синагогу, как говорится, в «последний раз», и вышел с твердым намерением – остаться в лоне иудаизма. Бялика поразила главная философская книга Розенцвейга «Звезда спасения», изданная впервые в 1921 году. Но тогда же Бялик пишет «агаду» под названием «Откормленный бык и трапеза из зелени», вероятнее всего, перед принятием решения поменять жизнь в богатом европейском городе на жизнь в небольшом и бедном «ишуве» (иврит. – поселение). Это достаточно ясный намек немецким евреям – оставить «горшки с мясом» и удовлетвориться трапезой из зелени, которая не зависит от сомнительной щедрости чужого и враждебного народа.
Обладая гениальной интуицией, Бялик в те годы ощущал, к чему может вести усиление антисемитизма в Германии. В последние годы жизни, узнав о массовом бегстве евреев из Германии в Эрец-Исраэль, Бялик пишет «Где ты, боящийся огня». В том месте, где сжигают книги, говорит он, будут сжигать людей, и тот, кто не понял язык человека-зверя, вынужден будет понять языки огня. Стремясь любой ценой к ассимиляции, немецкие евреи внезапно увидели язык Змея и в страхе в начале тридцатых бросились искать спасительное убежище в Тель-Авиве и Иерусалиме. И хотя, как пишет бывший тогда ребенком ивритский поэт Меир Визельтир, «за два года до истребления мы не называли истребление истреблением, за два года до «Шоа» у нее не было имени», Бялик еще в начале тридцатых предостерегал от «Шоа», которое падет на головы евреев Германии, именно употребив это слово. В «Миссии Змея» речь о язычниках, поклонниках луны и звезд, пришедших по душу Израиля. Бялик увидел тевтонского поганого (паганус – язычник) Змея, восставшего из глуби времен на давно выбранную им жертву.
Но каким покоем и вечностью земли Бога, в стиле книги «Зоар», дышат первые строки этого найденного в наши дни сочинения «Миссия Змея»:
«Рабби Элазар, сын рабби Шимона Бен-Йохая, бывало, шел в жаркий день со своими товарищами в окрестностях Уши и занимался с ними Торой. Солнце стояло в середине неба и пекло как печь огненная, не было ни единой тени, и все были огорчены этим невероятным зноем. Но вот огляделись, и перед ними зеленое поле, влажное, как облако, и на поле этом несколько молодых деревьев, в тени которых, согнувшись, приятно присесть и дать усталой душе отдохнуть среди холодных степных трав и почти неслышного ветерка, несущего ублажающие нюх запахи.
Обратились они к этому месту, расположились под одним из деревьев, чтобы заняться Торой с приятием и удовольствием».
Глава вторая
Евреи и французы
Евреи и французы
С детства слово «француз» у меня было прочно связано с моим еврейством. Евреев называли «маланцами» или «французами». В сорок шестом году у меня появился школьный друг Андрей Афанасьев, француз настоящий, родившийся в Гренобле в тридцать третьем. Отец его в начале века учился в духовной семинарии в Казани, готовился к посвящению, но стал летчиком.
Грянула Октябрьская революция. Отец перелетел в Польшу. Самолет у него конфисковали, самого интернировали во Францию. Там он завел новую семью, женившись на молодой женщине Морозовской, брат которой, русский офицер, погиб в Первую мировую и похоронен был на Армянском кладбище в Кишиневе (у входа, справа). Жила семья Андрея в Гренобле, городе, который был мне далеко не безразличен, ибо в тридцатые годы там учился на юридическом факультете университета мой отец.
В сорок шестом русская колония во Франции, испытывавшая ностальгию, соблазнившись посулами советской власти (с Молотовым во главе), вернулась в «родные пенаты», и через весьма короткое время отцы семейств уже прочно сидели в гиблых застенках. Отец Андрея с еще не выветрившейся французской вольностью, в поисках одеколона обронил в каком-то месте (а тогда все стены имели уши) фразу, что, дескать, по всем углам стоят статуи вождей, а одеколон достать невозможно. Но главная вина его была в том, что он знал французский, переписывался с Францией, и это, естественно, означало скрывание опасных мыслей.
В эти первые послевоенные годы я уже ходил в синагогу читать кадиш по отцу, сгинувшему во Второй мировой войне. Возвращаясь домой, я проходил мимо церкви, испытывая стеснение в груди между этими двумя обителями Бога.
Ощущение было таково, что здесь, среди по-домашнему знакомого мирка – булыжной мостовой, аптеки, рынка, развалин, – как внутри матрешки упрятано за обычными стенами пространство. Оно было огромным – высокое, замкнутое, хоральное, с незнакомыми лицами, выписанными на стенах, с накладной позолотой иконостаса, запахом горящего ладана, кадильного дыма, хоругвей, из которых не выветривался запах вечных похорон.
Церковное отпугивало своей чрезмерной телесностью: куличи были хлебом, но символизировали плоть.
Синагога была местом домашним. Но стоило среди кашля и скрипа скамеек раскрыть книгу с нездешними знаками, произнести «Итгадал ве-иткадаш шмэ раба» («Да возвысится и восвятится великое имя Его») – и без всяких пышных ритуалов и роскошных атрибутов некое дуновение касалось лба, спирало грудь. Так бывает под водой, когда ощущаешь последние частицы воздуха в легких. Вся суета окружающей скудной жизни мгновенно отходит. После можешь плыть, уставать, сомневаться, но всегда помнить, что высоты и пропасти духовного пространства скрыты в этих книгах.
Церковное особенно остро воспринималось мной в зимние дни, сливаясь с ранними, студеными закатами, снегом, хрустом шагов на морозе, колокольным звоном и криком суматошно разлетающегося от колокольни воронья. В этой влекущей ледяным сном зимней феерии словно бы скрывалась тайна христианства, ее холодный северный лик. Летом церковь как бы скукоживалась за пылью и тусклым громыханием тележных колес по булыжникам площади и рынка.
Была весна. Таял снег. Запах гнили кружил голову. В пасхальный вечер тетки Андрея Катя и Саша (в их доме Андреева семья нашла приют) отправлялись, ковыляя, в церковь, у железной изгороди которой уже толпились мальчишки, собиравшиеся на всенощную красть куличи и крашеные яйца. В доме пахло масляными красками, которыми Андрей наносил на холст портрет Ван Гога в облике Христа с терниями вокруг головы, а я листал пахнущие прелью времени книги из старой библиотеки Андреевых теток.
Нашел «Жизнь Иисуса» Эрнеста Ренана.
Гербовый лист, искусно выписанная заставка, великолепный тисненый переплет и, главное, текст с ятями и твердыми знаками – все это ощущалось обломками прошедшего, обладавшего отточенным стилем времени в проходящих мгновениях жизни, напрочь заливающих беспамятством.
День середины века
Бесстилье дышало гибелью и забвением.
Стояла пасхальная ночь. Слабое лунное сияние не мешало звездам мерцать, посверкивало на высоких водах Днестра, на легко и забвенно звенящих льдинах, уносимых течением. Андрей провожал меня вдоль берега, я нес, как драгоценность, книгу Ренана, которую дали мне на несколько дней.
Время остановилось. Я почти переписал всю книгу, я упивался блестящим даже в переводе языком Ренана, нежными, как пастель, пасторально-пасхальными описаниями ландшафтов Палестины – Галилеи, Иудейской пустыни, Иерусалима. Это щемяще перекликалось со звенящими, как пение жаворонка, строками «Песни песней», которые заставлял меня заучивать наизусть в оригинале обучавший меня ивриту за скудные мамины гроши приходящий к нам домой ребе.
За окнами трещал ледоход. Жизнь у великой проточной воды тайно вкладывает в человека причастность к текучести мира, тягу к далям и тысячелетиям. Наши с Андреем дома были окраинными и навсегда вложили в нас тайное ощущение, что за окраиной города – край мира. Слово «провинция» пахло Римом. «Овидий» был дуновением воздуха, печалью оторванности от рая, так знакомой моей иудейской душе. Отголосками Рима вставали какие-то холмы на юге Бессарабии, называемые Траяновым валом. Эти влекущие текучие воды, дальние холмы зелени, погруженные в синевато-алую ауру последних отсветов заходящего солнца, две книги: библейская – «Коэлет» (Екклесиаст), выученная мною наизусть на иврите, и книга Ренана, почти целиком переписанная, – и были моими главными воспитателями в те годы.
Приближаясь к текучим водам, я всегда испытывал волнение, ибо в них таилась моя скрытая связь с дальним миром, последняя серьезность и гибель: они могли меня нести или швырнуть на дно, если бы я не раскрыл тайны плавучести. Чувствовать себя как рыба в воде может лишь существо, слитое с природой. И в этом я завидовал товарищам по классу, которые плыли и дышали в жизни с бесшабашностью зверенышей. Слитый с природой звереныш – тоже роль в определенном жизненном ряду: в него вливаются и выпадают, сыграв свою роль.
Какую же я играл роль и в каком жизненном ряду?
Наперед зная, что своей причастностью к еврейству буду оттеснен к обочинам потока, я уже с тех отроческих лет чувствовал еще смутную, но такую цельную прелесть отторженной от потока раковины. Лежит она на плоской широкозабвенной отмели, убаюкиваемая то ли рокотом волн, то ли ропотом молитв моих предков, и они столь же загадочно влекущи и непонятны, как и набегающие волны, каждой паузой подчеркивающие мою мимолетность и свое бессмертие.
Несомые волной мимо меня даже не замечают отброшенной в сторону раковины. Некоторые из наиболее шустрых моих соплеменников успевают проскочить в потоке, стереться, быть вышвырнутыми на отмель и бессмысленно оплакивать собственную резвость.
Лежу часами на отмели, блаженно загораю, не отрывая взгляда от скользящих с усыпляющим шорохом вод. Или же внезапно вскакиваю как угорелый, ношусь с мальчишками намного младше меня, играю в кости, в лянгу, железным прутом катаю ржавое колесо, останавливаю, качу в обратную сторону, подбрасываю. Может ли кто так управлять колесом Фортуны? Моей судьбы. Недолго мне остается, чтобы это узнать: увидеть в упор ее равнодушно-жестокое лицо.
А пока день долог, солнце середины лета, середины века, высоко стоит над нашим слегка покосившимся саманным домиком, во дворе которого я в сооруженном мною шалаше перечитываю выписанные из Ренана фрагменты. Именно своей незавершенностью они кажутся мне более загадочными и притягательными. Они ведь отобраны мной, созвучны моему душевному любопытству: вырванные из контекста, они выдают мне желаемую мной глубину и направление мысли.
Сладкая печаль медленно текущего, почти неподвижного времени столбом колышется над головой. Время измеряется лишь песнями бабушки: ее тонкий голос доносится из кухни, впервые так чисто, на всю жизнь, оседая в извилинах моего слуха и памяти.
Фаргес шин гур дейм дор фун фриерт,
Вос едер мейнт фар зех алейн.
Аби дейм гриеб шлист цу ди тиер,
Лейгт мин ойф им дейм шверн штейн.
Алес зейн мир фулэ шулем,
Вифл дойрес зей зэнэн гивейн,
Фаршвинден зэнэн зей нор азой ви а хулэм,
Сэ ништу кейнер фун зейр гибейн.
Азой штарбн райх ин урэмс
Ун азой верт фун зей а соф,
Ун ойф зэйре олтэ квурэмс
Ваксэн найе дойрэс соф.
Найе дойрэс, найе дойрэс,
Найер гевир, а найе елт,
Найе дойрес, найе ацугес,
Найе цорес, а найе велт.
В эту песню вкладывается весь мой опыт через многие десятилетия жизни, начатый строкой из Екклесиаста «Суета сует – все суета».
Забудь поколение, что было раньше,
Где каждый думал лишь о себе,
Как только дверь замыкает яму,
Кладут на нее тяжелый камень.
Все это мы видим,
полные покоя и умиротворения,
Сколько было поколений.
Исчезли они. Как сон
И костей от них не осталось.
И так умирают богатый и бедный,
Таков их конец.
И на старых их могилах
Вырастают новые поколения.
Новые поколения, новые поколения,
Новый богач, новое общество,
Новые поколения, новые представления,
Новые беды, новый мир.
Андрей все еще рисует Ван-Гога в образе Христа, мать его перечитывает лоскуток письма от отца, пришедший из Сибири, шевелящейся миллионами обреченных в мертвых лежбищах ГУЛага. В безмолвном уголке моей памяти заложен запрет: не упоминать имени Сталина. Но я не по годам хитер. Вокруг того безмолвного уголка крутится услышанное мной выражение, ставшее панацеей на всю жизнь: «Кладбища полны людьми, без которых мир не мог обойтись». Сквозь это выражение, как через перевернутый бинокль, я буду с удивлением глядеть на таких маленьких, таких беснующихся в горе, плачущих по умершему тирану людей, тайно испытывая радость вырвавшейся из его когтей жизни.
Сидя рядом с Андреем и его матерью, я в который раз листаю книгу Ренана, ибо пользоваться ею можно, не выходя из дома ее владельцев, Андреевых теток, совсем стареньких аккуратных русских интеллигенток.
Ренан ведь тоже порвал с церковью, видит в Иисусе живую личность, гениального еврейского проповедника. И все же Ренан – это как прививка в нужное время, спасающая, как от кори или скарлатины, от злостного яда изучаемых нами в школе французских просветителей – Гольбаха, Гельвеция и иже с ними во главе с Вольтером, стрелявших из мощных «атеистически-материалистических» пушек по воробьиному племени евреев. Воробьев, суетливых, вездесущих, клюющих чужие крохи, в окружающем меня не только простонародье и называют «жидами».
Скитающаяся в мире тайна
Потому Ренан льет мне бальзам на душу, называя раннее христианство исключительным, по его мнению, творением еврейского гения, считая, что два духовно гениальных народа – Израиль и Греция – сформировали европейскую, по сути, мировую цивилизацию, а Рим лишь способствовал универсализации достижений греческого и еврейского духа. Меня не смущает, что греков он ставит выше евреев, арийцев считает высшей, а евреев – низшей расой (хотя и скребет на душе), все же ставя их обоих выше всех других народов. Ведь в своей пятитомной «Истории израильского народа», некоторые тома которой в русском переводе (Санкт-Петербург, 1908-1912) я сумею в дальнейшем обнаружить, рыща, подобно ищейке, по букинистам и книголюбам, он пишет: «След, оставленный Израилем после себя, будет вечен. Израиль был первым, давшим форму крику народа, жалобе бедного, упорным требованиям тех, кто жаждет справедливости».
Блестящий стилист, Ренан перевел на французский язык библейские книги – Иова, «Песнь песней» и любимого мной, вбитого мне в память ребе на всю жизнь Екклесиаста, восторженно отзываясь об этих книгах. Да, Ренан считал, что евреи ничего не внесли в науку, политику, изобразительное и драматическое искусство, философию, но они первыми отличили звуки человеческой речи, застолбив их двадцатью двумя знаками и дав толчок мировой литературе, первым шедевром которой была Книга Книг. Именно евреи принесли арийским (индоевропейским) народам понятия добра, истины, справедливости.
Особенно потрясла меня тогда мысль Ренана о том, что иудаизм в своем изначальном чистейшем виде никогда не опускался до того, чтобы обуславливать праведную жизнь обещанием воздаяния, вознаграждения по ту сторону жизни. Это было, по мнению Ренана, одной из высочайших основ иудейской религии, потерянной выросшими из нее другими мировыми религиями.
Слезы выступали на глазах при чтении этих фрагментов, поддерживая, подобно глотку живой воды, в те годы духовно скудного, по сути, почти мертвого существования.
Все то, что мной не принималось в Ренане, я держал в уме, не пропуская в сердце, не записывая в конспект. Однако, как потом оказалось, эти прорехи, эти «черные дыры» несли и несут в себе как бы концентрированную основу французской интеллектуальной мысли в отношении еврейства – в общем, и евреев – в частности. Через много лет, но еще в тираническом окружении, также тайком прочитал в «Докторе Живаго» слова автора о еврейском народе, вложенные в уста Симы Тунцовой: «Национальной мыслью возложена на него мертвящая необходимость быть и оставаться народом и только народом... В чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько ни в чем не повинных стариков, женщин и детей, таких тонких и способных к добру и сердечному общению?.. Отчего властители дум этого народа не пошли дальше слишком легко дающихся форм мировой скорби и иронизирующей мудрости? Отчего, рискуя разорваться от неотменимого долга... не распустили они этого, неизвестно за что борющегося и за что избиваемого отряда?..»
И далее. Они (иудеи) «...не могут подняться над собою и раствориться среди остальных, религиозные основы которых они сами заложили и которые были бы им так близки, если бы они их лучше знали».
Прочитал и подумал о том, что всеми нами обожаемый поэт Борис Пастернак ужас как вторичен. Просто раньше многих из нас читал Ренана в оригинале: «В Истории нет более странного зрелища, чем зрелище этого народа, превратившегося в привидение, – народа, вот уже тысячу лет потерявшего чувство дела, не написавшего ни единой страницы, достойной прочтения...» Ренан прямо говорит, что после возникновения христианства существование еврейского народа потеряло всякий смысл. Давшая плод и ставшая сухой ветвь должна отпасть от древа мировой цивилизации.
Ренан был властителем дум, «гуру» своего поколения. Его влияние на французскую интеллектуальную мысль ощутимо по сей день. Именно мысль такого выдающегося ученого и историка (пусть и с немалой долей псевдонаучности) о бессмысленности существования народа Израиля, стала орудием в руках французских антисемитов любых мастей, вкупе с батареей просветителей создав с трудом отразимую артиллерийскую мощь, направленную против еврейства.
Пастернак так поэтично воспел «православие» в «Стихотворениях Юрия Живаго» (часть семнадцатая романа). Обращение же Пастернака к еврейству усугублено скрытым комплексом принадлежности к этому «народу» или «народцу» (выражение Ренана). И тут в дело идут самые неприязненные, скудные, даже примитивные слова. Если положить сказанное Пастернаком на некие весы, то на одной чаше окажется тысячелетняя трагедия и величие «кровавого и богоизбранного» чуда, «малого народа» (выражение антисемита-интеллектуала Игоря Шафаревича), зародившегося в заброшенном уголке Передней Азии. Одни называют его «скитающейся в мире тайной», иные – «скитающейся в мире истиной». На другой же чаше – чьи-то слишком уж человеческие «выгоды», непонятное, чуть ли не детское упрямство, чувство долга, питаемое отнюдь не «великими концепциями».
Но особенно комично в шестьдесят седьмом году, когда в один из шести дней потрясшей мир Шестидневной войны я добрался до ренановской «Истории израильского народа», звучали слова Ренана, уверенного в абсолютной и неотвратимой правильности своей «великой концепции», определяющей будущее мира: «Израиль никогда не создаст ни государства, ни философии. Он никогда не будет иметь развитой светской литературы».
Уже давно с трагической триумфальностью шествовали по миру писатели еврейского происхождения – Кафка и Пруст, считающиеся вместе с Джойсом основоположниками мировой литературы XX века. Государство Израиль уже существовало двенадцать лет. Гениальный Мартин (Мордехай) Бубер, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, стал одним из столпов философии экзистенциализма, построенной на основах иудаизма. Шмуэль Йосеф Агнон уже год как был лауреатом Нобелевской премии по литературе.
Еще при жизни Ренана, умершего в 1892 году, клятвенный антисемит Дрюмон выпускает памфлет «Еврейская Франция» (1886). Он уверенно пишет о том, что во всех бедах и катастрофах, свалившихся на Францию, виноваты евреи. Виноваты и справа (франко-прусская война, сыпавшая потоком деньги в мешки еврейских банкиров и буржуазии), и слева (евреи – коммунисты и анархисты, принесшие проклятие Парижской коммуны).
Дрюмон преднамеренно забывает, что на проигравших войну французов пруссаки наложили контрибуцию в 5 миллиардов франков и только благодаря Ротшильду, возглавившему синдикат французских банков, долг этот был выплачен.
Памфлет весьма пришелся по душе народу. По всей стране стали множиться отделения Антисемитской лиги.
Думаю, Ренан не мог себе и представить, что через считанные годы после его смерти антисемитизм достигнет апогея в деле Дрейфуса(1895), Все аборигены – от социалистов до монархистов – будут открыто и злобно нападать на евреев. Республиканцы подольют масла в огонь, предостерегая французов от «жидовского нашествия». Слово же в защиту евреев вызвало эффект разорвавшейся бомбы. «Я обвиняю» Эмиля Золя (январь 1898-го), когда всем уже было понятно, что Дрейфус невиновен, вызвало волну погромов (Париж, Нант, Бордо, Марсель, Ангулем). В Латинском квартале студенты громили лавки и магазины евреев, избивали прохожих, похожих на «жидов».
Французские офицеры-артиллеристы, которые, в отличие от батарей просветителей и публицистов, держали в руках истинную артиллерию, прославленную со времен Наполеона при взятии Тулона, открыто обратились к командованию с профессиональным предложением: испытать новые виды орудий на ста тысячах французских евреев. В черном антисемитском деле конца XIX века французы были первопроходцами, давшими пример нацистам через тридцать с чем-то лет в избиении евреев во всех городах Германии после поджога рейхстага. Оправдание Дрейфуса привело к тому, что антисемитизм на некоторое время пошел на убыль, но из песни слова не выкинешь, если прибавить к ней куплеты времен Второй мировой войны, правительства Виши, уже не говоря о новом витке антисемитизма в связи волной иммигрантов из мусульманских стран, внесших новый элемент в дело любви французов к «французам», то бишь евреям.
Антисемитизм во всем мире скуден на выдумки: пара кровавых наветов, которая безотказно работает вот уже тысячелетия. И это столь же удивительно, как и вошедшее в сущность евреев за эти тысячелетия умение смиряться с унижением, издевательством, избиением и, главное, убиением, строить снова свою жизнь на пепелище и еще петь «песни благодарности», душевно переживать за судьбы своих «несчастных» притеснителей.
Веками складывающийся французский национальный характер породил интеллектуальную элиту, начиненную изрядным зарядом позитивизма и анархизма, поисками какого-то своего Бога в обход религии. Она питала особую ненависть к христианству, ввергая периодически народ в кровопускания, называемые революциями – малыми и великими, в которых, как всегда, первыми козлами отпущения были евреи. Именно она изобрела машину смерти – гильотину и даже гордилась этим мерзейшим изобретением – обезглавливанием. Она традиционно была враждебна еврейству, как бы нехотя (в значительной степени благодаря Ренану) отдавая ему должное.
Французской интеллектуальной мысли по сей день присуща неубедительно упрямая бравада атеизмом с явно ощутимым налетом этакого летуче-балетного легкомыслия.
Самым честным и бесстрашным среди них был рано ушедший Альбер Камю, еще в годы повального увлечения СССР назвавший марксизм преступным, ибо он требует жертв во имя будущего, которое неизвестно.
Французские интеллектуалы-постмодернисты в «еврейском вопросе» придерживаются концепции Ренана, в нашу бытность подхваченной Пастернаком. Я уже упоминал французов и «французов» (евреев). Французские постмодернисты делят нас на просто евреев – живых людей и «евреев» в кавычках – как метафизическое понятие. Просто евреев они видят сквозь чудовищную призму Катастрофы, принимая ее, как никакой другой народ Европы, близко к сердцу, быть может, еще и потому, что это совершили немцы («боши»), неприязнь к которым, а то и прямая ненависть не гаснут по сей день, несмотря на все уверения в совершеннейшем почтении.
Не кто иной, как французский еврей Клод Ланцман создал многочасовую документальную ленту – истинно живой памятник Катастрофе, назвав свою работу «Шоа», после чего в лексикон всего мира вошло это слово.
«Евреи» же, как метафизическое понятие, по мнению французских постмодернистов, – это народ без своего пространства и времени, изгнанный в мучительное прислушивание к голосу Бога и охваченный отчаянием: ведь никогда не слышит, что Он говорит.
Этот народ неприручаем к имперской страсти обретения власти. Этот народ не дает миру залечить мучительную рану незавершенности. В отличие от других народов, которые являются заложниками жизни, «евреи» являются заложниками Бога. Их верность Его закону и долгу перед Ним делает их вечными должниками. Задолженность эта висит над ними неотменимой тяжестью, требуя все время новых жертв. Потому евреи замкнуты в порочный круг, из которого невозможно выбраться.
Как истинные «заложники жизни», французские интеллектуалы пропускают мимо сознания Кафку, который в романе «Процесс» убедительно показал, предвидя тотальный тоталитаризм, надвигающийся на Европу, что никому, кроме «титульной» на данный момент нации, не удастся избежать в будущем приуготовляемой евреям участи.
То, что Ренан считал высшим достижением иудаизма – соблюдение праведности без воздаяния, – постмодернисты считают серьезным дефектом «евреев». По ним, христианский (языческий) Бог тем и силен, что является Богом хлеба, вина, почвы и крови. Бог же «евреев» – это Бог «нечитаемой книги». Он требует почтения и жертвоприношения.
У «евреев» нет эстетики, а есть постоянное пережевывание частных историй.
«Евреи» – народ ожидания, но, по язычнику, ожидание не может быть вечным и созидательным. Ожидание наперед лишает возможности «прорыва». Опять возникает Хайдеггер, своим «прорывом» не дающий покоя французским интеллектуалам.
Нам очень знакомы прорывы, каждый раз приносящие лишь большую кровь и гибель, а затем запоздалый приход в себя после кровавых вакханалий. «Евреи» всегда жили в ожидании, ибо кто-то должен его хранить, хотя это – вовсе не ожидание – а верность тому, что на опыте тысячелетий не подводило.
Как же, как же, христианский мир в тревоге, что ничего не происходит. А что должно происходить?
Тайна «евреев» в том, что все уже произошло. На Синае.
Тайна «евреев» в тяжести и безмолвии взятого на себя обета.
Не в страсти, не в кровопролитии, а в спокойном понимании страдания, называемого жизнью, больше прочности вызванного к существованию живого мира.
С другой же стороны, «евреи» – кочующий ген мира. Да, сегодня, после падения советской империи на востоке Европы, нет народа, который не был бы подвержен эпидемии кочевья. Но лишь «евреи», кочуя, все время плачут и клянутся в приверженности Земле обетованной, повторяя: «В будущем году в Иерусалиме!» И вновь их обвиняют в лицемерии.
Еврей везде одновременно приемлем и отвергнут.
Все государства озабочены своим будущим. Только евреи даже на своей земле позволяют себе в голос сомневаться в своем будущем, взбадривая своих недругов.
Единственно воистину великий вклад «евреев» в Историю современного мира французские постмодернисты, выступающие против «великих концепций» или «великих повествований» (так они их называют) прошлого, считают понятием, которое можно выразить в следующем виде – «Все великие спасители, даже мертвые, всего лишь самозванцы».
Глава третья
Французы и немцы
Французы и немцы
Реальность, движущаяся цепью событий, жестока и бесстрастна.
История же легче всего поддается давлению власти. Со временем новая власть дает Истории в той степени, которая не задевает ее, коснуться правды. Более объективны историки других наций, описывающие отдаленные от них времена, например, немецкий историк Моммзен, создавший выдающуюся историю Рима. Но и у него, быть может, в менее острой форме, чем у Иосифа Флавия, проскальзывают нотки назидания, мол, немцы, извлекайте уроки из истории вознесения и падения Рима.
Впервые в лоне европейской мысли в последней четверти прошедшего века французские постмодернисты выступают с тотальной уничтожающей критикой Истории.
Тотальность в желании овладеть миром отражает опасное стремление души дойти до предела, которое, в лучшем случае, безумие, в худшем – чудовищный залог будущей катастрофы.
Тотальность в желании разобраться с этим безумием похвальна, но тоже требует к себе необходимой доли скептицизма.
Наряду с выдающимися достижениями современной французской философской мысли, один из ее ранних корней несет – явно не поддающуюся разуму – ненависть к существующему буржуазному строю. Эта – в значительной степени – слепая ненависть заставляла левых радикалов, группировавшихся главным образом вокруг журнала «Тель-Кель», выступать под прикрытием неомарксизма.
Когда же обнаружилась черная бездна ГУЛага, они в 1968 году, в дни студенческих волнений, охвативших Францию, подняли красное знамя маоизма, приветствуя китайскую «культурную революцию», и вновь застыли в шоке при виде кровавых вакханалий этой «революции».
Но тотальность – это тот самый дурной пример для подражания, который весьма заразителен.
И вот уже наши домашние историки-постмодернисты приступили к тотальной деструкции собственной Истории, замахнувшись на все три тысячи немыслимых лет еврейского существования в мире.
Все это говорит об Истории как о весьма ненадежном инструменте.
Гораздо правдивей философия, не столь пугавшая даже тоталитарную власть, ибо выступала как бы «велеречиво и отстраненно». Вспомним, как мы читали, «зажав рты», в незабвенной (забыть это невозможно) юности статьи по философии, громящие западную философскую мысль с позиций марксизма-ленинизма на основе цитат из Ницше, Хайдеггера, Ясперса.
Но мы-то жадно вчитывались только в эти цитаты, благодарно понимая хитрость авторов статей. Цитаты эти, казалось бы, невероятно усложненные, отвлеченные, несли столь необходимый нам глоток свободы. Это напоминало байку тех дней: у посольства США ночью двое москвичей, оглянувшись, протыкают шину американского автомобиля, говоря: «Подышим воздухом свободы».
Весь текст, окружающий эти цитаты, был, по выражению Лотмана, «нуль-информацией».
Философия всегда выступает немедленной потребностью души, неся пусть совсем малую, но все же надежду в периоды явно ощутимого приближения к Катастрофе.
Так было в России 1920-х годов. И первые философы, стоящие на страже истины, среди них Николай Бердяев, Семен Франк, отец Сергей Булгаков, Николай Лосский, Лев Шестов (Шварцман), сумели вырваться из Совдепии или были высланы, избежав страшной участи русской интеллигенции, почти поголовно нашедшей смерть в мертвых лабиринтах ГУЛага. Бог ли, судьба ли хранила их, чтобы донесли они до наших дней факел истинной, не уничтоженной русской философии.
Так было в Германии 1930-х годов, когда представителям франкфуртской философской школы, ставшим впоследствии выдающимися философами XX века, – Теодору Адорно, Максу Хоркхаймеру, Герберту Маркузе, Эриху Фромму – удалось бежать из нацистской Германии.
В одном из последних, предсмертном стихотворении «Скифы» Александр Блок пишет:
Мы любим все – и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно все – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...
Себя же поэт, кровно связанный с западным символизмом Метерлинка, Грильпарцера, Верлена, с каким-то отчаянным вызовом человека, уже ощущающего, в какую гибельную трясину он погружается, причисляет к восточным варварам: «Да, скифы мы! Да, азиаты мы!.. Мы обернемся к вам своею азиатской рожей!..» Этот вопль из не изведанных им самим глубин его души еще ждет своего толкования.
Ему, открывшему поэму «Возмездие» строками – «Век девятнадцатый, железный, воистину жестокий век!..», не дано уже узнать, насколько век двадцатый будет чудовищно жестоким и кем для его России обернется «азиатская рожа», с усами и в крапинку.
Воспользуюсь весьма впечатляющей теорией «словесных игр» французских постмодернистов, одним из постулатов которой является, кстати, отрицаемая ими же бинарность. К примеру: бодрствующий Запад и погруженный в опасную спячку Восток. Воистину в европейском пространстве Франция – Запад, Германия по отношению к ней – Восток, высидевшая в своем тевтонско-нацистском сне вырвавшееся из «роковых яиц» чудовище. Россия же – совсем уже на Востоке, – спавшая столетиями, породила другое чудовище греческих мифов, пожиравшее миллионами своих же детей.
Но наступает судьбоносный час пробуждения, подведения итогов, длящийся десятилетиями.
Очнувшись, французы никак не могут справиться со своей Историей. И в бодрствовании и во сне их неотступно и навязчиво преследуют кадры «бошей» в глубоких касках, печатающих по-хозяйски подкованный шаг по Парижу за покачивающимся на тяжелом немецком битюге командиром, и составы с евреями, которые правительство Виши посылает в лагеря смерти. Они отлично помнят слова царя Креона в пьесе Жана Ануя «Антигона», написанной в Париже под стук немецких сапог и предательский голос Петена. По сей день, эта пьеса идет на театральных подмостках. «...Судно дало течь по всем швам, – говорит Креон. – Оно до отказа нагружено преступлениями, глупостью, нуждой... Корабль потерял управление. Команда не желает ничего больше делать и думает лишь о том, как бы разграбить трюмы, а офицеры уже строят для одних себя небольшой удобный плот, они погрузили на него все запасы пресной воды, чтобы унести ноги подобру-поздорову. Мачта трещит, ветер завывает, паруса разодраны в клочья, и эти скоты так и подохнут все вместе, потому что каждый думает только о собственной шкуре...»
Немцы, при всех своих достижениях и демонстрируемой на весь мир демократической бодрости, не могут по сей день выйти из состояния глубокой «резиньяции». Это слово, означающее некую покорность, смирение, уже как бы после раскаяния, отмечает современная немецкая философская мысль.
Россия с переменным успехом пытается и все никак не может «воспрянуть ото сна». Оказывается, фрейдистский феномен исторической «амнезии» и «анестезии» заключается именно в том, что «никто не забыт и ничто не забыто». Помню, каким для нас пробуждением от мертвого сна была живая вода книги Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Это был воистину «поиск времени», которое не просто было утрачено, а выглядело траченной тканью, превращенной в тряпье и выброшенной на помойку Истории.
Сегодня мы, осоловевшие от хлынувшей на нас за все последующие годы информации, почитаем эту книгу скучной и удивляемся тому потрясающему впечатлению, которое она тогда произвела на нас.
Затяжные приступы исторической амнезии
Очнувшись от мертвой спячки, мы обнаружили совсем неподалеку, за упавшим железным занавесом, французов и немцев, со своими «ящиками Пандоры», своими «безднами». Уже не первое десятилетие они худо-бедно пытаются выкарабкаться, цепляясь за скользкие от крови стенки собственных, их руками сотворенных Историй. Мы же в это время, на востоке, жили погруженные в чудовищный сон, под гнетом тоталитаризма, когда масса (ее нельзя назвать «народом») была одновременно возбуждена и подавлена. И мы оправдывали заполнивший наши духовные потребности страх неведением.
Такие затяжные приступы исторической амнезии не проходят даром, легко и бесследно. Естественно, что, очнувшись, мы не смогли узнать ни самих себя, ни соседей. Попытки диалога пока еще выглядят разговором глухих. А между тем речь идет об осмыслении общей европейской судьбы, которая за последние два века столько раз подводила.
И тут именно философия вторично за прошедший век обнаруживает самую большую чувствительность к Истории, выступая одновременно в трех лицах – обвинителя, защитника и судьи.
Выходит, что только она, современная философия, после провала в бездну, вправе предъявить иск Истории.
Речь идет о современной французской и немецкой философии и взаимоотношении между ними.
Если попросить любого интеллектуала, профессионально не занимающегося философией, вне зависимости от языка и культурной среды, в которой он обретается, назвать имена современных французских и немецких философов, он тут же выдаст несколько бронебойных имен. Назовет, положим, четыре немецких – Канта, Гегеля, Ницше, Хайдеггера. И три французских – Бергсона, Сартра, Камю. Тех, кто меня упрекнет в высокомерии, могу успокоить. Мы в СССР, были отрезаны от цивилизации Запада, и не наша вина, что мы практически ничего не знали о ней. Но трудно поверить в то, что современная французская философия почти вовсе не осведомлена о немецкой, а немецкая о французской – тем более. И это при полнейшей открытости между ними. А ведь вот уже более четверти века вышла на уровень мировой философии целая плеяда французских философов-постмодернистов. Среди них звезды первой величины – Жак Деррида, Мишель Фуко, Эммануэль Левинас, Жан-Франсуа Лиотар. За ними следуют Жак Лакан, Жиль Делез, Юлия Кристева, Бланшо, Бодрийяр, Батай.
В современной немецкой философии силен дух ушедшего из жизни в 1969 году еврея Теодора Адорно, вернувшегося сразу после войны из США в Германию, его ученика Юргена Хабермаса, Ханса Георга Гадамера, ученика и в определенной степени наследника Мартина Хайдеггера, Манфреда Франка, Макса Хоркхаймера. Особняком стоят их коллеги по франкфуртской школе, оставшиеся после войны в США и там обретшие мировую знаменитость, – Герберт Маркузе и Эрих Фромм (оба – евреи).
С момента окончания Второй мировой войны более тридцати пяти лет, до поздних восьмидесятых, немецкая философия, укрывшаяся в университетских стенах, под сенью великого философского насилия все тех же Канта, Гегеля, Ницше и Хайдеггера, не удостаивала вниманием французскую школу постструктурализма, кажущуюся ей легким оружием по сравнению с тяжелой артиллерией германской философии. Смущало ли их то, что эта артиллерия наделала в Европе? Выводил ли их из себя факт, что именно французский постмодернизм предъявил иск «нацистскому мифу», занявшись его деструкцией, чтобы обнажить его корни?
Немецким философам оставалось забиться в темный угол. В состоянии депрессии они замалчивали достижения французского постмодернизма. Но, при этом, напряженно, (это обнаружилось позднее), следили за тем, как французская философская мысль разворачивает их немецкое прошлое. А именно, то «чудовищное, омерзительное, непостижимое», которое я назову «бездной Шоа-ГУЛаг» и чему посвящена эта работа – «Иск Истории».
Но для них, немецких философов, это ведь «кровное», которое хочется не исследовать, а забыть или, во всяком случае, сделать вид, что после операции с длительной анестезией больной вылечился и стал другим.
Вообще-то и, главным образом, в течение последних трех веков немцы с особым интересом и тайной завистью следили за французской философией (Париж ведь законодатель не только мод), а французы, в свою очередь, с не менее скрытым интересом припадали к работам «левиафанов немецкой философии». Но обе стороны делали вид незаинтересованности друг другом, не чураясь, кстати, профессиональных контактов, опять же, неизвестных широкой публике.
Французы и немцы в древности составляли один этнос – франков. Затем разделились по языковому признаку. Народ – это язык. На западе Европы говорили на испорченной латыни, ставшей французским языком, на востоке один из диалектов стал немецким. На этой языковой почве выросли различные корни двух этих народов, корни достаточно горькие, с немалым привкусом неприязни одного к другому, с периодами откровенной ненависти, что не раз приводило их к столкновениям, в которых побеждал то один, то другой, в свою очередь, топча побежденного.
Не отрицая того, что их цивилизации были созданы евреями и греками, философы предпочитали греков, памятуя, что иудаизм был проглочен христианством, как пророк Иона китом.
Два крупнейших немецких философа прошедшего века – Гуссерль и Хайдеггер считали, что греческое слово «философия» прежде всего, определяется рамками Эллады (Греции). Эллинская в своей изначальной сущности, она в полноте и глубине своей осуществляется лишь в тех – эллинских – рамках. Она и определяет глубинное развитие и развертывание западноевропейской Истории и философии. Как французские, так и немецкие историки и философы усердно паслись на землях Эллады – в прямом и переносном смысле (вспомним хотя бы Шлимана, раскопавшего Трою) – в поисках тех корней, из которых можно было извлечь то, что поможет сотворить национальный характер, а точнее, идентификацию каждого из этих народов.
Французы видели себя наследниками классической Греции, прошедшей через горнило Рима и Возрождения, Греции прекрасных форм Фидия, ясности и соразмерности, короче, той Греции, которую немец польского происхождения Ницше назвал позднее «аполлонической».
Еще раньше, в конце XIX столетия, «отцы» спекулятивного идеализма Георг Вильгельм Фридрих Гегель, романтической филологии – Фридрих Вильгельм Шеллинг, романтической поэзии Фридрих Гельдерлин открыли не одну, а две Греции, и вторая отличалась буйством, пьянством и свальным грехом в честь бога Вакха, мистическим культом мертвых, в определенной степени заимствованным у древних египтян. Эта опасная и в то же время заманчиво влекущая раздвоенность прослеживалась в поэзии Гельдерлина, в гегелевской «Феноменологии духа». Ницше дал этому буйству имя – «дионисийство», и на этих двух весьма прочных костылях – аполлоническом и дионисийском – ворвался в немецкую философию, еще размеренную шагающим по Кенигсбергу Кантом, по которому сверяли часы на ратуше, и Гегелем, который с самоуверенностью мегаломана утверждал, что «все действительное разумно и все разумное действительно».
Комплекс вторичности
Продолжая параболу о Западе, опережающем Восток, можно сказать, что Франция, считающая себя прямой наследницей античности, Рима, выросшей из романского корня, в значительной степени определила свою идентичность. Она почти на два века опередила в этом Германию, с напряженностью шизофреника ищущую свою национальную идентичность.
Источником поисков была та же Эллада.
Подражая Франции, Германия признавала свою вторичность. Взять за основу вторую Грецию – Грецию мистерий и вакханалий означало расписаться в собственном безумии, тем более что эта вторая – распоясавшаяся, возведшая пьянство и гомосексуализм во главу угла Греция и подвела черту под собственное существование.
Но можно ведь это прикрыть пеленою мифа. Можно искать свои корни в греческом языке, находя в немецком много общего с ним.
Филология становится главенствующей в начальных поисках идентификации. Немецкие лингвисты отыскивают присущие обоим языкам особые способности к символизации и строительству мифа. Мы уже знакомы со страстью неофитов, изучающих, к примеру, иврит, находящих в нем корни русских слов вплоть до попытки доказать, что русский язык вообще возник из иврита. Оказывается, в иных условиях, с иными притязаниями эта вызывающая неловкость, порой недоумение страсть может оказаться роковой в судьбе народа, а то и человечества.
Ницше и вовсе облагораживает вторую, безумствующую Грецию в своей ранней работе «Рождение трагедии из духа музыки». Дух музыки несет в себе слияние. В нем диалектически сливаются аполлонические и дионисийские начала в гегелевском единстве противоречий. Первое сглаживает буйство второго. Второе дает энергию слишком «оформленному» первому, изливаясь в трагедиях, укрепляя дух народа перед лицом смерти и против смертельного распада под влиянием восточного мистицизма.
Тут уже и разгадывать не приходится: речь идет о борьбе арийского и еврейского начал. Последнее, по Ницше, породило разлагающее Европу христианство. Несмотря на то, что Ницше говорит о еврейском народе даже уважительнее, чем Гегель, ядовитые семена будущих катастроф уже брошены в почву.
Геологический разлом, черная дыра, «бездна Шоа-ГУЛаг» расколет мир людей надвое, и вместе с ними Историю и философию. Все, что было по ту сторону разлома, будет уже навечно идти под отрицательным знаком преступной самоуверенности, чуть не поставившей все человечество на грань самоуничтожения.
Частичка «пост» в словах «постмодернизм» и «постструктурализм» впрямую говорит о мире после «бездны Шоа-ГУЛаг».
Французские постмодернисты берутся за исследование «нацистского мифа», ибо сами испытали влияние Канта, Гегеля, Ницше, Маркса, Хайдеггера. Они берутся за это, чтобы понять, как эти «великие концепции» привели к такому страшному результату.
Если мир этот – упорядоченный, уравновешенный, классически рассчитанный, просвещенный, освещенный, освященный, просвеченный разумом, – может выдать из недр своих такой чудовищный взрыв, разинуть пасть такой бездны, как «Шоа-ГУЛаг», то его, этот мир, следует деструктировать до основания, чтобы понять, как это случилось.
Это даже главнее, чем возводить мир заново, что и делают политики и власть, строя себя на обломках прошлого, впитавших в себя яд той бездны.
Кто-то должен взять на себя это неблагодарное, но единственно благородное дело.
Здесь процесс важнее, чем результат, ибо движение анализирующей мысли и чувства потрясения не должно, не имеет права погасать, ослабевать, заболевать болезнью Альцгеймера или вызывать оскомину бесконечными приходами в тупик.
Немецкие философы как бы исподволь, но с большим интересом вглядывались в зеркало, которое поставили перед ними французские постмодернисты.
Один из известных современных немецких философов Манфред Франк прямо признается, что критическое осмысление «скомпрометированной фашизмом домашней традиции» шло через освоение постмодернистского мышления Франции, «вовлекаемые в круг обсуждения тексты прошли через руки французов и тем самым избавили вторичное освоение этих текстов немцами от морально-политической цензуры».
Но современная немецкая философия была придавлена слишком тяжким наследством последнего из великих немецких философов Мартина Хайдеггера. А он с присущей ему вкрадчивой категоричностью выступал против западного рационализма, философии языкового анализа, составляющего главную ось постструктурализма, против неомарксизма франкфуртской школы, апологетами которого выступают Теодор Адорно, Герберт Маркузе, Эрих Фромм.
В 2003 году по-буржуазному сытая Германия, все еще изживающая травму своего нацистского прошлого, с большой пышностью отметила столетие со дня рождения крупнейшего немецкого философа прошлого века, причем неомарксиста, как-то закрывавшего глаза на вторую часть формулы «Шоа-ГУЛаг». Речь идет о Теодоре Адорно, который в миру был евреем Теодором Визенгрундом. Но именно ему принадлежит фраза, ставшая не просто афоризмом, а знамением XX века.
«После Освенцима искусство невозможно»
Через Освенцим (Аушвиц), рассекая не только Европу, а весь мир, проходит непреодолимая пропасть. Такую чудовищность не мог изобрести человеческий разум. Были войны, лагеря, массовые уничтожения. Но только безумие может выпестовать идею уничтожить целый народ в кичащейся своей философской продвинутостью Европе, и совершить это весьма результативно, грубо основываясь на телефонных книгах, проверке обрезания и, главное, на испытанном способе человеческой подлости, смутно обретающейся в сознании европейских народов: доносить на евреев не зазорно.
И не было необходимости в клейме, которое в древности ставили рабам на лбу или плече. Ненависть, мелкодушие, корыстолюбие, жажда грабежа действовали безотказно.
Только сегодня, через полвека, обнаруживаются чудовищные масштабы этого грабежа. Причем наследники грабителей всех наций и мастей весьма обижаются, когда им об этом напоминают. Говорят, что это даже является одной причин новой волны антисемитизма.
«После Освенцима искусство невозможно», – говорил Адорно в той самой послевоенной Германии, где комендант Освенцима Гесс издал книгу с трогательным названием: «Моя душа, воспитание, жизнь и переживания», полную сентиментальных рассуждений о том, сколь мучительна была необходимость убивать миллионы женщин и детей ради того, чтобы «на земле было больше порядка. Неприятно, конечно, но необходимо».
Именно Адорно, о котором более подробно мы поговорим ниже, иронично и едко расправляясь с Гегелем и его «мировой историей», основанной на принципах разума и свободы, показал историю Европы XX века, как патологический процесс безумия.
Адорно уже был зрелым ученым, когда в 1939 году совершилось еще одно событие, наряду с началом Второй мировой войны: вышел в свет незаконченный роман Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану», в котором История определяется как сон пьяного трактирщика Ирвикера.
Считают, что выход в свет этого романа ознаменовал возникновение постмодернизма. Этот феномен лишь в 1980 году анализирует Кристофер Батлер в своем труде «После «Поминок». Эссе о современном авангарде».
В 1939 году европейская История была втянута в гибельный водоворот безумия. Бежавшему из Германии Адорно было 36 лет. Французу Мишелю Фуко было четырнадцать, а французу еврейского происхождения Жаку Деррида – девять.
Именно они, крупнейшие философы постструктурализма второй половины XX века, оказались в одной связке с идеями ставшего намного позже им известным Адорно, ибо идеи эти витали в тлетворном воздухе приходившего в себя от смертельной болезни времени.
Неомарксист Адорно, не испробовавший судьбы ГУЛага, но честный в своих исследованиях, утверждал, что любой стандартизированный язык (вспомним советский канцелярский, да и литературный волапюк) служит средством утверждения господствующей идеологии, направленным на приспособление человека к существующему строю. В этом ему виделся особый род стандартизированного «безумия», социального по своей сущности, ибо оно манипулирует сознанием масс.
Теме социального безумия 1960-1970-х годов, когда Советы, то, приподымаясь (хрущевская оттепель), то, вновь проваливаясь (брежневские годы), пытались как-то выбраться из сталинистской зловонной трясины, теме никем даже не предполагаемого в фантасмагории Исхода евреев, посвящен мой роман «Лестница Иакова» (1984).
Главный герой романа психиатр Кардин пишет «в стол» работу о шизофрениках и неврастениках, держа в памяти анекдот о том, чем отличаются шизофреники от неврастеников. Первые уверены, что дважды два – пять, и не только абсолютно спокойны, а делают это основой своей государственной политики. Вторые знают, что дважды два – четыре, но это их страшно нервирует. Невроз этот ведет их в диссидентство.
Мишель Фуко, о котором тогда мы и знать не могли, выпускает одну из ранних своих книг «История безумия в классический век» (1962), затем переработанную в ставшую знаменитой книгу «История безумия»(1972).
Своим совершенно оригинальным толкованием Истории он резко и последовательно выступает против поступательного ее развития, доказывая скачкообразный, кумулятивный характер исторических изменений. Именно это приводит к тому, что люди одной эпохи или системы абсолютно не понимают другие эпохи и системы. Тут не просто «непонимание», а – «разрыв».
Каждая система как бы замкнута в своем «безумии».
«Шоа и ГУЛаг» – два всеохватных абсолютных преступления XX века. И объяснения им надо искать в конкретном историческом характере конвенций, условностей, слепых сил инстинкта, уверенного в себе интеллекта, по сути, уже впавшего в безумие и не в силах сойти с пути заблуждений и прямого преступления. Этот сложный характер и ложится в фундамент обоснования и оправдания своих поступков как отдельным человеком, так и целым народом.
Достаточно спорная во многих своих пунктах, концепция Истории Мишеля Фуко излагается автором (он умер в 1984 году) столь увлекательно, с таким интеллектуальным обаянием и убедительное по аргументации, с таким невероятным по силе желанием вывести человеческую Историю из тех пропастей, в которых она прозябает, что она пользуется огромным влиянием по сей день среди самых блестящих умов современности.
В любом случае Адорно ближе всех немецких философов стоит к постмодерну, пересекаясь с концепциями французов Фуко и Деррида, и потому как бы был отодвинут в сторону послевоенной немецкой философией, лишь в последнее десятилетие отчаянно пытающейся наверстать упущенное изучить французский постмодерн и постструктурализм, ставшие уже неотменимыми явлениями в современной мировой философии, главным образом в своем толковании политической Истории мира и Истории как «тотального текста» (мгновенно возникает мысль об ином, знакомом всему миру тотальном Тексте). Сегодня ясно, что идеи французских постмодернистов оказали и оказывают немалое влияние на английскую, американскую и русскую современную философскую мысль.
К сожалению, до борьбы идей, составляющих истинную основу философии, далеко.
Французы, в общем-то, игнорируют то, что происходит в современной немецкой философии. Одна часть немецких философов впадает в самозабвенное, безоговорочное подражание французам. Другая часть громит своих противников, однако аргументы их показывают, что они весьма поверхностно знакомы с объектом критики. Как говорит Манфред Франк, «обе реакции наводят на мысль, что их мотивацией является травматический опыт».
Французские современные мыслители, упомянутые мной выше, при разработке своих концепций все время обращаются к столпам старой немецкой философии – Канту, Гегелю, Ницше и особенно Хайдеггеру, деконструируя их, апеллируя к ним в защиту своих построений или ниспровергая.
Немцы же, являясь законными наследниками своих «отцов философии», занимают вокруг них круговую оборону, косвенно, любыми путями отбивая обвинения в том, что отцы эти впрямую виноваты в безумии, поразившем Германию в середине прошлого века.
Вся их защита априорных положений о разуме, свободе, совести в кантовском стиле даже сегодня, через почти полвека, не очень-то убедительна. Она-то и не дает им возможности вырваться из осады.
А просто заняться деконструкцией своего философского наследства, как это делают французы, мешает им застарелая боязнь вновь оказаться вторичными.
Но есть все же надежда, что, отказавшись от претензий «отцов философии» на универсальность и уверенность в праве учить весь мир, как это делал Гегель, современная немецкая философия осторожно нащупывает новую тропу (вспомним «лесную просеку» Хайдеггера) в будущее.
Глава четвертая
Казус Ницше
Евреи и немцы
За два года до апоплексического удара и потери рассудка, Фридрих Ницше впервые открывает Федора Достоевского. Он пишет другу: «…Еще несколько дней назад я не знал даже имени Достоевского – необразованный человек, не читающий «газет»! При случайном посещении книжной лавки мне бросилась в глаза только что переведенная на французский книга «l”esprit souterrain» («Записки из подполья») – столь же случайно было это со мной в возрасте 21 года с Шопенгауэром и в 35 лет со Стендалем. Инстинкт родства (или как это еще назвать?) среагировал моментально…»
Прикосновение судьбы, словно кто-то ненароком притронулся к твоему плечу, всегда внезапно. «Его величество Случай», как говорил Стендаль, настигает средь бела дня в каком-нибудь суетном углу жизни.
Так было с книгой Ренана, обнаруженной мною в доме моего друга Андрея в школьные годы. На этот раз, в начале шестидесятых, случай обернулся рекомендованным друзьями фотографом, который должен был сделать для меня несколько снимков. Это был невзрачный человечек небольшого росточка, с узким ножевым лицом, горбатым носом, ранними залысинами, семенящей походкой. С лица его не исчезало выражение готового в любой миг ощетиниться слабыми коготками котенка, заблудившегося на внушающей ужас улице, беспомощного перед любым толчком и хищным желанием прохожих отфутболить его в сторону. Фамилия у человечка, который мог стать драгоценной находкой для антисемитов, была тоже необычной – Цванг. Он привел меня к себе домой, в нижнюю, старую часть Кишинева, где в одной из комнаток, а скорее, каморок соорудил студию. Дом был многоквартирный с дряхлой, скрипучей деревянной галереей, куда распахивались и, вероятно, даже на ночь не закрывались двери квартирантов. Я сразу заметил в углу этажерку с тонкими, не раз переплетенными книгами. «Можно взглянуть?» – спросил я хозяина, который все время суетился, что-то разыскивая, выходил и входил. «Пожалуйста» – сказал он.
И вот – среди шума провинциального дома, плача ребенка, запаха стирки, животного рева водопроводного крана в одной из квартир, перебранки на идиш, очевидно, старухи-матери с уже немолодой дочерью, которая на птичьи крики старухи отвечала время от времени одним пожеланием – «Митн коп ин дер вонт» («Головой в стенку»), – я извлек небольшую книжицу с ятями и твердыми знаками – «Фридрих Ницше. К генеалогии морали».
Вошел Цванг.
– Тут у вас Ницше, – осторожно сказал я, как будто речь шла об обнаруженной бомбе, – можно ее почитать… Ну, тут у вас… Я понимаю…
– Берите домой, читайте, – просто сказал Цванг, и это для меня равносильно было расставленной западне. Я ведь впервые видел этого человека. Но понимание, что другого такого случая не будет, что это подарок судьбы, пересилило гнездившийся в костях страх.
Слабо светила настольная лампа. Жена и сын спали, и над их безмятежными лицами витал покой. Во сне их слабо пульсировала незамутненная глубь жизни. Я читал Ницше, время от времени выходя на балкон. Над аллеей, тянущейся мимо дома, в замершем воздухе летней ночи одиноко мерцал фонарь. Идущие по аллее фигуры возникали из тьмы и тут же в ней исчезали, словно таящиеся во тьме вели какую-то свою чертову игру, выпуская жертву на свет и в следующий миг заглатывая опять. Я ощущал иглу в сердце и неотступный страх за дорогих мне существ, спящих рядом.
Я понимал, почему Ницше был холост и не имел детей. Подкладывая такой динамит под сложившийся и слежавшийся мир, нельзя ставить под угрозу близких.
Первым делом следовало отыскать портрет автора, который, судя по гениальному, но абсолютно неврастеническому тексту, представлялся мне неким подобием владельца книжечки Цванга. У него и оказался портрет Ницше, увеличенный фотографическим способом, словно Цванг пытался в нем что-то усиленно рассмотреть.
К моему удивлению, с портрета на меня глядел вислоусый, пухлощекий, жовиальный толстяк, помесь Тараса Шевченко и запорожского казака с картины Репина, этакий украинско-польский крестьянин, закусывающий горилку квашеной капустой. Когда я выразил это свое удивление Цвангу, он усмехнулся, ушел в какой-то чуланчик и принес мне целую горку книжечек Ницше. Думаю, обнаружив клад с золотом, я бы не испытал такого шока.
Я понимал, что неспроста этот маленький, кажущийся таким беспомощным в своей молчаливой демонстрации собственного достоинства, еврей Цванг добывал сочинения Ницше. Я, как и он, всю жизнь испытывал унижение, связанное с моим еврейством. Мне, как и ему, не давал покоя простой, но неотступный вопрос: почему и как это немцы, в значительной степени создатели европейской философии и музыки, докатились до такой ничем не выразимой и не объяснимой чудовищности, уничтожив треть нашего народа. Имя Ницше впрямую связывалось с идеями нацизма.
Первым, что меня потрясло при чтении его книг – это его отношение к немцам и «немецкой душе». По Ницше, немец все время отчаянно мучается вопросом «Кто такой немец?» и «Что такое немецкое?»
Этот, я бы сказал, смятенный поиск идентичности был отмечен у литераторов и художников Германии задолго до Ницше. Они всегда, как черт ладана, боялись вторичности, из-за которой им не удастся стать вровень с «великим Искусством». Ведь даже одно из лучших «репрезентативных» достижений немецкого гения – перевод Лютером Библии на немецкий язык – по самой своей сути вторичен («Библия была до сих пор лучшей немецкой книгой», – говорит Ницше).
В поисках оригинального пути немецкие художники слова и кисти бросились в экспрессионизм. Но и это был, как писал немецкий философ-еврей, трагически покончивший собой с приходом нацистов, Вальтер Биньямин, отголосок эпохи барокко, в эпоху «воли к власти» обернувшийся «волей к искусству».
По Ницше «немец не есть, он становится (подчеркнуто Ницше), он развивается… Развитие… доминирующее понятие, которое в союзе с немецким пивом и немецкой музыкой стремится онемечить Европу».
Загадки этой души Гегель систематизировал, а Вагнер переложил на музыку. Оба, как мне уже было известно, весьма не любили евреев, а последний даже написал откровенно антисемитскую брошюру «Евреи в музыке».
По Ницше немецкая душа плохо переваривает события своей жизни и так называемая «немецкая глубина» чаще всего и есть только это «тяжелое, медленное «переваривание». Немец любит говорить о своей откровенности и прямодушии. Следующую цитату я переписывал с мстительным удовольствием, в ночные часы, под пение цикад в кустах под балконом, памятуя слова Мандельштама о том, что цитата есть «цикада»: звенит в ночи, а приближаешься – замолкает. Надо слушать ее издалека, тогда и обнаружится то главное, что притягивает твою иудейскую душу и поддерживает ее на поверхности текстового пространства.
«…Как удобно быть доверчивым и прямодушным! – Эта доверчивость, эта предупредительность, эта игра в открытую немецкой честности является в наше время опаснейшей и удачнейшей маскировкой, на которую способен немец – это его подлинное мефистофелевское искусство, с ним он еще может «далеко пойти»! Немец живет на авось, к тому же смотрит на все своими честными, голубыми, ничего не выражающими немецкими глазами – и иностранцы тотчас же смешивают его с его халатом!..»
«Немецкая душа» – и это с давних пор и по разному поводу отмечали разные исследователи – страдает опасным родом расщепления сознания, опасной формой маниакально-депрессивного психоза, я говорю «опасной», ибо речь не об отдельном человеке, а о многомиллионной нации, которую охватывает внезапно национальная горячка, доводящая ее до умственного расстройства. Ницше раскаивается в том, что сам, было подвергся болезни, какая приступами одурения охватывает время от времени современных ему немцев: то это «…антифранцузская глупость, то антиеврейская, то антипольская, то романтико-христианская…то тевтонская, то прусская… Я еще не встречал ни одного немца, который бы относился благосклонно к евреям…»
Это он пишет в 1885 году в книге «По ту сторону добра и зла». Ничего нет нового под небом Германии, если Фридрих Дюрренматт в 1990 году так описывает немецкое государство: «У немцев никогда не было государства, зато был миф священной империи. Немецкий патриотизм всегда был романтическим, непременно антисемитским, благочестивым и уважительным к власти» (Durrenmatt F. Sur le sentiment patriotique. Liberation. 19.4.1990).
Тем не менее, евреи Германии согласны были, за милую душу, обрести ее – эту «немецкую душу».
Их забывчивость преступала все границы преступности.
Можно было сделать вид, что забыты времена крестовых походов, когда тевтонские рыцари по пути к освобождению гроба Господня в Иерусалиме, походя, вырезали от мала до велика все еврейские общины в городах вдоль реки Рейн, а в городе Вюрцберг впервые в мире обвинили евреев в ритуальном убийстве и, естественно, устроили резню.
Можно было почесывать затылок, когда наиболее беспокойные среди евреев напоминали своим братьям конец 13-го века: по примитивному, но весьма действенному предлогу, что евреи крадут и оскверняют облатки, которые кладут в рот христианам во время причастия, как «плоть Христову», истребили 140 еврейских общин.
Но куда деть страшный 14-й век, вошедший в еврейскую память, как «век мученичества» – век банд «юденшлегеров» («убийц евреев), когда в годы «черной смерти» всех немецких евреев подхватил «черный смерч» – поголовно было уничтожено более трехсот еврейских общин. По сути, это была первая попытка воплотить идею «юденфрай» – очистить Германию от евреев – мини-Шоа.
А как быть с тем, что в конце 70-х 19-го века именно в Германии, впервые в Европе, как грибы после дождя стали расти антисемитские партии на почве арийской теории, этого «научно» оправдываемого безумия?
И здесь немецкие евреи, естественно, богатые, искали лазейки, на чем свет ругали «бородатых, пейсатых, вонючих евреев», спасающихся в Германию от погромов в Польше и России, даже создали в 1921 году «Союз национал-немецких евреев», чтобы улестить ярых немецких националистов. Они даже учредили молодежное движение «Черный флажок» и выпускали ежемесячник «Дер национальдойче юде» (Национал-немецкий еврей»). Ничего не помогало.
Ну а тут уже грянул вовсе не как гром среди ясного неба тысяча девятьсот тридцать третий.
До открытия Ницше, испытывая откровенную неприязнь к Гегелю с легкой руки Маяковского, втиснувшего его в кровавую баню гражданской войны («Мы диалектику учили не по Гегелю…»), вкупе с Фейербахом и Марксом, я все же уважительно относился к Канту с его брошенным в мир понятием «вещь в себе». За этим скрывалась какая-то заманчивая непознаваемость мира. Это также понималось, что вещь «к тебе» повернута неким зеркалом, отражает и твое любопытство, и любовь к логическим построениям. Но это ведь и очень опасно: неизвестно, что скрытая сторона вещи, то самое « в себе», выкинет. И выкинуло. Послекантовский мир взорвался бесовским «подпольем» Достоевского.
И тут я прочел у Ницше о Канте: «Этот роковой паук считался немецким философом». Я подумал о том, что это не просто паук, а паук немецкий, умеющий медленно, неутомимо плести паутину вопреки всему, чтобы поймать в нее, как муху, весь мир.
Передо мной явно маячил паучий вариант «Дойчланд юбер алес».
Но почему Ницше, нападая на христианство, говорит о том, что это хитрая выдумка евреев – гениального теоретического народа, сумевшего превратить свою ненависть к преследующему его миру в любовь, распять человека из своей среды, назвав его сыном Божьим, и этим заставив весь мир стать перед ним на колени?
Я пытался разобраться в хитросплетениях ницшеанской мысли, часто противоречащей себе самой, эмоционально скачущей с одного полюса на другой, что, кстати, позволяло использовать его как евреям, так и антисемитам. Такие евреи, как Георг Брандес и Миха Бердичевский носились с ним как с писаной торбой, воистину способствуя его всемирной славе. Евреи видели в Ницше даже собрата, непризнаваемого, одинокого, непонятного, «вечного жида». Богатые евреи считали его своим защитником.
Бросая в мир свои фрагменты (Ницше всегда фрагментарен, оставляя большие пространства для домысла и осмысливания), он отделяет иудейский Ветхий Завет от Нового Завета евреев – ранних христиан и винит апостола последних Павла в использовании «распятия» Христа с целью захватить весь мир. По вопросу завоевания мира Ницше все же, как истый немец, хотя и поляк по происхождению, разбирается неплохо.
По сути, в своем опровержении христианства Ницше стоит на позиции евреев начала новой эры, которые осознавали все то иллюзорно-вредное, что несет эта «вещь в себе», в начале своем зеркально отражающая лишь иудаизм. Такое его истолкование ощущалось неисчислимыми бедами в будущем. Эта «вещь в себе» грозила обернуться «к ним», иудеям, одиночеством в мире, одиночеством в Боге, стать достоянием массы с ее необузданными варварскими инстинктами. В этой вере, основанной на любви, было слишком много подпольной ненависти к евреям: вот же, распяли сына Божьего. Такое не могло долго держаться «непротивлением злу насилием»: это толстовское уже в младенческом своем начале ощущалось как еще одно доброе намерение по дороге в ад.
«В иудейском «Ветхом Завете», – пишет Ницше, – в этой книге о Божественной справедливости, есть люди, вещи и речи такого высокого стиля, что греческой и индийской литературе нечего сопоставить с ним. С ужасом и благоговением стоим мы перед этими чудовищными останками того, чем был некогда человек, и в нас рождаются печальные думы о древней Азии и ее выдающемся вперед островке, Европе, которой хотелось бы непременно выглядеть перед Азией в значении «прогресса человека»… Удовольствие, доставляемое Ветхим Заветом, есть пробный камень по отношению к «великому» и «малому»… Склеить этот Новый Завет, своего рода рококо вкуса во всех отношениях, в одну книгу с Ветхим Заветом и сделать из этого «Библию», «Книгу в себе», есть, быть может, величайшая смелость и самый большой «грех против духа», какой только имеет на своей совести литературная Европа».
Оклик через тысячелетия
Вообще, будучи евреем, вероятно, в отличие от людей всех других национальностей, я ощущал всю мировую литературу, философию, историю, не говоря уже о религии, с особым пристрастием обращенными лично ко мне, их удивление мною, ненависть, чаще всего несправедливую, ко мне, их ложь обо мне и редкие признания меня сквозь зубы.
Натыкаясь на всех языках в переводах Библии на свое имя – Эфраим, я вздрагивал, словно меня окликнули. Видя вывешенные под стеклом в парке газеты со списком лауреатов сталинской премии, я бросался выискивать еврейские фамилии. Естественно, с тем же усердием я выискивал в Ницше себя, еврея.
Его высказывания одновременно, как все в нем, влекли и отталкивали.
«Чем обязана Европа евреям? – пишет Ницше в книге «По ту сторону добра и зла». – Многим, хорошим и дурным, и, прежде всего тем, что является вместе и очень хорошим и очень дурным: высоким стилем в морали, грозностью и величием бесконечных требований, бесконечных наставлений, всей романтикой и возвышенностью моральных вопросов, – а, следовательно, всем, что есть самого привлекательного, самого обманчивого, самого отборного в этом переливе цветов, в этих приманках жизни, отблеском которых горит нынче небо нашей европейской культуры, ее вечернее небо, – и, быть может, угасает. Мы, артисты среди зрителей и философов, благодарны за это – евреям».
В своей предпоследней книге «Антихрист. Проклятие христианству», написанной блестящим языком, над которым уже тяготеет приближающееся затмение ума, впадающего от этого в ярость, Ницше весьма для нас любопытно честит Христа. Называет его «святым анархистом, вызвавшим на противодействие господствующему порядку низший народ, народ изгнанных и «грешников»… внутри еврейства, речами, которые, если верить Евангелию, еще и теперь могли довести до Сибири…» И вышел этот «политический преступник» из среды евреев – «этого самого замечательного народа мировой истории, потому что они, поставленные перед вопросом: быть или не быть, с внушающей ужас сознательностью предпочли быть какой бы то ни было ценою: и этой ценою было радикальное извращение всей природы, всякой естественности… Непоправимым образом обратили они по порядку религию, культ, мораль, историю, психологию в противоречие к естественным ценностям этих понятий… Христианская церковь по сравнению с «народом святых» не может претендовать на оригинальность. Евреи вместе с тем самый роковой народ всемирной истории: своими дальнейшими влияниями они настолько извратили человечество, что еще теперь христианин может чувствовать себя анти-иудеем, не понимая того, что он есть последний логический вывод иудаизма».
То, признавая себя декадентом до мозга костей, то, свирепо нападая на декаданс, Ницше считал, что «по психологической проверке еврейский народ есть народ самой упорнейшей жизненной силы; поставленный в невозможные условия, он добровольно, из глубокого и мудрого самосохранения берет сторону всех инстинктов декаданса, не потому, что они им владеют, а потому, что в них он угадал ту силу, посредством которой он сможет отстоять себя против мира…»
Читая Ницше, я ощущал самоуверенность немецких философов, выстраивающих логические цепи к истине, в любой момент готовые обернуться цепями рабства и гибели. И каждый из этих философов был похож на мальчика, уверенного, что он строит истинный дворец из кубиков, даже и, не подозревая, что другой – злой мальчик одним ударом разрушит его. Таким злым мальчиком, enfant terrible, ворвавшимся в храм немецкой классической философии, и был Ницше. Он опрокинул там не только лавки менял и располосовал всю позолоту алтаря, но и попытался добраться до купола, чтобы сорвать крест.
Вместе с ним язычество, усмиренное в иудаизме христианством, шумно вырвалось из своей «вещи в себе», и с черного хода ворвалось в храм.
С другой стороны, иудейская неуспокоенность, помноженная на давний иудейский мазохизм («подставь другую щеку»), на иудейскую самоненависть, замешанную на приобретенном немецком характере, проснулась в другом мальчике – Марксе.
Никакая «сука» его не будила (вспомним стихи Наума Коржавина: «Какая сука разбудила Ленина, кому мешало, что ребенок спал?..»).
Ох, уж эти злые не выспавшиеся детки, которые роются в песке, в надежде прокопать земной шар. Выходило, что немец еврейского происхождения Маркс более ненавидит евреев, чем немец польского происхождения Ницше. Тут мысль впрямую упиралась в вопрос: являются ли эти два злых немецких ребенка, поставившие себя «по ту сторону добра и зла», – «отцами» двух далеко не детских игр – социализма и национал-социализма? Две эти игры, научно названные «идеями, охватившими массы», выпестовали не просто двух злых детей, а настоящих ублюдков «по ту сторону добра и зла», сотворивших чудовищную «бездну Шоа-ГУЛаг» – Гитлера и Сталина.
Маркс весьма уютно чувствовал себя в уже привычной для иудейской среды самоненависти. Ницше же, прокламируя свою независимость, не избегает угрызений совести. Он говорит о себе, как о человеке, который «вступает в лабиринт… в тысячу раз увеличивает число опасностей, которые жизнь сама по себе несет с собою; из них не самая малая та, что никто не видит, как и где он заблудится, удалится от людей и будет разорван на части Минотавром совести…»
Мальчик для битья
Более того, как случайно оговорившийся обвиняемый, которому в будущем может быть предъявлен иск, Ницше пишет: «Философия сама есть тиранический инстинкт, духовная «воля к власти», к «сотворению мира»… Наши высшие прозрения должны – и обязательно! – казаться безумствами, а, смотря по обстоятельствам и преступлениями, если они запретными путями достигают слуха тех людей, которые не созданы, не предназначены для этого…»
Эти мысли не давали мне спать. Я вставал ночью, прислушиваясь к дыханию жены и сына, совсем еще мальчика, я повторял про себя часто произносимые бабушкой, которая проживала с мамой в другом городе, слова на идиш: «Гот зол олтн ойф зей ди рехтэ онт» – «Господь, простри над ними свою десницу». Само мое существование, мальчика, вброшенного в кровавый водоворот Второй мировой войны, было чудом верблюда, проскользнувшего в игольное ушко «Шоа-ГУЛага».
И, не в силах заснуть, я думал об еще одном мальчике. Еврее. Был ли мальчик? Да, но это был мальчик для битья, который в противовес другому, пошедшему на крест, пытался, согласно легенде, заткнуть пальцем отверстие в плотине. Все, идущие за распятым из века в век, улещивали, уговаривали, угрожали мальцу, требуя открыть отверстие, чтобы вся эта масса вод хлынула, смела всех, и самих уговаривающих, с пути, обернулась новым Ноевым потопом духа, освобожденного от всех узд и уз.
По библиографическим спискам к книгам Ницше можно было представить, какая масса имен с восторженным гиком кружится в водовороте прорвавшейся плотины. Потоп, захлестнувший мир двумя мировыми войнами с таким ничтожным знаковым наоборотным интервалом – 1914-1941 – в одно поколение, – еще несет на гребнях своих валов много кровавого и разрушительного, обещая человеческому роду долгую жизнь в вихре разрушения, и род этот уже даже уютно обустраивается на каких-то клочках суши в этом бушующем потопе.
Но у мальчика для битья, обладавшего мужеством пальцем сдерживать плотину, есть и своя родословная, пусть трагическая, кровавая, но спасительная для человеческого рода, как всегда убивающего своих спасителей: избранность Богом, который, по Ницше, умер. Только этим Ницше преступил черту, и никакие изыски стиля и, вероятно, бездарно переведенные на русский его стихи – прокладки в текстах, не могли оправдать того, что он произнес: Бог умер.
А Ницше тем временем веселится с клоунскими гримасами злого мальчика по поводу поисков идентичности, которую немцы, да и вся Европа, примеривают на себя, словно «костюмы» – моралей, верований, религий, политики, – и все это подобно «карнавалу большого стиля», все это ведет к «духовному масленичному смеху и веселью, к трансцендентальной высоте высшего тупоумия и аристофановского осмеяния мира», уже готовых перейти в плоскую, но смертельную, дьявольщину, в будущем.
Чутьем гениального неврастеника Ницше ощущает призрение Бога, которого он умертвил, Бога еврейских пророков. Это призрение дает ему прозрение будущего, но – в отличие от пророков – он испытывает к этому будущему – презрение.
Он предвидит воцарение посредственности и нивелировки под девизом всеобщего равенства, которое уничтожит все накопленные за века духовные ценности. Он видит наступающий ХХ-й век в жестоком свете якобы несущей Европе долгожданную свободу демократизации, которая «клонится к нарождению типа, подготовленного к рабству в самом тонком смысле слова…» Она, эта демократизация Европы «есть вместе с тем невольное мероприятие к расположению тиранов…»
А вот прямое, я бы сказал, невольное пророчество будущего нацизма: «Подразумеваю… такое усиление грозности России, которое заставило бы Европу решиться стать в равной степени грозной, то есть посредством новой господствующей над ней касты приобрести единую волю, долгую, страшную собственную волю, которая могла бы назначить себе цели на тысячелетия вперед… Грядущее столетие несет с собою борьбу за господство над всем земным шаром…»
Любопытна евгеническая идея Ницше, которую Гитлер пытался осуществить в арийском варианте. Ницше предлагает для улучшения породы немцев скрещивать прусских юнкеров с еврейками.
Изгаляясь над всеми и всем, Ницше чувствует будущее, полное ярости, ненависти, злобы масс. Более того, он словно бы предощущает «бездну Шоа», произнося слова, от которых мороз по коже: «Пусть сжалится небо над европейским разумом, если бы возникло желание выцедить из него еврейский разум». Так и видится этот разум, «цедящийся» из разбитых прикладами еврейских голов.
Ницшевская «воля к власти» сводит немцев с ума. Нет им дела до его философских изысков. Главное, он в приступе вседозволенности бросил семя – два слова не на ветер, а в благодатную немецкую почву. Слово не воробей, его не уничтожишь никакими пушками.
«Убивайте слабых!» – семя, из которого выпростался страшный чертополох – Гитлер. Но кто же эти сильные, которые должны убивать слабых? Да это та самая ненавистная Ницше чернь – лавочники, мясники, парикмахеры, провинциальные учителя, в один миг ставшие генералами, гаулейтерами, карателями, как и в Совдепии те же, дорвавшиеся до власти под лозунгом «Кто был никем, тот станет всем». Все перепуталось и уже неважно, в какой форме прорвались два кратера насилия – Шоа и ГУЛаг – уничтожения себе подобных, животного рева Истории.
Схлынет вулкан, застынет лава. И что? Возник новый мир? Да тот же, только успевший значительную свою часть превратить в кладбище, в мерзость запустения.
Воистину неисповедимы пути – не Господни – а человеческие.
Ницше писал в своей последней книге-автобиографии «Ecce Homo» («Се – человек») перед погружением в безумие, в котором пребывал более одиннадцати лет (с апоплексического удара в январе 1889 по день смерти в августе1900 года), что естественными его читателями являются русские, скандинавы и французы, что с истинной деликатностью и уважением к нему относятся евреи, а «немцы – никогда».
Ницше произнес о немцах самые унизительные слова, говоря: «Немецкий дух» – мой дурной воздух: я с трудом дышу в этой, ставшей инстинктом, нечистоплотности… которую выдает каждое слово, каждая мина немца… Слыть человеком, презирающим немцев… принадлежит даже к моей гордости… Немцы для меня невозможны…» Именно этот Ницше был подхвачен, как знамя, тоже красное, но со свастикой вместо серпа и молота, теми самыми немцами, которые, по его мнению, портят воздух.
Напрасно Ницше считал немецкую нацию безучастной, с завидным аппетитом, поглощающей всякие гасящие порыв противоположности – веру с наукой, «христианскую любовь» вместе с антисемитизмом, «волю к власти» вместе с Евангелием. Наоборот, это оказалось дьявольской смесью, которая взорвала мир и унесла десятки миллионов жизней.
Ницше хорошо знал цену немецкой Истории. В ней, говорил Ницше, «немецкое» есть аргумент, «Дойчланд юбер алес» есть принцип, германцы суть «нравственный миропорядок» в истории… Существует имперская немецкая историография, я боюсь, что существует даже антисемитская…»
Ходики отбивали время шестидесятых, приближая очередной взрыв ненависти к евреям, разразившийся Шестидневной войной, а на моем столике лежал Ницше, совсем не тот, каким я его представлял себе до чтения его книг, но все еще запретный, опасный, хранящийся в спецхранах или добываемый пиратским способом на черном книжном рынке.
Ницше, уверенный в том, что станет властителем дум ХХ-го века, должен был перевернуться в гробу, увидев себя в повелителе мух, оказавшихся более ядовитыми, чем мухи цеце, и принесших одну только смерть. Эти мухи сами не слезали с сахара, блюли свои интересы, и не колыхали их миллионные жертвы, рядом с которыми жертвоприношения древних выглядели детской забавой.
Ницше страдал острой неврастенией, но не переставал говорить о своем духовном здоровье и умственной ясности: «Среди пытки трехдневных непрерывных головных болей, сопровождавшихся мучительной рвотой со слизью, я обладал ясностью диалектика…» Но диалектику он ненавидел, считая ее симптомом декаданса. А его так и обзывали – «декадент», то есть – упадочный. Или припадочный?
По сути же, Ницше был абсолютно одинок, подобно «вечному жиду».
В молодости он боготворил Рихарда Вагнера с той же силой, с которой возненавидел его на склоне жизни. История взаимоотношений этих двух людей представляет собой удивительную драму, осью которой является обсуждаемая нами тема – евреи и немцы.
Вагнер, о котором речь пойдет в следующей части, став клятвенным антисемитом, громил евреев за «гешефтмахерство», но, по сути, сам превратил свой Байрейтский театр в доходное место. И это был плевок в лицо Ницше, в молодости посвятившему композитору восторженный панегирик «Рождение трагедии из духа музыки».
И в своей книге «Казус Вагнер» Ницше не пожалел присущей ему желчи до того, что пытался «объяснить» антисемитизм Вагнера его якобы скрытыми еврейскими корнями. Дело в том, что отчимом Вагнера (а по некоторым сплетням любовником его матери и вполне вероятно – отцом Вагнера) был актер Людвиг Гейер (по-немецки – коршун). Фамилия «Адлер» (орел) была весьма распространена среди евреев Германии. Ницше пишет: «Был ли Вагнер вообще немцем? Есть некоторые основания для такого вопроса. Трудно найти в нем какую-нибудь немецкую черту… Его натура даже противоречит тому, что до сих пор считалось немецким – не говоря уже о музыке! – Его отец был актер по фамилии Гейер. Гейер – это уже почти Адлер… Признаюсь в своем недоверии ко всему, что засвидетельствовано только самим Вагнером. У него не хватало гордости для какой-либо правды о себе. Он и в биографии… остался актером». Последний намек весьма прозрачен: это Вагнер считал евреев лживыми и хитрыми актерами, жаждущими перерядится в немцев.
Ницше очень точно угадал, кем Вагнер станет для немецких националистов, тех самых лавочников и мясников, той самой черни, раздувавшей грудь помпезностью вагнеровских шествий с барабанами и флейтами. Для Вагнера, по Ницше, нужна «дрессировка, автоматизм, «самоотречение». Ни вкуса, ни голоса, ни дарования: сцене Вагнера нужно только одно – германцы (подчеркнуто Ницше)…Определение германца: послушание и длинные ноги… Полно глубокого значения то, что появление и возвышение Вагнера совпадает во времени с возникновением «империи»… Никогда лучше не повиновались, никогда лучше не повелевали. Вагнеровские капельмейстеры в особенности достойны того века, который потомство назовет… классическим веком войны».
Примером, насколько Ницше был использован нацистами, буквально перевернувшими его с ног на голову, могут служить его три требования к театру: чтобы театр не становился господином над искусствами; чтобы актер не становился соблазнителем подлинных; чтобы музыка не становилась искусством лгать.
И я со страхом и трепетом, держась за руку отца, в раннем детстве, слежу из толпы за таким шествием румынских фашистов, «железногвардейцев», в голубых робах и колпаках, с барабанами и флейтами. Они шагают по центральной улице нашего провинциального городка, и высоко над улицей, на столбе, висит огромная тоже голубая свастика, которая в ночи вспыхивает гирляндой лампочек.
И я именно так спрашиваю отца: «Кто мы такие, эти евреи?» – мгновенно и уже на всю жизнь вовлекаясь всем своим существом в метафизическое напряжение от ожидания ответа.
Происходит это в Песах, и за четырьмя трудными вопросами, которые я, малыш, должен задавать, ощущается неудобство, ибо ничего не меняется в эту ночь, и никакая свобода не сменяет египетское рабство, и опасность погрома, и ощущение полнейшей беззащитности таится в ответах, еще более трудных, чем вопросы.
А вот притча о четырех, из которых один наивен, а другой, пожалуй, самый симпатичный, «не умеет спрашивать», – становится наиболее близкой и ощущается залогом через всю жизнь. В «умении спрашивать» выявляется сущность моего присутствия в мире. Назойливость вопрошания – черта в еврее сродни истинной страсти. И кровавая волна ответа в пространствах Европы не заставляет себя ждать.
Немецкие бомбардировщики первыми принесут ответ, пытаясь разбомбить мост через Днестр, по которому нам предстоит бежать, чтобы спастись. Последний раз гляжу через окно родительской спальни на широко раскинувшееся рекой и далью пространство, которое впервые открыло мне, младенцу, глаза. Под окном уже ждет сосед наш, сапожник Яшка Софронов, который тотчас, с нашим уходом, взломает замок и поселится в нашем доме. Тяжкое в своей преступной легкомысленности неведение гарью стоит в воздухе. Никто ничего не знает, хотя радио бубнит, не переставая. «Через несколько дней война кончится» – говорит отец, который спустя два года погибнет на этой войне. Остающиеся евреи бродят как потерянные, подобно тем, кто, снявши голову, плачет по волосам.
Мы вернемся в наш дом, который пойдет под снос перед самым нашим отъездом в Израиль в 1977, и асфальтовая дорожка приречного парка сотрет память о нем.
В 2001 году, посетив могилу матери, я приду к месту моего рождения и застыну в полнейшем потрясении. Я увижу огромный памятный камень с надписью именно в том месте, где проходила стена нашего дома с окном, через которое я впервые увидел мир. Оказывается, евреи городка были приставлены именно к этой стенке. Камень этот замкнет круг истории моей жизни в прошлом веке, неся предупреждение в третье тысячелетие.
Глава пятая
Нацистский миф
Дух музыки и раса
Два греческих слова – «mithos» и «logos».
«Митос» (по-русски «миф») означает вымысел, фикцию. «Логос» означает – понятие, законосообразность, логику. Но мало кто задумывается над тем, что в первозданности оба слова по-гречески обозначают «слово». Испокон веков в душе читателя, даже самого отчаянного скептика, подсознательно скрыта некая мистическая вера в начертанное, а позднее – напечатанное слово, и он прочитывает, как говорится, «в одну строку», с одинаковым приятием эти два абсолютно противоположных понятия.
Маятник его мысли может склоняться в сторону то одного, то другого из этих понятий, но намного чаще в сторону мифа. Логос для него скучен, миф ярок и привлекателен. Более того, создатель логики в европейской философии, автор знаменитой «Науки логики», Гегель, в сущности, является одним из самых навязчивых мифотворцев.
По какой «философской тропке» от края пропасти, «бездны Шоа-ГУЛаг», не двинешься в прошлое, по другую ее сторону уткнешься в Гегеля. Это он произнес знаменитую фразу «Бог умер», которую подхватил Ницше. Это от него через рьяного антисемита Вагнера, которого тот же Ницше назвал «наследником Гегеля» в музыке, потянулась вправо «тропка» к оголтелому германскому национализму, а влево через не менее рьяного антисемита Маркса «тропка» дотянулась до не менее оголтелого социализма с Лениносталиным во главе.
Советская власть, как любой тоталитаризм, хорошо знала цену мифа, называя национал-социалистов «фашистами», ибо слово «социализм» в первом понятии торчало как кость в горле. А о красном знамени нацистов, быть может, знали единицы, но даже заикнуться боялись, ибо одно слово при стенах, имеющих уши, означало приговор: гибель.
По сути, первым, кто занялся всерьез этими двумя понятиями – мифом и логосом, – был древнегреческий философ Платон, понимавший, к чему может привести стирание противоположностей между этим двумя понятиями. Платон, можно сказать, яростно требовал исключить мифы и связанные с ними формы искусства – как литература, музыка и театр – из воспитания гражданина полиса (государства). Миф – эта откровенная фикция, приписывающая богам все низменное в человеке – не только яд в души молодого поколения, а то демоническое пламя, которое может привести к страшной катастрофе и, в конечном счете, исчезновению Греции в провале Истории. Более того, Платон сам пытался очистить мифы от убийств, инцестов (убийство Эдипом отца и инцест с матерью), ненависти и лжи.
Платон отлично знал, как миф, эта абсолютная фикция, однако весьма пластичная, чтобы втянуть в себя особенно молодую душу, жаждущую необычного в окружающей ее скуке жизни, манит к подражанию и является наиопаснейшим инструментом идентификации. Миф, по Платону, должен быть отделен от Истории, которая обязана строится на основании логоса, чтобы служить истинным компасом для будущих поколений.
К сожалению, на протяжении тысячелетий существования человечества История так и не смогла очиститься от мифологии, которая как злокачественное заболевание, не раз приводила ту или иную нацию на грань уничтожения, а в середине прошлого века чуть не поставила на эту грань все человечество. Даже сегодня все постулаты Истории заражены мифологией.
Трудно сказать, есть ли вообще надежда заново осмыслить Историю, очистив ее от мифов.
В этом смысле предъявляемый ей иск в большей степени может оказаться «гласом вопиющего в пустыне». Но попытаться хотя бы открыть самому себе глаза человечество обязано.
То, что способен вытворить миф, взятый за основу политики, причем, в самом грубом неприкрытом виде, мы можем лишь потрясенно наблюдать сегодня вокруг себя.
Самый отработанный, плодотворный, безотказно действующий в массе в течение тысячелетий миф основан на ненависти к евреям. Все, что создано еврейским гением, присваивается другими нациями и обращается против самих евреев с такой откровенной наглостью, что впору остолбенеть, глядя в светящиеся святой наивностью глаза этих духовных воров.
Древний Египет, вошедший в сознание Запада через Ветхий завет с Исходом евреев, присвоен современным арабским Египтом, уверенным, что именно он является прямым наследником строителей египетских пирамид. Саддам Хусейн присвоив наследие Вавилона, видел себя преемником Навуходоносора, угнавшего в плен евреев, и надеялся, как тот, взять Иерусалим.
Арафат в телевизионном интервью, глазом не моргнув, объявляет праотца Авраама (3000 лет назад названного «Авраам аиври» – «евреем Авраамом») арабом-палестинцем: «Верьте мне, я точно знаю». Впавший в шок интервьюер застывает с открытым ртом, как и вся Европа, смиряясь с творимой на глазах еще одной легендой из «Тысячи и одной ночи».
Результат воспитания на примитивной, но весьма действенной смеси мифов мы видим у наших соседей. В этой смеси замешаны легенды о рае и семидесяти девственницах для самоубийц во имя политической идеи, традиции арабских «камикадзе», протоколы сионских мудрецов, и все это скрепляется цементом высшей марки – звериной ненавистью к евреям. На этом построена вся их система образования (если это можно назвать системой).
Это, пожалуй, второй раз в истории человечества, после Третьего рейха, когда в систему образования от дошкольного до университетского и во всепроникающую пропаганду так откровенно – на глазах всего Запада – внедряется антисемитизм.
Правда, у немцев это происходило на более тонком «философско-эстетическом», а главное, «музыкальном» уровне.
Немцы – большие любители Истории. С присущей их характеру дотошностью они выискивали в греческой и римской истории любую мельчайшую деталь, кажущуюся им подобной событиям их собственной истории.
Поиски тождества, ностальгическое копание в прошлом – дело весьма опасное. Вся романтическая тоска средневековья в германской, а скорее, тевтонской интерпретации, с, казалось бы, таким «высоким» рыцарским кодексом, погнавшим их освобождать гроб Господень, вылилась в кровавые крестовые походы.
Вообще, каждый из нас, вглядывающийся в прошлое, положим, в фотографии 50-70-х годов ушедшего века с их жесткостью, равнодушием, душевной черствостью, неожиданно ощущает себя втянутым в некий поток ностальгии, повитый сумерками молодости.
Застоявшееся вино прожитых лет Истории – напиток опасный.
Великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете, названный выдающимся французским поэтом Полем Валери «наименее сумасшедшим из людей», Гете, который, кстати, тоже не избежал заимствований, впрямую взяв прологом к «Фаусту» разговор Бога с сатаной из библейской книги Иова, с явно наигранной веселостью, скрывающей тоску по прожитой жизни, заметил: «У меня громадное преимущество благодаря тому, что я родился в такую эпоху, когда имели место величайшие события мировой истории. Они не прекращались в течение всей моей долгой жизни, так что я живой свидетель Семилетней войны, отпадения Америки от Англии, затем Французской революции и, наконец, всей наполеоновской эпохи вплоть до гибели героя и последующих событий».
Но Гете, чувствуя опасную фальшь этой тоски, говорит об Истории, как «самом абсурде, неблагодарнейшей и опаснейшей специальности», о том, что «нет никакого прошлого, по которому бы следовало томиться, есть только вечно-настоящее, образующееся из расширенных элементов прошлого, и подлинное томление должно быть продуктивным, чтобы созидать нечто новое и лучшее». Немцы предпочли не прислушиваться к Гете, вообще не видеть в нем философа, а отнести в разряд писателей и естествоиспытателей. Немцы остались верны своему характеру, в котором весьма парадоксальным образом смесь романтики и сентиментальности педантично укладывалась в диалектически расчисленный Гегелем мир. Вся жизнь Гегеля прошла перед Гете. Гегель был на двадцать лет моложе Гете. «Олимпиец» пережил философа на один год. Не знаю, оказавшись свидетелем немецкой истории ХХ-го века, которая завела нацию в бездну, мог ли бы Гете повторить слова о «громадном преимуществе» своей жизни. Так или иначе, немецкая философская мысль открыто боролась с Платоном, вплоть до Хайдеггера, заявившего, что «разум (логос), столь прославляемый из века в век, является злейшим врагом мысли», а «история в своем истоке восходит не к науке, а к мифологии». Отрицая объективность Гете, увлекаемая Гегелем, затем Шопенгауэром на поиски субъекта – своего немецкого «я», эта философская мысль, старающаяся, насколько это можно, быть честной перед собой, ощущала опасные симптомы расщепления сознания. В одну сторону это сознание тянул путь, четко выстраиваемый диалектикой и логикой, разрешающий противоречия в единстве противоположностей. Проложенный Гегелем, этот путь льстил величию немецкой мысли. С другой стороны, Гегель слишком увлекался Руссо, еще в студенчестве он испещрял листки альбома лозунгами типа «Да здравствует Жан-Жак!», «Смерть политическим чудовищам, которые претендуют на абсолютную власть!» От Гегеля нить разматывал Маркс, желая осчастливить весь мир коммунистическим манифестом. Это само по себе умаляло противоположную тягу немцев к национальному германскому духу и всегда таимой в изгибах немецкой философской мысли мегаломании, уверенной, что ей, этой мысли, назначено, благодаря своей мощи, властвовать над миром. Правда, тот же Гегель намекал в своей «Эстетике» на иной, эстетический путь национальной идентификации. И тут возник и подхватил эту идею Рихард Вагнер. Тогда еще невозможно было представить, что два этих разнонаправленных пути, шизофренически раздваивающие немецкое сознание, приведут к одинаково гибельным последствиям в центре и на востоке Европы. Вагнер оказался именно тем, что искал германский национальный дух. Во-первых, Вагнер выразил этот дух в своих музыкальных драмах, по старой традиции называемых операми. Во-вторых, Вагнер прямо заявил, что миф, в отличие от истории, требующей бескрылого подчинения фактам, «высвобождает» дух из-под тирании истории. Миф безграничен, туманно таинственен, как художественный идеал греков, который он, Вагнер, прививает к стволу немецкого искусства, стремясь к синтезу, провозглашенному Гете. Да, современники Вагнера Россини и Сен-Санс вдохновлялись древнееврейскими темами. Первый написал оперу о Моисее в Египте, второй – оперу «Самсон и Далила». Вагнер же был неисправимым приверженцем германского духа. Но не менее главным в судьбе Вагнера было то, что, всегда мечтавший о роскоши, он почти всю жизнь был одолеваем кредиторами, все время пускался от них в бега, как герой его оперы «Летучий голландец», как вечный жид. В этой борьбе за существование он надорвал здоровье, был, подобно Ницше, подвержен неврастении. Главным, я бы сказал, знаковым врагом его стал французский преуспевающий композитор еврей Джакомо Мейербер (Яков Либман Бер, сын берлинского банкира), тот самый Мейербер, который помог Вагнеру поставить в Дрездене оперы «Летучий голландец» и «Риенци». Но Париж не принимал Вагнера и он считал, что это происходит из-за козней торгаша от искусства Мейербера, являющегося олицетворением упадка, который несут в музыку евреи. Так, по выражению Вагнера, «коммерсант» от музыки Мейеребер стал главным героем вагнеровской книги об иудейском духе в музыке – «Евреи в музыке». Вагнер выражал глубокое презрение к музыке Мейербера и олицетворяемому этой музыкой Парижу, который не принял его и пробудил в нем непримиримую ненависть к строю, как он считал, основанному на власти денег. Вагнер открыто признавал, что именно эта ненависть стала непосредственным источником цикла его опер «Кольца Нибелунга».
Когда в 1870 году разразилась франко-прусская война и французы капитулировали, злорадству Вагнера не было предела. Считая себя в одинаковой степени литератором и композитором, он пишет в отмщение за свои мытарства в Париже статью «Капитуляция, комедия в античном духе» и сочиняет в честь победы Германии «Кайзермарш».
Ирония судьбы состоит в том, что два гениальных композитора-еврея, два представителя того народа, которому Вагнер отказывал во всяких творческих возможностях, – Густав Малер и Арнольд Шенберг – стали продолжателями вагнерианства в музыке. Последний, создатель двенадцатитонной музыкальной системы, «додекафонии», напишет в противовес вагнеровскому «Парсифалю» оперу «Моисей и Аарон».
Нацизм сделает Вагнера своим знаменем. Гитлер окружит его имя ореолом пророка национал-социалистической идеи, будет присутствовать на всех открытиях сезонов в Байрейтском театре, назовет оборонительную линию укреплений именем героя оперы Вагнера – Зигфрида, прикажет играть музыку Вагнера в лагерях смерти.
Но мы забежали вперед.
Вернемся в последнюю треть ХIХ-го века. Продолжает собирать кровавую жатву франко-прусская война. Время бесстрастно отмечает даты и места рождений и смертей. В том же 1870-м в дремучей, дремлющей глуби России рождается мальчик Владимир. Через 9 лет в городишке Гори, заброшенном в горах Кавказа, рождается мальчик Иосиф.
В 1881-м начинается невиданная доселе массовая еврейская эмиграция. Два с половиной миллиона евреев бегут от погромов из России, Галиции (Австро-Венгрия), Румынии, бегут, главным образом, в США, где в те годы вообще не существовало никаких административных ограничений, в Канаду, в Аргентину, в Эрец-Исраэль.
Через два года, в 1883-м, в Лондоне умирает Маркс, в Венеции – Вагнер. Порожденные ими два призрака – мировой коммунизм и германский национализм – продолжают, подобно привидению, Провидению, бродить и бредить в пространствах Европы.
Ничем не обоснованная, но весьма привлекательная для европейцев расовая теория, которую усиленно поддерживал властитель дум европейской интеллигенции 18-го века Вольтер, считавший черного человека промежуточным звеном между белым человеком и человекообразной обезьяной, а к евреям вообще относившийся с большой нелюбовью, обретает новую силу благодаря открытию индоевропейских языков. Весьма приблизительная наука филология захватывает умы европейцев, издавна зараженных шовинизмом. Умы эти легко подаются влиянию всякой ни на чем не основанной, но кажущейся им «выстроенной», концепции. Они с восторгом, под звуки бетховенской 9-ой симфонии, «обнимаются миллионами» в названной той же филологией «арийской» – европейской семье народов. Они с презрением относят чужеродных евреев к низшей афроазийской, семито-хамитской семье языков и, естественно, народов. В 1889-м, в австрийском городке Браунау рождается мальчик Адольф, через три года, в 1893-м, в городе Ревеле (ныне Таллинн) в семье обрусевшего остзейского немца сапожника Розенберга рождается мальчик Альфред. В 1900 году умирает Ницше.
Под мирную пальбу взлетающих пробок шампанского, радуясь надеждам на светлое будущее, пугаясь апокалиптических предсказаний конца времен (уже ставшего традиционным «фин де сьекль»), двадцатый век вступает в мир.
Между тем, под внешним, пасторально-пресным благолепием, успехами просвещения и точных наук (в 1905 году Альберт Эйнштейн в Берне открывает частную теорию относительности) в европейских массах подземно бурлят косные вулканические страсти ксенофобии и национальной спеси.
В многовековой памяти этих масс, подобно слежавшемуся перегною, цепко держатся веселые кровавые гульбища – избиения евреев (Христа нашего распяли, гады!), время от времени прокатывавшиеся по Европе от края до края.
Едва проступающая, но уже ощутимая трещина разлома проходит по ломаной линии столкновения тех самых двух призраков, наливающихся реальной силой – коммунизма и национализма, – пересекая Европу с запада на восток и с севера на юг.
Велика и неизбывна вина европейских гуманитариев и представителей неточных наук, таких, как история и биология. Всякие псевдонаучные теории, не подпираемые никакими фактами, а лишь безумием выдать желаемое за действительное, швыряются учеными – филологами, историками, биологами, – в массы, вызывая кровожадный восторг и бурные рукоплескания.
В атмосфере ксенофобии и шовинизма нет ничего более замечательного, чем перенести такую тогда стройную, а ныне с большим числом прорех, теорию Дарвина о происхождении и борьбе видов на человеческое общество, подкрепляя это «открытие» такими авторитетами, как Карл Линней и Герберт Спенсер. Восторгу нет предела.
Расовая теория, спарившись с шовинизмом и ксенофобией, рождает антисемитизм с неведомой со времен крестовых походов силой. Совершенно открыто, не стыдясь собственного озверения, по всей Европе возникают антисемитские движения и партии.
Кровь евреев разрешена к пролитию
Эта взрывчатая смесь, названная расовой теорией, с успехом заменяет христианские кровавые наветы, как бы уже поднаторевшие и не столь убедительные в стремительно катящейся к атеизму Европе.
Теперь у всех есть «научно» обоснованная расовая теория.
Молниеносный разлом раскалывает блестящую, как паркет, льдину кажущегося благополучия и благолепия Европы. Гром среди ясного неба.
Пораженная Европа проваливается во все расширяющуюся полынью Первой мировой войны.
Через несколько лет война худо-бедно завершится, но Европе уже не выбраться из той полыньи, из этого все более затягивающего смертельного водоворота.
После поражения и унижения, в германской среде, в которой издавна особенно прочны и, даже можно сказать, незыблемы антисемитские настроения, нужен лишь толчок для кристаллизации этого национального, пусть ущербного, но весьма сильного инстинкта.
Нужен субъект. Не элитарный «сверхчеловек» пророчеств Ницше, а «народный, нутряной» человечек.
Жестокий, как массы в момент погрома.
В общем, тот еще «субъект».
Пушкинские слова о том, что нет ничего страшнее русского бунта, бессмысленного и беспощадного, закономерны для всех времен и всех народов. Однако немцы вносят в этот чудовищный феномен свойственную им педантичность.
Свято место пусто не бывает. Является Адольф Гитлер.
Вчера еще тайный агент (вслушайтесь только) «подразделения пропаганды и политической слежки», отброс общества, сегодня (5 января 1919 года) основывает немецкую рабочую партию. Отброс отбросом, но ведь – знаток в пропаганде. Времена новые. Всем известно, что ключ к воспитанию молодого поколения – в пропаганде. Немецкие «рабочие», а точнее, мелкие бюргеры, в основном, мясники, мастера по закалыванию и рубке любой живности, и бакалейщики, с восторгом внимают своему новому божку, уже объявившему себя фюрером. В ноябре 1923, в Мюнхене, они встречают его чоканьем пивных кружек, ревом луженых глоток над лужами пролитого пива, в пьяном угаре, на грани всеобщего напряга перед мочеиспусканием.
Правда, время их еще не наступило. В Германии все еще какая-то, но – демократия. «Пивной путч» разогнан. Гитлера приговаривают к пяти годам тюрьмы, из которой он выходит через девять месяцев. Можно представить, как действует на сентиментальное немецкое сердце мелкого буржуа картинка, вышиваемая фрау на кухонном полотенце: Гитлер в тюрьме пишет книгу своей жизни – «Майн кампф» («Моя борьба»). Вспоминается циничная шутка, гулявшая в литературной Москве 70-х годов: Ленин в подполье писал книги грудным молоком Надежды Константиновны.
Гитлеру нечего скрываться в подполье. В Германия демократия. Гитлер выходит из тюрьмы. Книга его выходит в свет. Она заменяет массе блаженно проглатываемую церковную облатку. Она ширит паству, вступающую в новую – национал-социалистическую церковь.
Проснуться насекомым
Еще в Мюнхене, слывущий «интеллектуалом» среди «партайгеноссе», расслабленных пивом, только вернувшийся из Петербурга Альфред Розенберг рассказывает жуткие истории о русской революции, которую совершили евреи: в правительстве новой России можно без труда составить еврейский миньян, ибо даже у Ленина еврейские корни, только он тщательно это скрывает. Ему, Розенбергу, это говорили истинные русские интеллигенты, с которыми он был в приятельских отношениях, Блок и Мережковский.
Он, Розенберг, даже был членом Пролеткульта, чтобы убедиться в преимуществе арийского культа.
Именно оттуда, из России, он вынес окончательно оформившиеся убеждения: еврейство – это фундаментальное зло мира, и во благо этого мира его следует вырвать с корнем. Рассказы Розенберга вызывают истинный ужас на лицах слабонервных «партайгеноссе», этих будущих головорезов.
Книга Гитлера «Майн Кампф» выходит в свет в 1927 году. Розенберг в 1929 году основывает «Союз борьбы за немецкую культуру», а в 1930 году публикует книгу «Миф ХХ-го века», как бы «философски» толкующую книгу Гитлера и вместе с книгой фюрера составившую поистине катехизис национал-социализма.
После прихода Гитлера к власти в 1933, через год выходит 42-ое издание книги «Майн Кампф» ставшей обязательной для всеобщего чтения. Тираж ее в 1934 достигает 203 тысяч экземпляров, а в 1936 – со 184-м изданием – 2 миллионов 290 тысяч.
Если при чтении Гитлера невозможно отделаться от звуков его лающей речи, надолго отбившей у многих желание читать по-немецки, Розенберг более «авторитетно» разыгрывает этакого позитивиста, «научно» обосновывающего словесные нагромождения фюрера, постепенно вызывая в эмоциональной немецкой душе доселе непривычный, и потому особенно действующий вид устойчивой истерии.
Гитлер не удосуживает себя доказательствами, но зато предельно откровенен.
Имеющий уши да услышит: вовсе не случайно евреев избивают в Европе вот уже две тысячи лет. Душа европейца, да и вообще человека мира, больна «евреем», и единственное излечение от этой болезни – хирургическое. Все погромы были спонтанными взрывами «эмоционального антисемитизма», попытками утишить эту болезнь.
Тут мифотворец Гитлер и не замечает, что неожиданно обращается к ненавистному самой идее национал-социализма «логосу»: необходимо перейти к «рациональному антисемитизму». Другими словами, хладнокровно, с немецкой дотошностью и верностью поставленной цели, довести дело до конца: реально (нет ничего более реального, чем смерть) освободить Европу, а затем и весь мир, от евреев. И он, Гитлер, чувствуя в себе великие силы, и станет освободителем мира от этой болезни, он, ариец, во плоти и крови, выпустит дурную кровь, раз и навсегда излечит мир от этой злокачественной болезни.
Идеи еврея Маркса, подхваченные его нацией, являются воистину апокалиптическим выражением стремления евреев к мировому господству, и только он, Гитлер, подобно Георгию-Победоносцу, выходит один на один на борьбу с этим миллионоголовым змием.
Крайней, леденящей душу формой этой жажды мирового господства является сотворенный евреями большевизм. Еврейские священные книги и еврейская религия не столь опасны, как яд, накопленный этой низменной расой, которым она со змеиной ползучестью, добравшись до здорового сердца народов мира, отравит его, лишит его сил, обернет эти силы в прах. «Отречемся от старого мира» – это всего лишь дымовая завеса. Истина во второй строке – «Отряхнем его прах c наших ног».
Старый мир и так уже не существует. Речь идет о новом мире. Новом порядке. Но его, под руководством фюрера, принесет миру новая Германия, истинная защитница «арийских» народов.
Положим, русские евреи, с безумной радостью вырвавшиеся в революцию из черты оседлости, и взаправду уверенные, что эта революция совершена ими и, в первую очередь, для них, не особенно прислушиваются к словам этого маньяка. Слишком поздно они поймут, что их свои же «товарищи» просчитали, и насколько они, евреи, просчитались.
Евреи Галиции, Польши, Румынии, в тысячах местечек и городков, ведущие религиозный образ жизни, мозолят глаза и души окружающих аборигенов своими капотами, пейсами, шляпами, носками, бормотанием своих молитв еще по пути к синагоге. Они вообще не очень понимают, о чем говорит на немецком, кажущемся им испорченным идиш, этот «мешугэ».
Но немецкие евреи-то слышат и понимают отлично каждое слово, каждый всхлип фюрера. Они что, не верят своим ушам? О да, они ведь считают себя истинными немцами, вносящими такой большой вклад в германскую культуру, что позволяет им верить в «высокий немецкий разум», а не в кликушеские речи этого человека, самого себя назначившего фюрером. И вообще, их вклад в культуру и экономическое развитие Германии позволяет им с той же, заимствованной у немцев, спесью относится, положим, к «остюде», восточным евреям, к которым, по их мнению, и главным образом, обращены постулаты и посулы Гитлера. Все эти евреи – галицийские, польские, румынские – неопрятны, бородаты, пейсаты, отсталы, нищи, потому что не любят работать, суетливы, потому что надо же как-то прокормить свои семьи, говорят на идиш, на этом испорченном мертвыми древнееврейскими словами немецком.
Они и вправду вызывают неприязнь, переходящую в ненависть.
Разве нам сегодня, положа руку на сердце, в нашем еврейском государстве, не знакома эта неприязнь, а иногда и ненависть?
Однако вскоре все станет на свои места, все станут на свои места – в одной очереди – и немецкие евреи-спесивцы, и польско-румынский еврейский люд, и русские евреи, которых немцы будут сплошь называть «большевиками и комиссарами», – в огненную печь.
«Интеллектуал» Альфред Розенберг пытается мифически и мистически растолковать «политические» толкования фюрера. Его вовсе не интересуют старые мифы, будь то греческие или древнегерманские, весь этот отработанный хлам. Его интересует сотворение, внутренняя демоническая энергия нового национал-социалистического мифа.
Его интересует именно то, что так пугало Платона – мифический яд, отравляющий души молодого поколения и действительно стерший Грецию с мировой исторической арены. Но что, Платон, действовавший в греческих на смех государствах – маленьких полисах.
Немецкая нация мощна и велика. Души немецкой молодежи, дремлющие до сих пор, жаждут этой демонической энергии мифа, способной взорвать и преобразить весь мир на «великий» германский лад. Розенберг не просто надеется, а уверен, с истинно немецкой спесью, что на этот раз, в отличие от древней Греции, кривая вывезет.
Ладонь германского юноши, взметенная в жесте «Хайль Гитлер», подобно ножу, рассечет мягкотелость либеральных народов, главным образом, англичан и американцев. Русских Розенберг знает лучше всех: эти рождены быть рабами.
Но, прежде всего, необходимо освободиться от евреев, чтоб германские юноши могли глубоко дышать ставшим свежим воздухом, справляя свою великую нужду создания нового мира под лозунгом «Дойчланд юбер алес».
Розенберг использует для сотворения нацистского мифа Канта, Гегеля, но, главным образом, примеряет одного к другому и примиряет Вагнера с Ницше, для этого ставя последнего на голову. Розенберг имеет в виду сотворение нового мифа, нового мира, в котором История строит сама себя как завершенное произведение, а в нем немецкий народ и Германия также выступают, как завершенные произведения искусства.
Запомним это, ибо именно за это французские постструктуралисты предъявят иск «нацистскому мифу».
Мог ли Розенберг представить себе хотя бы нам миг в 1943 году, находясь на вершине своей политической карьеры, на вершине власти, что всего через каких-то жалких два года он станет падалью, вздернутой на петлю по приговору Нюрнбергского международного трибунала?
Но вернемся к творимой Гитлером и его верным клевретом Розенбергом новой мифологии.
В 2001 году я писал роман «Пустыня внемлет Богу», посвященный жизни пророка Моисея. Представляя себе его воспитание в молодые годы, когда он был египетским принцем Месу, я пытался понять, как учителя его, египетские жрецы, объясняют возникновение и существование богов, и, главное, божественную силу владыки земли и неба – фараона.
Готовясь писать эту работу – «Иск Истории», я, как говорится, пролистал Розенберга, ибо читать его подряд сегодня невозможно.
Я был удивлен тем, насколько совпадают постулаты Розенберга с красочными доводами египетских жрецов, представляемые мной на основании моего опыта жизни в нашем прошлом тоталитаризме.
«Великий жрец», названный мной Аненом, обрисовывает царским принцам пантеон богов. Этот жрец – «…крупный наголо бритый мужчина… с несколько выпуклыми глазами и узкими, как лезвие, губами, выражающими скрытое тщеславие и жесткую уверенность в том, что его недостаточно возвеличивают, хотя, услышав его низкий хрипловатый голос, юноши широко раскрывают глаза и рты, ловя каждое его слово.
– Итак, – говорит Анен, – вступаем в пантеон богов, хранителей нашей прекрасной Кемет. Срисовываем их тщательно, ибо они концентрируют в себе жизненную силу. Само очертание и знание их держит в себе эту силу… Сочетание разных, иногда несовместимых элементов зримого образа того или иного бога может показаться произвольным. Но именно в этом скрыта великая логика богов. Она могла открыться на миг древнему жрецу-одиночке, чтобы стать достоянием всей нации на века. Как это открывается? Естественно, не впрямую. Пример: вы всматриваетесь в стоячее зеркало воды и постепенно, сами того не замечая, отключаетесь от окружающей среды. Вы погружаетесь в себя… Но миг – и мысль возникла как озарение: вода – это темное и в то же время незамутненное зеркало души. Так и древнего жреца коснулся божественный жезл. Или на глазах его распустился цветок лотоса. Энергия личности жреца достигла уровня бога, и тот раскрылся ему, какой он есть, и таким вошел в пантеон нации. Личностное – вот писцовое перо нашего сознания и души».
На миг пригрезившийся жрецу бог становится вечным образом. Слова «греза» и «образ» не сходят с уст Розенберга при описании силы мифа. Только безоговорочная вера в пригрезившийся образ (фигуру) вынесет в мир внутреннюю энергию мифа, освободив для этой энергии жаждущую душу. «Свобода души – это Gestalt», – произносит Розенберг любимое слово Хайдеггера, которое в русских философских текстах последнего переводится как «постав» (образ, форма, фигура). «Постав», по Розенбергу, «всегда пластически ограничен… Это ограничение обусловлено расой». И чем раса более велика, тем ее «постав» более гениален, грандиозен. Ясно, что речь идет о расе германской – высшем достижении арийцев.
Тут, на этой высокой ноте, вступает кликушески Гитлер: может ли эта высшая раса смириться с тем, что рядом существует даже не раса, а низкий тип людей, даже не тип, а антитип, сам себе подписавший приговор своей неполноценностью, ибо нет у этого типа своей культуры. Даже религию свою – монотеизм – они, евреи, украли у предшественников. Нет у них «постава», они бесформенны.
Розенберг расширяет «антропологические» рассуждения Гитлера о евреях: они, евреи, даже не антиподы немцев, они даже не тип, а «отсутствие типа», некое изводящее здоровую немецкую душу «противоречие», черная в ней дыра, ноль, самое ужасное выражение того самого Ничто, о котором с такой глубокомысленностью разглагольствует вся немецкая классическая философия.
Но истинно новому мифу недостаточно этого разглагольствования. Он, по Розенбергу, должен «проживаться», разворачиваясь «действием», мистерией.
«…Царские отпрыски вместе с великим Аненом плывут на корабле по ночному Нилу к храму бога богов Амона-Ра. Два берега – два сплошных потока факелов. Все это стесняет восторгом и страхом души будущих властителей Египта, «вызывает слезы, когда внезапно, подобно тем же факелам, перекатываясь вдоль берегов и по водам, несется: «Великому посланнику Амона-Ра Анену и царственным ученикам его – сл-а-а-а-ва!»…
– Ла-ава-а!.. Лаа-ва-а!..
И вправду подобны лаве огненной факелы, взметаемые сжатыми кулаками тысячей тысяч юношей и девушек…
Великий Анен в дымных облаках воскурений чудится парящим в воздухе. Он не только огромен, громом звучит его голос… – Клянемся великой клятвой!..
– Клят!.. Кля-я-ят!..
Смятые собственной беспомощностью, смятенные, сметенные миллионоголосым ураганом, ученики как зачарованные не отрывают глаз от великого учителя, и в глазах их тлеет, как в лампадах, смесь восторга и подавленности. Это и есть мистерия в высшем своем выражении, думает Месу, вспоминая урок великого Анена о мистериях: они требуют упражнения разума, интуиции, воли, ибо это вовсе не мистические фантомы и не сухое обучение. Это – сотворение в нас души собственными ее силами.
– Чужеземцы, принятые нами по широте души нашей, – гремит голос Анена, благодаря акустике как бы несущийся с небес, – спасенные нам от голодной смерти, спят и видят исполнение страшных пророчеств… Они не верят в наших богов, противопоставляя им какое-то варварское, невразумительное божество. Да, они прозябают, само их отрицание наших богов доказывает, что боги наши их и лишили разума. Но они хитры и мстительны, они несут внутреннюю угрозу нашей прекрасной Кемет. Настанет день, придет конец нашему терпению, и наши мечи и копья понесут им наше проклятье!..
– Клять!.. Кля-я-ть!..»
У Розенберга именно так пробуждается могущество мифа, чей неудержимый поток сметает с пути слабо укрепленные плотины философии, филологии, демократии, христианской веры, давно уже обескровленной ее собственными «еврейскими» корнями. Все это давно утратило чувство расы, то есть мифа, чей застоявшийся поток, прорвавшись, заливает мир. Жизнь расы, народа, по Розенбергу, «не сводится к логично развивающейся философии или к процессу развития согласно законам природы, это формообразование некоего мистического синтеза». И потому реальное проживание сотворенного мифа должно быть обставлено символами – морем знамен и факелов, униформой, жестами, печатаньем шага в непрекращающемся оргазме парадов и массовых церемоний. Символика не есть лишь знак отличия. Это – осуществление грезы, заложенной в мифе.
…Царских принцев вводят в глубь пирамиды, из тьмы которой доносится слабый, но узнаваемый голос их «отца» – голос повелителя земли и неба: «…Дети мои, во имя всех нас и мира живого сошел я в мир мертвых… И услышал я голос: «…путь в страну мертвых открыт, сходи же!» Солнечная печать высветила вход, сознание и дух мой изменились, и я начал сходить в покои смерти, во внутреннюю нашу отчизну, сбрасывая, как цепи, все физические и символические связи с этим миром. Словно бы кто-то громом нашептывал мне: «Долой разум, да здравствует интуиция, да освятятся хлеб и вода, да прольется кровь жертвы!»… В полном безмолвии стояли они, великие наши предки, но за ними темной глубью бесконечного стоял некий смысл, захватывающий их и меня целиком… И рядом распахнуто дышала бездна изменения, обновления, посвящения, полного превращения в бога.
…Вседозволенность ослепительным крылом опахнула меня.
Отныне гибель людей во имя бога Амона-Ра – священна.
Уничтожение врагов, даже если они младенцы – священно.
Очищение расы и крови от чужеземной примеси – священно.
«Велика опасность чужеземцев, – шептал мне все тот же голос, – особенно хабиру-ибрим-евреев с их невидимым богом, воздающим за грехи. Это подобно яду ослабляет глубину веры нашей в священность животных, деревьев, почвы, трав, природы. Они враги наши, ибо не живут естественным инстинктом, а на наших богов смотрят свысока, хотя сами прозябают в нищете и грязи, а значит, и в зависти тайной и жадном желании паразитировать на нас и обкрадывать».
И после этого, обновленный и возрожденный, начал я читать главу «Восхождение к свету» из «Книги мертвых», чувствуя, как с каждым словом возвращается ко мне жизненная сила…»
С этими словами вспыхнули факелы по углам гробницы… Витающий, как сомнамбула, Месу видит… в дымке сверкающее золотом кресло рядом с гробницей, а в нем старичка, довольно хилого телом и бледного лицом, в одной набедренной повязке и плате, вероятно, прикрывающем лысину. Показалось даже, что одна рука короче другой и скрючены, будто срослись, пальцы ног. Но у входа вострубили трубы, слабо доносясь в глубь камня, как сквозь слой воды… Пошла прислуга, и по мере ее прибывания усталый старичок начинает меняться на глазах… Наносят грим, обряжают в золото и бриллианты…И вот он, воистину наместник бога Амона-Ра на земле, восходит к выходу…Трубы возвещают морю волнующегося люда выход повелителя поднебесной страны Кемет… из мира мертвых… Слышен кашель людей, почти потерявших дыхание, шарканье переступающих, подламывающихся от долгого стояния ног.
Но поднятый на высоты... сверкает причастностью к богам наместник Амона-Ра на земле, покрывая своим сиянием все человеческие немощи, и глаза Месу отказываются верить, что увиденный им в мерцающей удушливой мгле старичок и этот всесильный земной бог – одно и то же существо».
По Розенбергу нацистский миф, раса, народ держатся на крови и почве(Blut und Boden). И тут неожиданно приходят на ум строки Пастернака: «Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство, и дышат почва и судьба».
Почва по Розенбергу, естественно, природа Германии, а кровь немцев – арийская, которую Розенберг возводит к Атлантиде. Ариец не просто тип среди типов. Это – архетип, который сам себя грезит и сам себя воплощает. Ариец – основоположник цивилизации, обладающий волей к форме, «волением формировать». Начиная с греков, искусство является само по себе религией. И это не «искусство для искусства», а «органическое искусство, порождающее жизнь». Тут вступает своим аккомпанементом любимый Гитлером и Розенбергом Вагнер, несущий понимание жизни как искусства – тела народа и государства как произведения, свершившихся форм воли, завершенных идентификаций пригрезившегося образа.
Сама логика нацистского мифа выступает как его самоосуществление, более того – это является самоосуществлением цивилизации вообще, но в строгой форме германского национал-социализма, истинном и однозначном понимании – «Дойчланд юбер алес». Достоверность этого не подлежит никакому сомнению, никакой критике. У Розенберга сплошь и рядом все «достоверно».
На следующее утро после триумфальной ночи Гитлера, пришедшего к власти, еврей Европы проснулся Грегором Замзой из повести Кафки «Превращение»: «…Проснувшись… после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно-твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами. «Что со мной случилось?» – подумал он. Это не было сном…».
Близился конец Третьего рейха, но нацистская машина, уже зависнув над пропастью, продолжала вовсю вертеть своими колесами, ножами, шестеренками – поезда с евреями продолжали катить свои колеса в лагеря смерти, исправно работали крематории, превращая души евреев в дым. Приводящие эти печи в действие с исправным любопытством поглядывали в глазок, следя за тем, как человеческие существа мгновенно и ярко вспыхивали, превращаясь в горсть пепла.
В рейхсканцелярии фюрера офицеры, определяя какой район Берлина занят русскими, играли в необычную русскую рулетку, основанную на инстинкте человека при телефонном звонке хватать трубку. Офицеры звонили по домашним адресам и, услышав русскую речь, отбрасывали, словно обжигаясь, трубку.
Близился конец самого чудовищного в человечестве преступления, за который свою немалую долю вины несли европейская философия, филология, биология и, в первую очередь, политическая История.
И уже совсем обезумевший параноик, сам похожий на насекомое Грегора Замзу из повести Кафки, но все еще верящий, что он «великий диктатор», диктовал последнюю страницу этого преступления за день до своего самоубийства – свое завещание: «…Превыше всего я обязываю руководство германской нации и его приверженцев строго охранять расовые законы и противодействовать без жалости отравителю всех народов – мировому еврейству».
Глава шестая
Шоа
У несуществующей стены…
Это случилось 4 января 1954 года, за неделю до моего двадцатилетия. После выступления нашего университетского оркестра в каком-то, кажется, подшефном колхозе меня подбросили на автобусе до вокзала, и вот разомлевшим от сельского вина и еды студентиком еду в битком набитом вагоне к матери в город моей юности. Время позднее, все собираются на выход, неохота стоять в очереди, и я, как это неоднократно делал раньше, решаю выйти через тамбур, между вагонами, забыв, что тормоза на зиму прикрываются металлическими коробами, прикрепленными к стенкам вагонов...
Очнулся в больнице. Тут же хотел встать и идти домой. «Шок», – сказал врач. Слепящий больничный свет и внезапно наплывшие в слух бубнящие голоса пассажиров вызывали головокружение и тошноту. Меня перевели в палату. Там было темно и тихо. Какая-то тень, мучая меня, колыхалась в окне, то, исчезая с провалами сознания, то, возвращаясь, пока я вдруг, окончательно придя в себя, не понял, что это – мама. Я слабо помахал рукой. Тень тем же слабым движением повторила мой жест. Девять дней пролежал я в больнице. Сжаты были сердце и легкие, белки глаз были красными от полопавшихся сосудов. Если бы я был старше лет на пять, сказал доктор Москович, эта станция оказалась бы для меня последней.
Начинались экзамены. Я вернулся в университет.
В одну из ночей, в общежитии, я внезапно проснулся с ощущением тихого ужаса. Это не было продолжением сна, галлюцинацией: реальные вещи – тумбочка, стул, спящий сосед – обступали меня.
Это память внезапно, после стольких дней, вскрыла свои запечатанные болью подвалы: я лежал на снегу, навзничь, захлебываясь кровью, кто-то говорил – «Кончается», но голос доходил до меня как сквозь вату и как бы вовсе меня не касался.
И так же внезапно, без всякого моего вмешательства, память перекинулась на тринадцать лет назад, в 22 июня 1941-го: после обеда выхожу со двора к стене дома, обращенной к Днестру, вдоль которой густеют кусты. В них у меня тайник, а в нем – всякая мелочь: пуговицы, шестеренки от часов. Но зато эта тайна принадлежит только мне. Достаю эту мелочь, чтобы играть на парадном крыльце, где на дверях темнеет прямоугольник от снятой год назад вывески на румынском «Адвокат Исаак Баух». Капитан Красной армии Перминов с семьей, которую поселили у нас, два дня назад уехал, как он объяснил, в связи с обострившейся международной обстановкой. Мама несколько минут назад оплеснула крыльцо водой, и оно чуть дымится, блестя на солнце синим асфальтом. Вдруг прямо над моей головой возникает самолет. Пулеметная очередь. И тишина. Сижу как в столбняке. Не замечаю, что на улицу высыпали все соседи. Отец открывает парадную дверь, говорит: «Началась война».
Люди, притихнув, сидят на скамейках у своих домов, во дворах, кажутся оцепенелыми, как жуки, которые при возникновении опасности притворяются мертвыми. Ощущение такой оцепенелости часто приходило в годы войны, в самые страшные ее минуты.
На рассвете впервые, сжимая сердце ужасом, раздается нарастающий гнусавый вой немецких бомбардировщиков. Мы живем примерно в километре от моста через Днестр. Его-то немцы начинают бомбить. Дом качает, как при землетрясении. Скребутся в парадную дверь. Отец открывает. Незнакомая женщина с обезумевшими глазами пробегает мимо него в спальню родителей, забивается под кровать. Отец тщетно пытается ее выманить оттуда. Спускаемся в подвал. С каждым ударом со стенок осыпается земля, вздрагивает пламя свечи, плесень забивает ноздри. Так и не помню, куда исчезла женщина, события сбивают с ног, все время хочется спать.
Ночью небо на западе багровеет сплошным пожаром, слышатся глухие удары. Во время ночной бомбежки тьма расцветает сплошным фейерверком трассирующих пуль, летящих во всех направлениях, высвеченными в свете прожекторов облачками разрывов зенитных снарядов. Воистину, на миру и смерть красна.
С утра в тихой истерии идет беспрерывная упаковка, прерываемая сиренами воздушной тревоги, большей частью ложной. Бомбить мост начинают внезапно. Вещи сложены на телегу, на них уже восседает бабушка, отец навешивает замок на дверь, с ошеломляющей наивностью среди всеобщей гибели, говоря, что через день-два мы вернемся. Мама требует заменить этот небольшой замок амбарным. С обычной для него легкой усмешкой отец подчиняется ей. Через много лет я пойму, что в этом кажущемся наивным поведении отца прощупывается единственная возможность не терять присутствия духа в пространстве идущей на человека гибели во весь разворот земли и неба. И это подобно детской игре в прятки, когда прятаться-то некуда, а поворот ключа в замке подобен ничего не решающему заклинанию «Сезам, затворись!». Но ведь какой должна быть приобретенная всего за несколько дней стойкость двигаться посреди улицы, посреди дня, на виду всего разверстого неба, откуда в любой миг может прийти смерть, уже приведшая к немалым жертвам!
Все, все, пора в дорогу.
Но беда в том, что я упираюсь, я не хочу покидать дом, я реву в три ручья. Неизвестность будущего, но живого, мне страшней настоящего, привычного, пусть и чреватого в каждую минуту смертью. Начнется бомбежка. После многих попыток немцы могут, наконец, разрушить мост, и тогда нам точно каюк. Но отец терпеливо ждет, пока я выревусь и успокоюсь.
Начинаем двигаться. Остающиеся евреи с землистыми лицами, подслеповато щурясь после подвальной тьмы, вяло машут нам руками.
Отец, знакомый многим, ведь юрист, который должен спасать, пытается по пути каждого потрогать, ободрить, но люди как бы уже по ту сторону своей судьбы, уже втянуты надвигающейся гибельной бездной, уже и не притворяются мертвыми жуками, а примеривают на себя это состояние как последнюю, неотвратимую форму существования. Их даже не страшит судьба их детей, вяло играющих на солнце в перерывах между бомбежками.
Отец всматривается в их лица, еще раз пытается объяснить, что единственное спасение – бежать, раздражая торопящую его маму, которая держит меня за руку. Отец не отводит глаз от этих лиц, и они на миг очеловечиваются, освещаясь искрой надежды, которая тут же гаснет по ходу нашего движения.
На всю жизнь я запомню эти безымянные лица как символ истинной человечности, абсолютно беспомощной перед всеохватной чудовищной жестокостью мира.
Живущие напротив Карвасовские, давно и открыто ждущие немцев, скрывают злорадство под жалостливыми улыбками. Соседушка, сапожник-пьянчуга Яшка Софронов делает нам ручкой, той самой, которой, только мы скроемся за поворотом, взломает замок и поселится в нашем доме.
В пространстве Шоа, уже накатывающем и подхватывающем все вокруг смертельным валом, у остающихся евреев еще достаточно времени на всякое бытование. Завязывают в узлы вещи со слабой, но все же неисчезающей верой, что повезут их в более спокойное место, хотя зловещее солнце июня предвещает одно: смерть. Зашивают пуговицы на одежде, которая совсем скоро станет ненужным тряпьем, если кто-либо из бандитов не позарится на пару приличных брюк или туфель.
Подкрепляются на дорогу, берут еду с собой, будто собираются на пикник.
Окружающие знакомые дома, лица, деревья, кусты, кошки и псы внушают даже некоторое запредельное спокойствие каким-то явно уже сюрреальным обещанием устойчивости существования. Так, вероятно, воспринимается мир реанимируемым и моменты прихода в сознание и возникновения пульса перед тем, как пульс этот оборвется навсегда.
Мы благополучно минуем мост.
Уже остается совсем мало времени до того, как в окнах домов оставшихся евреев возникнут, накапливаясь переулками, румынские солдаты. Они улыбаются, скаля зубы, эти потомственные антисемиты, накопившие опыт погромов по городам Румынии, они говорят «пофтим» («пожалуйста»), выпроваживая людей из домов.
В 1943-м отец погибает в хаосе Сталинграда. В 1945-м мы возвращаемся. Софронова с трудом выселяют из дома. Многие годы в нем будут жить мама и бабушка, и, приезжая на побывку, я издали ощущаю знакомые очертания кустов у стены, обращенной к Днестру. К моменту моего отъезда в Израиль уже нет в живых ни мамы, ни бабушки и, попрощавшись с их могилами, я иду к дому, которого уже нет, ибо сооружают на этом месте приречный парк. Только еще остаток стены, обращенной к Днестру, обнаженной костью торчит из земли. От угла стоящей напротив гостиницы «Дружба» вымеряю шагами расстояние до угла стены, и эта цифра врезается в мою память на всю оставшуюся жизнь.
В 2003 году, находясь в Кишиневе по случаю 100-летия со дня «знаменитого» погрома, опять посещаю могилу матери в Бендерах. Подхожу к той самой гостинице, в которой сейчас, кстати, располагается филиал Сохнута, считаю шаги в сторону несуществующего нашего дома и замираю.
Огромный памятный камень высится на месте, где стояла наша стена.
Около нее в 1941-м были расстреляны все евреи городка.
Преступность незнания переводит чудовищную бездну в нечто терпимое, бок о бок с твоей юностью.
И только такой толчок – через шестьдесят два года – всплывает памятью, как тогда, после сжатия поездом, и нет страшнее этого возвращения в память внезапно хлынувшего из подсознания ужаса.
И сапожник Яшка Софронов, благодушно разлегшись в папином адвокатском кресле, попивает водку под сухой треск выстрелов и придушенные стеной стоны. С уходом расстрельщиков поглядывает свысока в окно, через которое я впервые осмысленно увидел Божий мир, поглядывает с видом человека, удостоившегося дожить до осуществления, пусть и чужими руками, своей давней мечты: убийства ненавистных жидов.
Над горой трупов уже вьется рой мух. Пока трупы уберут, этот ничтожный человечишка чувствует себя воистину повелителем мух.
И непереносима боль, что через глаза этого негодяя устанавливается, изводя душу, взгляд на Шоа.
Этот чудовищный кошмар, который уже хватал меня, малыша, за загривок, только и может раскрыть нечто, подобное небытию «бездны».
Я думаю об отце
Талантливый адвокат, у которого не переводились клиенты, он владел французским, немецким, румынским, ивритом. В Судный день он брал меня с собой в синагогу, вызывался к чтению Торы и, покрывая голову талесом, становился мне незнакомым и неземным. Улыбка у него была грустной. Когда мне на ум приходят слова Коэлета «Во многой мудрости много печали», передо мной мгновенно возникает лицо отца. Он был неисправимым бессребреником, любил дарить вещи людям, за что мама не раз упрекала его. Душа его была наивной и чистой, как у ребенка, и потому только я, малыш, и мог его понять.
Позднее по маминым рассказам я понял, что отец был меланхоликом, но оживлялся с появлением клиента, у которого было трудное дело. Тут в нем словно бы пробуждалась иная душа, изощренная в юридических ходах. Меланхолик при этом в нем не дремал, охлаждая вероятностями проигрыша.
Как ни странно, он довольно часто выигрывал суды, особенно долго длящиеся. Думаю, в те страшные минуты, когда мы тащились через мост за телегой, вздрагивая от каждого звука в страхе, что сейчас появятся немецкие бомбардировщики, отец размышлял о нитях наших жизней. Они могли в любой миг оборваться, пульсируя в слепой кишке времени, где вообще исчезли понятия справедливости, обвинения, защиты, где были лишь не подвластные никаким законам совести преступники и невинные, заранее обреченные на смерть люди.
Когда думаешь о том, что удалось дожить до самоубийства Гитлера, Нюрнбергского процесса, смерти Сталина, опровержения «дела врачей», начинаешь осторожно верить, что еще не все потеряно.
Отец принадлежал к удивительному по альтруизму и чистоте души, несмотря на все их заблуждения, поколению евреев, родившихся в Восточной Европе в начале двадцатого века. Мало кто из них еще в молодые годы остался в живых. Многие из тех, кто учился с ним в гимназии, с юности узнали издевательства антисемитов и уехали учиться, главным образом, во Францию. Некоторые из них, как Давидка Букштейн и Яша Кофман, погибли в гражданской войне в Испании в чуждом им, но таком наивно альтруистическом желании в Гренаде «землю крестьянам отдать».
Другие пали под Севастополем и Одессой. В живых, насколько я знаю, осталось несколько уехавших еще в 20-е годы в Палестину, Журналист и переводчик Мордехай Север (Свердлик), сидевший с отцом на одной школьной скамье, работал в газете «Давар». А закадычный друг отца Шика Гершенгорин был долгое время после войны главным архитектором Версаля.
И когда я открыл для себя работы Эммануила Левинаса, которого сегодня во Франции считают одним из величайших философов XX века, я понял, что судьба дала ему долгую жизнь стать рупором отцовского поколения, его устами. О них писал Мандельштам в стихотворении «1 января 1924», знаменательно помеченном двумя датами – 1924 и 1937:
Я знаю, с каждым днем слабеет
жизни выдох,
Еще немного – оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют...
Надо быть неисправимым в самом своем корне оптимистом, чтобы в гибельной бездне строить философию на столь же абсолютном запредельном альтруизме, основанном на встрече с Другим, с Богом – «лицом к Лицу». Но только такой запредельный подход, названный Левинасом «Бесконечным», может и быть альтернативой предельной бездне безнадежности, насилия и гибели, обозначенной Левинасом «Тотальностью».
Эммануил Левинас родился в Ковно (Каунасе), в семье, где традиции иудаизма, изучения иврита сочетались с изучением европейских языков и культуры. Уехал во Францию, учился на философском факультете Страсбургского университета. В 1930 году получил французское гражданство. В том же году он публикует работу «Теория интуиции по отношению к феноменологии Гуссерля», с почтительной критичностью обращаясь к учениям двух великих евреев – французского философа-интуитивиста Анри Бергсона и немецкого философа Эдмунда Гуссерля.
Начинается Вторая мировая война. Франция капитулирует. Левинаса спасает французская военная форма. Он попадает в лагерь военнопленных.
Все его близкие в Литве гибнут от пуль разгулявшейся расстрельной братии. Жена и дочь во Франции остаются в живых.
Удивительно, как молодой начинающий философ уже в 1935 году, в работе «О побеге», нащупывает свою дорогу, в противовес торжествующим в Европе феноменологии Гуссерля, интуитивизму Бергсона, онтологии Хайдеггера.
Отталкиваясь, в определенной степени, от экзистенциальной позиции Габриэля Марселя, он определяет свободу как возможность изменения «я» внутри неизменяющейся «тяжести бытия».
Как освобождение «я» от себя самого, от своего эгоистического «постава».
Левинас как будто предчувствует, какой чудовищный опыт существования на грани Ничто обрушится на него через считанное число лет, сосредотачиваясь, как пловец, перед надвигающимся девятым валом.
Более шести лет, с 1939-го по 1945-й, Левинас находится в немецком плену, в концентрационном лагере, где у него, накапливаясь в набросках и фрагментах, вызревает книга «От существования к существующему» («De l’ехistence a’ l’ехistent»). Только в плену неотступающей мыслью, сверлящей сознание, может быть мысль о существовании и существующем. Книга выходит в свет в 1947 году. В ней он уже намечает главные понятия своей философии, которые будут развернуты в следующей, одной из главных его книг, «Тотальность и Бесконечное» («Totalite et Infini», 1961).
В каждодневном плену несуществования философ записывает: «Не обременено ли бытие другими пороками, кроме своей ограниченности и ничто? Не таится ли в самой его позитивности некое изначальное зло? Не является страх бытия – ужас бытия – столь же изначальным, как и страх смерти?»
Этот ужас бытия Левинас называет «безличным наличием – «ilуа».
Обратите внимание, что в «безличном наличии» дважды возникает корневое – «лицо», которое станет главным понятием философии Левинаса.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/efraim-bauh/isk-istorii/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Эфраим Баух
Многие эссе и очерки, составившие книгу, публиковались в периодической печати, вызывая колоссальный читательский интерес.
Переработанные и дополненные, они составили своеобразный «интеллектуальный роман».
В отличие от многих, поднимающих «еврейскую» тему и зачастую откровенно спекулирующих на ней, писатель-мыслитель не сводит счеты ни с народами, ни со странами, ни с людьми. Но, ничего не прощая и не забывая, он предъявляет самый строгий иск – Иск Истории.
Эфраим Баух
Иск Истории
Историко-философские эссе
Знамя злых гениев Европы несут философы: их зовут Гегель, Маркс и Ницше… Мы живем в Европе, созданной их идеями.
Альбер Камю
Часть первая
Иск Истории
Вступление
Подражание, вытеснение, забвение…
Риск ли предъявлять Истории иск?
Если жизнь – выживание, не является ли История синдромом потери памяти во имя выживания?
Считать ли в таком случае собственное достоинство душевным изъяном?
Может ли потерять достоинство целый народ: столь пестуемый поколениями немецких философов Volk: «вместебытие»?
Как переживается эта потеря – неотступным страхом, ставшим привычной формой рабского существования, или массовым ослеплением, животной агрессивностью, истребившей более шести миллионов моих соотечественников?
Говорят: суд Истории. А быть может, сама История под судом?
В наши дни всемирного террора, идущего об руку с никогда и никуда ни исчезающим антисемитизмом, который вновь и вновь потрясает нас, по сути, кажущейся внезапностью, иск Истории, хотя бы на уровне постановки вопросов обвиняемой, – следует предъявить. Написание исчерпывающего иска потребовало бы неимоверных энциклопедических усилий и утонуло бы в забвенной глубине текстов и череде томов. Но иск этот еще ждет своего часа.
Говорят: История ничему не учит. Еще как учит.
Уроки Истории, главным образом и в первую очередь, – уроки подражания.
Поток событий уходит в прошлое, поглощается временем, но если пользоваться терминами геологии, уходящее в осадок не исчезает, уплотняется: более молодое грубо складывается в конгломераты, более древнее превращается в мрамор. А в изначалье это было песчинкой или частицей глины. В Истории прошлое соединяется в некие условные (сегодня в ходу модное слово – «виртуальные») острова, архипелаги – царств, империй, республик. Остается от них лишь письменная фиксация – текст, как весьма спорный документ. И тут вступает в действие мифическая, восторженно-агрессивная сила подражания, подчас и прямой компиляции. Культура, государство, национальная лепка личности – все в подражание «незабвенной солнечной Элладе», державному Риму. Христианство, а за ним ислам полностью переосмысливают, подчас, в достаточной степени, подражают, а то и впрямую компилируют свой первоисточник – иудаизм. Происходит этакое «двойное убийство отца» (по Фрейду): убил, наследовал без всякого почтения да еще взвалил на отца вину за убийство сына Божьего. По такому поводу достаточно свежий анекдот: палестинец (сумели все же присвоить себе это филистимско-римское имя) выступает в ООН: «Евреи распяли Христа в Иерусалиме». Еврей-израильтянин (тоже проблема, требующая философского разрешения): «Это палестинцы распяли Христа». Палестинец: «Но нас тогда еще не было вообще». Еврей-израильтянин: «Что и требовалось доказать».
История дает уроки подражательного искусства, очищая образцы от всего якобы наносного, то есть жестокого и мерзкого, и вот уже Осип Мандельштам, приняв протестантство, все же пленен державным Римом, хотя сам уже ступил в трясину тирании и совсем скоро в ней захлебнется.
Борис Пастернак, в свою очередь плененный христианством в ореоле европейской культуры и искусства, плывет в русле французской философской мысли о евреях, став на сегодня в определенной степени отцом постмодернизма. Но об этом ниже.
Нас по сей день поражает настойчивый, подчас яростный поиск ответа на вопрос: «Кто такой еврей?»
Мы себе не можем отдать отчета, насколько этот поиск идентификации болезнен, иногда воистину безумен у европейцев, по сей день жаждущих быть тем или иным «народом». Поиск подходящих образцов подражания в прошлом, созидание мифов, конечно же, дело, даже удел интеллектуальной элиты.
Вопрос армянскому радио в советские времена: «Что такое коньяк?» Ответ: «Это такой напиток, который пьет весь наш народ посредством своих представителей». Для того чтобы пить коньяк, элита должна была воспевать Александра Невского и Ивана Грозного в сталинские годы, Жанну д’Арк в петеновской Франции.
Но это, конечно, не идет ни в какое сравнение с нацистским мифом, сумевшим в считанные годы с невиданным доселе размахом «вбросить в будущее» (понятие из философии Мартина Хайдеггера, о котором речь пойдет далее) немецкий народ, а, по сути, сбросить его в бездну.
Речь идет о «конструировании» Истории, представляющемся, во всяком случае, в начале некой «игрой», осью которой в последние два века был всегда один концептуальный принцип, построенный на расе (арийцы) и на классе (классовая борьба).
Решающая, агрессивная сила воли, навязываемая массе, непременно и вызывающе называет себя тотальной «великой концепцией». Опыт последних двух веков учит, что нет ничего более заманчивого и более опасного, а иногда и просто преступного, чем та или иная «великая концепция», триумфально втискивающая набегающую будущим жизнь в свое прокрустово ложе. «Исправительная колония» Франца Кафки, казавшаяся невероятным преувеличением при написании, спустя короткое время выглядела детской забавой в сравнении с реальностью.
В начале своего пути «великая концепция», выстраивающая по себе всю мировую Историю, будь то гегельянство, ницшеанство, марксизм, провозглашает свое возникновение из «свободы мышления». Однако весьма быстро, благодаря заложенным в ней ядовитым семенам, прорастающим идеологией, сбрасывает c себя бремя логических законов мышления, сомнения, скепсиса, взывает к мифу, не подлежащему обсуждению, требующему безоговорочного приятия и беспрерывного восхваления в своей непогрешимости, а не то: пуля в затылок.
Сила любой «великой концепции» в поистине циркаческом умении манипулировать, примазываясь к «логике Истории», а вражескую «великую концепцию» называть иррациональной (ругательное слово в нашей молодости). На самом же деле каждая «великая концепция» выстраивает свою логику по научным (как потом оказывается, псевдонаучным) законам.
Умение взывать к темным инстинктам, простым, но вызывающим слепой подъем животной силы, замешенной на страхе, переходящем в восторг, обеспечивает «великой концепции» быструю, ошеломляющую победу и не менее ошеломляющий верный крах в будущем. «Великие концепции» обладают одним постоянным свойством: в реальности они осуществляются в наихудшем варианте, опять и опять оправдывая пословицу, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Наступает потрясение, отрезвление, повязка падает с глаз. Оказывается, «великие концепции» после всего, что натворили, обнаруживают невероятную алогичность, банальные провалы, псевдонаучные утверждения, заставляя человечество раз за разом «впадать в разум». Длительная потеря сознания навевала «человечеству сон золотой». Но вот разум очнулся от сна и – о, ужас – не во сне, а в реальности породил чудовищ.
В значительной степени возникновение постмодернизма – реакция на катастрофические провалы «великих концепций» ХIХ и двух третей XX веков.
Сейчас, во времена постмодернизма, оглядываясь на Историю мировой культуры, искусства, философии, обнаруживаешь существование некой параллельной и весьма захватывающей Истории фальсификаций, подделок, подражаний, часто неотличимых от оригиналов, с драматической сенсационностью связанных с авторством того или иного великого творения. Возникли целые теории, подчас не выдерживающие критики, об аутентичности в литературе, музыке, изобразительном искусстве. Вместе с тем, в этой параллельной Истории есть и твердо установленные факты. На пересечении этих двух Историй возникают самые заманчивые сюжеты для литературы.
К примеру, музыковеды считают, что наиболее известное произведение Иоганна Себастьяна Баха «Токката и фуга», вовсе не написана Бахом для органа и вообще предназначена для скрипки.
В Истории же литературы и философии, где речь идет о тексте, разворачивается бесконечный свиток подражаний, подделок, ошибок при переписке, в дальнейшем ставших истоком целых теорий, исследований стиля до последней запятой, жизни автора до последнего вздоха в доказательство, к примеру, что шекспировские пьесы написаны вовсе не Шекспиром.
В последнем, полном собрании сочинений Платона на английском, где его «Диалоги» следуют один за другим, рядом с названиями некоторых из них поставлены звездочки, относящие к примечаниям типа; «Ученые, в общем-то, считают, что Платон не является автором этого «Диалога». Примечания иного типа: «Между учеными нет согласия в отношении того, что авторство этого сочинения принадлежит Платону».
Но, касаясь претензии Истории на владение истиной, можно сегодня с достаточной достоверностью сказать, что, по сравнению с другими вышеупомянутыми Историями, нет большего греха лживости и фальсификаций, чем те, какими грешили политические Истории народов и государств Европы в последние два века. В них, в значительной степени, господствовали – домысел, социальный заказ, восторг, ослепляющий зрение. Доминировал характер историка, и чем он был изобретательней и талантливей, тем более был опасен, ибо путал два жанра – сухой исторической правды и «игр» литературы, искусства, политики, в угоду публике и властям предержащим. Историки 20-40-х годов прошлого века – великие анестезиологи: сумели без эфира вырубить массовое сознание, выключить рецепторные центры боли, называемой муками совести, внушить фантазии о светлом будущем, которые обернулись гибелью сотен миллионов людей.
Подчистка, вычеркивание, улучшение, одним словом, редактирование в литературе – необходимость. В истории – преступление.
Любопытен пример истинно «иудейской» драмы римского историка, писавшего на греческом, еврея Иосифа Флавия (Йосефа Бен-Матитьяу). Несмотря на свои несомненные заслуги перед мировой Историей, в иудейской традиции он выступает как предатель. «Иудейская война» была им в первую очередь написана в назидание другим народам Римской империи, мол, вот какая участь ждет вас, если восстанете против цезаря и великого Рима. В этом назидании, достаточно достоверном в отношении евреев, ибо потерпели поражение, он вовсе не чурался вымыслов.
В 1966 году, в библиотеке Коктебельского дома творчества, я обнаружил толстый фолиант – тридцать две версии, если мне память не изменяет, – «Иудейской войны». Переведены они были на старославянский. Из предисловия можно было понять, что они использовались как пропагандистский материал против хазар, одолевавших славян: вот, мол, что вас ожидает. В самом же Риме Иосиф Флавий был «принят» как придворный историк императоров Веспасиана и Тита. Особенно выводило его из себя, что греческие историки относились к нему пренебрежительно, считая «чужаком», презренным иудеем, начисто лишенным «греческого акцента», греческого стиля письма, и он из кожи вон лез, чтобы протиснуться в их ряды.
Это удивительно видно при даже поверхностном анализе оригинала, который педантично сделал переводчик «Иудейских древностей» с греческого на иврит Авраам Шалит (издательство «Мосад Бялик»). «Казус Флавия» протягивается и возвращается на «круги своя» через всю историю еврейского народа в две с половиной тысячи лет, с момента потери им государственности. Нам, при советской власти, казус этот был хорошо известен.
С переписыванием Истории связано – после Фрейда – понятие «вытеснения». Вытеснение – подсознательный способ выживания нервной системы не только индивида, но и целой нации. Но само вытеснение несет в себе «невытесняемость», нечто, вообще не подающееся фиксации. Эта «невытесняемость» не задевается динамикой мышления, потоком сознания, она неподъемна, неподвластна образам и словам, недоступна эстетизации, враждебна этике, подобна неоперабельным осколкам в теле: операционное прикосновение к ним чревато гибелью.
С «вытеснением» тесно связано «забвение», что не обязательно требует впрямую: забыть. Можно просто назвать другим именем. Так шаманы излечивают болезнь, называя ее по-иному.
В связи с «вытеснением» и «забвением» возникает устойчивое ощущение, усиливаясь в последние годы, что настоящее не рассчиталось с такими чудовищными феноменами, выплеснувшимися огнем и кровью в, казалось бы, «облагороженной» Возрождением и Просвещением Европе – как нацизм и сталинизм, олицетворяемые двумя короткими, сжимающими горло звуками – Шоа и ГУЛаг.
Справедливо говорил выдающийся французский философ XX столетия Габриель Марсель: «Ничего не преодолено». И это, по сути, перекликается со сказанным великим французским философом, евреем Анри Бергсоном: всякое явление в духе и нравственности, положительное ли, отрицательное, меняет общий духовный баланс мира.
И нет пути назад.
Глава первая
Двадцатые годы двадцатого века
В эти годы засеиваются зубы дракона, которые приведут к немыслимой катастрофе – Второй мировой войне.
В России безумствует гражданская бойня: отец на сына, брат на брата. Евреи, лишенные защиты, – козлы отпущения банд и армий разных цветов, от которых рябит в глазах. Над вихрем несущейся красной конницы с шашками наголо витают кощунственные слова из поэмы «Двенадцать» такого, казалось бы, мистически-надмирного, не от мира сего поэта Александра Блока: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови – Господи, благослови!»
Рафинированное дитя западной культуры, кумир российской интеллигенции, только недавно сказавший, что Истории зубы коварны и проклятия времени не избыть, в каком-то неистовом ослеплении не просто пишет стихи – выводит формулу из четырех лихо сложившихся строк. В них, если убрать слово «кровь», свернута пружиной вся теория Троцкого о «перманентной революции», уже разворачивающаяся той самой конницей, а если вернуть слово «кровь» – не заставляющая себя долго ждать, уже маячащая в будущем теория «бесноватого фюрера». Сорокалетний Блок, присмиревший, с потухшим взглядом, отчужденно смотрит на листки своих стихов, по которым прошелся сапог беснующейся толпы в их разоренном летнем доме.
Затаенное раскаяние и слабая, уже потусторонняя надежда – в его записи «О «Двенадцати» 1 апреля 1920 года: «...в январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией... Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая политика так грязна, что одна капля ее замутит и разложит все остальное; может быть, она не убьет смысла поэмы; может быть, наконец – кто знает! – она окажется бродилом, благодаря которому «Двенадцать» прочтут когда-нибудь в не наши времена. Сам я теперь могу говорить об этом только с иронией; но не будем сейчас брать на себя решительного суда» (Ал. Блок. Собрание сочинений. 1960. том 3, стр. 474-475).
Суд Истории уже в тот год без всякого колебания берут на себя разрушители, чья родословная тянется от «прославленной и великой» французской революции. Решителен и скор их приговор: расстрел.
Через год, в страшном августе, собирающем жатву смерти, Блок тихо уйдет. Истает под безмолвный аккомпанемент выстрелов где-то в глухих подвалах: расстреляны Гумилев и с ним еще шестьдесят два человека. Еще через год, летом 1922-го, – массовая высылка интеллигенции, репрессии как постоянный, ставший привычным элемент каждодневья, планомерное уничтожение двух поколений русской литературы.
Именно Троцкий с завидной энергией еврея, сына богатого землевладельца, восставшего на отца, жестоко подавляет в марте 1921 года Кронштадтский мятеж, с фанатическим блеском в глазах продолжая внедрять свою перманентную революцию «с налета-поворота по цепи врагов густой».
В Европе смута и брожение. Семена перманентной революции дают всходы, не всегда желаемые: в Италии Муссолини захватывает власть; еще никого не удивляет, что в его фашистской партии немало евреев. Францию затопили потоки эмигрантов. Тысячи евреев, бегущих с полей гражданской войны в России, от погромов в Румынии, селятся в Париже. Еврей Леон Блюм возглавляет французскую социалистическую партию, отколовшуюся от коммунистической. Еврей Жорж Мандель назначен главой канцелярии военного кабинета президента Клемансо, того самого, который, не стесняясь, выражает «особую» любовь к немцам: «Боши заплатят за все».
Но особенно царят смута и хаос, ненависть не только к другим, но и к себе самому, чувство унижения от разора, голода, бессилия, принесенных поражением в Первой мировой войне, в германских землях. Веймарская конституция 1919 года уравнивает евреев в правах со всеми гражданами страны. Радость евреев, то-бишь, отныне немцев, настолько велика, что ассимиляция достигает пика: до 50 процентов смешанных браков. Еврей Эдуард Бернштейн, известный нам по ленинским наскокам, избирается главой социал-демократической партии, а в 1920-м становится депутатом рейхстага. Революционное правительство в Баварии возглавляет еврей Курт Эйснер, назначающий министром просвещения другого еврея, анархо-социалиста, испытавшего влияние Прудона и Кропоткина, писателя и философа, друга Мартина Бубера, Густава Ландауэра. Еврей Вальтер Ратенау, поклонник иррационализма Ницше, становится министром иностранных дел Веймарской республики в правительстве канцлера Вирта. Молодые евреи активно участвуют в создании коммунистических партий в разных германских землях, что усиливает антисемитизм. Евреев обвиняют в поражении и всех бедствиях Германии.
С одной стороны, затаившие ненависть немцы упиваются чтением книги «Основы XIX века» натурализовавшегося в Германии англичанина X.Чемберлена, женатого вторым браком на дочери Рихарда Вагнера. Весьма талантливый популяризатор расово-антисемитской «великой концепции» Истории, он умело придает ей научную респектабельность. Он цитирует Цицерона, Шекспира, Вольтера, Канта, Ренана. Он проявляет завидную в те годы интеллектуальную смелость, доказывая, что евреи – это тайные дьявольские враги человечества, поедающие мировую культуру изнутри, несущие каждому народу, среди которого они обретаются, порчу. Уже в 1920-м эта расовая «концепция» начинает все более претендовать на роль общегерманской и с большим прилежанием штудируется будущими вождями нацизма во главе с тогда еще малоизвестным Гитлером. Книга Чемберлена – воистину учебник по окончательному решению «еврейского вопроса»
С другой стороны, во Франкфурте в 1920 году философ Франц Розенцвайг, стремящийся соединить иудаизм с современной немецкой культурой, ученик выдающегося немецкого философа еврея Германа Когена (у него учился и Пастернак), создает «Свободный еврейский дом учения». Этот дом объединяет леволиберальных евреев-интеллектуалов, с присущей им обезоруживающей наивностью пытающихся бороться за мир и братство. Среди них имена тех, кто станут знаковыми фигурами XX века. Трое из них – философы Мартин Бубер, Акива Эрнст Симон, исследователь Каббалы Гершом Шолем – уедут в Израиль. Эрих Фромм, автор знаменитой книги «Душа человека», – поныне один из гуру в психоанализе после Фрейда и Юнга.
Линия фронтального столкновения проходит между «националистами» и «интернационалистами». Значительное число последних составляют евреи. В 1919 году националисты убивают в Баварии премьер-министра еврея Курта Эйснера и министра просвещения еврея Густава Ландауэра, а летом 1922-го, в Берлине, – еврея Вальтера Ратенау.
Впервые лепится к евреям знакомый ярлычок – «космополит». В нашу бытность ярлык расширяется – «безродный космополит»: раскрытие отчества сразу показывает отсутствие отечества.
В 1920 году возникает движение «Консервативная революция». Название, как говорится, в духе времени. В Англии еще господствует дизраэлевский дух «демократического консерватизма». Здесь же, быть может, по некоторой ассоциации, – «консервативная революция», но также в противовес «пролетарской» или «социалистической». Основатели движения – философ Мелер Ван ден Брук, писатели Томас Манн и Гуго фон Гофмансталь. За прикосновение к Томасу Манну в эссе об Аверинцеве меня уже обвинили в «досадной прямолинейности уподоблений» и в «не совсем справедливом укоре великому немецкому писателю», репутация которого как юдофила и антифашиста «была очень прочной». В эссе я писал о том, что Манн, создавая в своем романе «Волшебная гора» образ еврея Нафты, верный своей творческой концепции «жизни в цитате», называемой им также творческим методом, основанным на «сколках», смешал в Нафте «коммунистическое мировоззрение с принципами католиков-иезуитов, и все это – на основах иудаизма». При этом он пользовался элементами биографий Томаса Мюнцера и Георга Лукача. Следующий приводимый мной фрагмент из эссе писался явно под сенью упомянутого выше (не к ночи) X.Чемберлена – интеллектуального антисемита: «Сатанинский образ «разрушителя-еврея» Нафты, с одной стороны, тянущегося к еврейской религиозной мистике (Каббале), а с другой стороны, ядом марксистско-пролетарского атеизма разрушающего «арийскую» гармонию народов – бальзам на душу «интеллектуальных антисемитов», подводящих теоретическую базу под свою нелюбовь к евреям».
Томас Манн писал роман «Волшебная гора» именно в двадцатые годы (роман вышел в свет в 1924-м).
Касаясь образа Нафты, я говорю: «...это не было неким интуитивным прозрением Манна, а скорее смешением его личного опыта, желанием игры, скрытыми реакциями на общественно-политическую ситуацию тех дней и, несомненно, преодолением некой душевной некомфортности, связанной с евреями».
Скрытые реакции на общественно-политическую ситуацию тех дней могут быть утаены в ткани романа. В реальности же тех дней движение «Консервативная революция» объявило борьбу с распадом и смертью немецкого народа как единого целого, считая, что немцы смогут избежать этого распада, лишь сплотившись на «органической» народной «почве» и обратившись к ценностям «высшего порядка». Немецкий национализм является неким «сколком» древних традиций, подражая которым немцы ищут способы своей национальной идентификации. Исходя из всего этого, участники движения «Консервативная революция» с особой неприязнью, если не прямой ненавистью, относились к «космополитам». Трудно, как говорится, отнести все это к грехам молодости такой мощной личности и воистину великого писателя, как Томас Манн. Да, он одним из первых распознал чудовищную суть нацизма, открыто выступил против него, покинул Германию. Да, он был признанным лидером германской интеллигенции, бежавшей от нацизма в США, которую почти сплошь составляли евреи – такие всемирно знаменитые, как Франц Верфель, Теодор Адорно, Альфред Деблин, Бруно Франк, Лион Фейхтвангер, не говоря уже об Арнольде Шенберге. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь, и называть его юдофилом без сучка и задоринки, по-моему, и есть «досадная прямолинейность уподоблений».
Да и не следовало искать у Манна, заботившегося о своем народе, юдофильство или даже вообще человеколюбие, которое в те годы могло восприниматься как хитрая и разрушительная идея тех же «космополитов», ну, положим, стремящихся к мировому господству «мудрецов Сиона».
Так мог восприниматься тот же Мартин Бубер. В те годы он пытался соединить свои леволиберальные политические искания с исследованием хасидизма. Он переводил на немецкий рассказы рабби Нахмана из Брацлава, легенды и притчи Бааль Шем-Това. Просто Манну, к сожалению, в те годы недостало провидения и даже малейшего представления, что его увлечение «сколками» может вести в Аушвиц.
Хаим Нахман Бялик, пекущийся о своем народе, жил на правах туриста в Берлине в те годы (1921-1924). Много времени он проводил в компании Бубера, молодого писателя Шмуэля Йосефа Агнона, писавшего свои «Страшные рассказы» (в смысле страха перед Всевышним, богобоязненности и раскаяния), основанные на современности, писателя Шимона Равидовича, издавшего собрание хасидских и каббалистических текстов.
Реакция Бялика на это повальное увлечение немецкими интеллектуалами-евреями Каббалой и хасидизмом, на атмосферу тех лет в Германии особенно ощутима в найденном буквально в эти дни оригинале. О существовании этого произведения, написанного под влиянием «Зоара» и названного «Миссия Змея» («Шлихут ха-Нахаш»), никто не знал.
Первое заглавие этого сочинения, «Рабби Элазар и Змей», Бялик зачеркнул.
Найденное сочинение изучено графологически, стилистически, тематически. Изучены метафоры и эпитеты, исследован даже способ нумерации страниц. Все указывает на то, что это сочинено Бяликом, вероятнее всего, в год смерти (1934), в Тель-Авиве.
Но дух, настрой, необычно острая реакция на окружающий враждебный народ («Гой») указывают также и на возможность написания этого сочинения именно в Берлине тех лет. Публикация его в те годы могла действительно стать «идеологической бомбой». В сочинении идет речь об освобождении народа Израиля ценой уничтожения посланного на него Змеем другого народа, на чью голову обрушатся все те проклятия, которые он несет Израилю.
В Берлине Бялик был потрясен личностью молодого в ту пору исследователя Каббалы Гершома Шолема, личностью еврейско-немецкого философа Франца Розенцвейга, который намеревался принять христианство, в 1913 году вошел в Судный день в маленькую берлинскую синагогу, как говорится, в «последний раз», и вышел с твердым намерением – остаться в лоне иудаизма. Бялика поразила главная философская книга Розенцвейга «Звезда спасения», изданная впервые в 1921 году. Но тогда же Бялик пишет «агаду» под названием «Откормленный бык и трапеза из зелени», вероятнее всего, перед принятием решения поменять жизнь в богатом европейском городе на жизнь в небольшом и бедном «ишуве» (иврит. – поселение). Это достаточно ясный намек немецким евреям – оставить «горшки с мясом» и удовлетвориться трапезой из зелени, которая не зависит от сомнительной щедрости чужого и враждебного народа.
Обладая гениальной интуицией, Бялик в те годы ощущал, к чему может вести усиление антисемитизма в Германии. В последние годы жизни, узнав о массовом бегстве евреев из Германии в Эрец-Исраэль, Бялик пишет «Где ты, боящийся огня». В том месте, где сжигают книги, говорит он, будут сжигать людей, и тот, кто не понял язык человека-зверя, вынужден будет понять языки огня. Стремясь любой ценой к ассимиляции, немецкие евреи внезапно увидели язык Змея и в страхе в начале тридцатых бросились искать спасительное убежище в Тель-Авиве и Иерусалиме. И хотя, как пишет бывший тогда ребенком ивритский поэт Меир Визельтир, «за два года до истребления мы не называли истребление истреблением, за два года до «Шоа» у нее не было имени», Бялик еще в начале тридцатых предостерегал от «Шоа», которое падет на головы евреев Германии, именно употребив это слово. В «Миссии Змея» речь о язычниках, поклонниках луны и звезд, пришедших по душу Израиля. Бялик увидел тевтонского поганого (паганус – язычник) Змея, восставшего из глуби времен на давно выбранную им жертву.
Но каким покоем и вечностью земли Бога, в стиле книги «Зоар», дышат первые строки этого найденного в наши дни сочинения «Миссия Змея»:
«Рабби Элазар, сын рабби Шимона Бен-Йохая, бывало, шел в жаркий день со своими товарищами в окрестностях Уши и занимался с ними Торой. Солнце стояло в середине неба и пекло как печь огненная, не было ни единой тени, и все были огорчены этим невероятным зноем. Но вот огляделись, и перед ними зеленое поле, влажное, как облако, и на поле этом несколько молодых деревьев, в тени которых, согнувшись, приятно присесть и дать усталой душе отдохнуть среди холодных степных трав и почти неслышного ветерка, несущего ублажающие нюх запахи.
Обратились они к этому месту, расположились под одним из деревьев, чтобы заняться Торой с приятием и удовольствием».
Глава вторая
Евреи и французы
Евреи и французы
С детства слово «француз» у меня было прочно связано с моим еврейством. Евреев называли «маланцами» или «французами». В сорок шестом году у меня появился школьный друг Андрей Афанасьев, француз настоящий, родившийся в Гренобле в тридцать третьем. Отец его в начале века учился в духовной семинарии в Казани, готовился к посвящению, но стал летчиком.
Грянула Октябрьская революция. Отец перелетел в Польшу. Самолет у него конфисковали, самого интернировали во Францию. Там он завел новую семью, женившись на молодой женщине Морозовской, брат которой, русский офицер, погиб в Первую мировую и похоронен был на Армянском кладбище в Кишиневе (у входа, справа). Жила семья Андрея в Гренобле, городе, который был мне далеко не безразличен, ибо в тридцатые годы там учился на юридическом факультете университета мой отец.
В сорок шестом русская колония во Франции, испытывавшая ностальгию, соблазнившись посулами советской власти (с Молотовым во главе), вернулась в «родные пенаты», и через весьма короткое время отцы семейств уже прочно сидели в гиблых застенках. Отец Андрея с еще не выветрившейся французской вольностью, в поисках одеколона обронил в каком-то месте (а тогда все стены имели уши) фразу, что, дескать, по всем углам стоят статуи вождей, а одеколон достать невозможно. Но главная вина его была в том, что он знал французский, переписывался с Францией, и это, естественно, означало скрывание опасных мыслей.
В эти первые послевоенные годы я уже ходил в синагогу читать кадиш по отцу, сгинувшему во Второй мировой войне. Возвращаясь домой, я проходил мимо церкви, испытывая стеснение в груди между этими двумя обителями Бога.
Ощущение было таково, что здесь, среди по-домашнему знакомого мирка – булыжной мостовой, аптеки, рынка, развалин, – как внутри матрешки упрятано за обычными стенами пространство. Оно было огромным – высокое, замкнутое, хоральное, с незнакомыми лицами, выписанными на стенах, с накладной позолотой иконостаса, запахом горящего ладана, кадильного дыма, хоругвей, из которых не выветривался запах вечных похорон.
Церковное отпугивало своей чрезмерной телесностью: куличи были хлебом, но символизировали плоть.
Синагога была местом домашним. Но стоило среди кашля и скрипа скамеек раскрыть книгу с нездешними знаками, произнести «Итгадал ве-иткадаш шмэ раба» («Да возвысится и восвятится великое имя Его») – и без всяких пышных ритуалов и роскошных атрибутов некое дуновение касалось лба, спирало грудь. Так бывает под водой, когда ощущаешь последние частицы воздуха в легких. Вся суета окружающей скудной жизни мгновенно отходит. После можешь плыть, уставать, сомневаться, но всегда помнить, что высоты и пропасти духовного пространства скрыты в этих книгах.
Церковное особенно остро воспринималось мной в зимние дни, сливаясь с ранними, студеными закатами, снегом, хрустом шагов на морозе, колокольным звоном и криком суматошно разлетающегося от колокольни воронья. В этой влекущей ледяным сном зимней феерии словно бы скрывалась тайна христианства, ее холодный северный лик. Летом церковь как бы скукоживалась за пылью и тусклым громыханием тележных колес по булыжникам площади и рынка.
Была весна. Таял снег. Запах гнили кружил голову. В пасхальный вечер тетки Андрея Катя и Саша (в их доме Андреева семья нашла приют) отправлялись, ковыляя, в церковь, у железной изгороди которой уже толпились мальчишки, собиравшиеся на всенощную красть куличи и крашеные яйца. В доме пахло масляными красками, которыми Андрей наносил на холст портрет Ван Гога в облике Христа с терниями вокруг головы, а я листал пахнущие прелью времени книги из старой библиотеки Андреевых теток.
Нашел «Жизнь Иисуса» Эрнеста Ренана.
Гербовый лист, искусно выписанная заставка, великолепный тисненый переплет и, главное, текст с ятями и твердыми знаками – все это ощущалось обломками прошедшего, обладавшего отточенным стилем времени в проходящих мгновениях жизни, напрочь заливающих беспамятством.
День середины века
Бесстилье дышало гибелью и забвением.
Стояла пасхальная ночь. Слабое лунное сияние не мешало звездам мерцать, посверкивало на высоких водах Днестра, на легко и забвенно звенящих льдинах, уносимых течением. Андрей провожал меня вдоль берега, я нес, как драгоценность, книгу Ренана, которую дали мне на несколько дней.
Время остановилось. Я почти переписал всю книгу, я упивался блестящим даже в переводе языком Ренана, нежными, как пастель, пасторально-пасхальными описаниями ландшафтов Палестины – Галилеи, Иудейской пустыни, Иерусалима. Это щемяще перекликалось со звенящими, как пение жаворонка, строками «Песни песней», которые заставлял меня заучивать наизусть в оригинале обучавший меня ивриту за скудные мамины гроши приходящий к нам домой ребе.
За окнами трещал ледоход. Жизнь у великой проточной воды тайно вкладывает в человека причастность к текучести мира, тягу к далям и тысячелетиям. Наши с Андреем дома были окраинными и навсегда вложили в нас тайное ощущение, что за окраиной города – край мира. Слово «провинция» пахло Римом. «Овидий» был дуновением воздуха, печалью оторванности от рая, так знакомой моей иудейской душе. Отголосками Рима вставали какие-то холмы на юге Бессарабии, называемые Траяновым валом. Эти влекущие текучие воды, дальние холмы зелени, погруженные в синевато-алую ауру последних отсветов заходящего солнца, две книги: библейская – «Коэлет» (Екклесиаст), выученная мною наизусть на иврите, и книга Ренана, почти целиком переписанная, – и были моими главными воспитателями в те годы.
Приближаясь к текучим водам, я всегда испытывал волнение, ибо в них таилась моя скрытая связь с дальним миром, последняя серьезность и гибель: они могли меня нести или швырнуть на дно, если бы я не раскрыл тайны плавучести. Чувствовать себя как рыба в воде может лишь существо, слитое с природой. И в этом я завидовал товарищам по классу, которые плыли и дышали в жизни с бесшабашностью зверенышей. Слитый с природой звереныш – тоже роль в определенном жизненном ряду: в него вливаются и выпадают, сыграв свою роль.
Какую же я играл роль и в каком жизненном ряду?
Наперед зная, что своей причастностью к еврейству буду оттеснен к обочинам потока, я уже с тех отроческих лет чувствовал еще смутную, но такую цельную прелесть отторженной от потока раковины. Лежит она на плоской широкозабвенной отмели, убаюкиваемая то ли рокотом волн, то ли ропотом молитв моих предков, и они столь же загадочно влекущи и непонятны, как и набегающие волны, каждой паузой подчеркивающие мою мимолетность и свое бессмертие.
Несомые волной мимо меня даже не замечают отброшенной в сторону раковины. Некоторые из наиболее шустрых моих соплеменников успевают проскочить в потоке, стереться, быть вышвырнутыми на отмель и бессмысленно оплакивать собственную резвость.
Лежу часами на отмели, блаженно загораю, не отрывая взгляда от скользящих с усыпляющим шорохом вод. Или же внезапно вскакиваю как угорелый, ношусь с мальчишками намного младше меня, играю в кости, в лянгу, железным прутом катаю ржавое колесо, останавливаю, качу в обратную сторону, подбрасываю. Может ли кто так управлять колесом Фортуны? Моей судьбы. Недолго мне остается, чтобы это узнать: увидеть в упор ее равнодушно-жестокое лицо.
А пока день долог, солнце середины лета, середины века, высоко стоит над нашим слегка покосившимся саманным домиком, во дворе которого я в сооруженном мною шалаше перечитываю выписанные из Ренана фрагменты. Именно своей незавершенностью они кажутся мне более загадочными и притягательными. Они ведь отобраны мной, созвучны моему душевному любопытству: вырванные из контекста, они выдают мне желаемую мной глубину и направление мысли.
Сладкая печаль медленно текущего, почти неподвижного времени столбом колышется над головой. Время измеряется лишь песнями бабушки: ее тонкий голос доносится из кухни, впервые так чисто, на всю жизнь, оседая в извилинах моего слуха и памяти.
Фаргес шин гур дейм дор фун фриерт,
Вос едер мейнт фар зех алейн.
Аби дейм гриеб шлист цу ди тиер,
Лейгт мин ойф им дейм шверн штейн.
Алес зейн мир фулэ шулем,
Вифл дойрес зей зэнэн гивейн,
Фаршвинден зэнэн зей нор азой ви а хулэм,
Сэ ништу кейнер фун зейр гибейн.
Азой штарбн райх ин урэмс
Ун азой верт фун зей а соф,
Ун ойф зэйре олтэ квурэмс
Ваксэн найе дойрэс соф.
Найе дойрэс, найе дойрэс,
Найер гевир, а найе елт,
Найе дойрес, найе ацугес,
Найе цорес, а найе велт.
В эту песню вкладывается весь мой опыт через многие десятилетия жизни, начатый строкой из Екклесиаста «Суета сует – все суета».
Забудь поколение, что было раньше,
Где каждый думал лишь о себе,
Как только дверь замыкает яму,
Кладут на нее тяжелый камень.
Все это мы видим,
полные покоя и умиротворения,
Сколько было поколений.
Исчезли они. Как сон
И костей от них не осталось.
И так умирают богатый и бедный,
Таков их конец.
И на старых их могилах
Вырастают новые поколения.
Новые поколения, новые поколения,
Новый богач, новое общество,
Новые поколения, новые представления,
Новые беды, новый мир.
Андрей все еще рисует Ван-Гога в образе Христа, мать его перечитывает лоскуток письма от отца, пришедший из Сибири, шевелящейся миллионами обреченных в мертвых лежбищах ГУЛага. В безмолвном уголке моей памяти заложен запрет: не упоминать имени Сталина. Но я не по годам хитер. Вокруг того безмолвного уголка крутится услышанное мной выражение, ставшее панацеей на всю жизнь: «Кладбища полны людьми, без которых мир не мог обойтись». Сквозь это выражение, как через перевернутый бинокль, я буду с удивлением глядеть на таких маленьких, таких беснующихся в горе, плачущих по умершему тирану людей, тайно испытывая радость вырвавшейся из его когтей жизни.
Сидя рядом с Андреем и его матерью, я в который раз листаю книгу Ренана, ибо пользоваться ею можно, не выходя из дома ее владельцев, Андреевых теток, совсем стареньких аккуратных русских интеллигенток.
Ренан ведь тоже порвал с церковью, видит в Иисусе живую личность, гениального еврейского проповедника. И все же Ренан – это как прививка в нужное время, спасающая, как от кори или скарлатины, от злостного яда изучаемых нами в школе французских просветителей – Гольбаха, Гельвеция и иже с ними во главе с Вольтером, стрелявших из мощных «атеистически-материалистических» пушек по воробьиному племени евреев. Воробьев, суетливых, вездесущих, клюющих чужие крохи, в окружающем меня не только простонародье и называют «жидами».
Скитающаяся в мире тайна
Потому Ренан льет мне бальзам на душу, называя раннее христианство исключительным, по его мнению, творением еврейского гения, считая, что два духовно гениальных народа – Израиль и Греция – сформировали европейскую, по сути, мировую цивилизацию, а Рим лишь способствовал универсализации достижений греческого и еврейского духа. Меня не смущает, что греков он ставит выше евреев, арийцев считает высшей, а евреев – низшей расой (хотя и скребет на душе), все же ставя их обоих выше всех других народов. Ведь в своей пятитомной «Истории израильского народа», некоторые тома которой в русском переводе (Санкт-Петербург, 1908-1912) я сумею в дальнейшем обнаружить, рыща, подобно ищейке, по букинистам и книголюбам, он пишет: «След, оставленный Израилем после себя, будет вечен. Израиль был первым, давшим форму крику народа, жалобе бедного, упорным требованиям тех, кто жаждет справедливости».
Блестящий стилист, Ренан перевел на французский язык библейские книги – Иова, «Песнь песней» и любимого мной, вбитого мне в память ребе на всю жизнь Екклесиаста, восторженно отзываясь об этих книгах. Да, Ренан считал, что евреи ничего не внесли в науку, политику, изобразительное и драматическое искусство, философию, но они первыми отличили звуки человеческой речи, застолбив их двадцатью двумя знаками и дав толчок мировой литературе, первым шедевром которой была Книга Книг. Именно евреи принесли арийским (индоевропейским) народам понятия добра, истины, справедливости.
Особенно потрясла меня тогда мысль Ренана о том, что иудаизм в своем изначальном чистейшем виде никогда не опускался до того, чтобы обуславливать праведную жизнь обещанием воздаяния, вознаграждения по ту сторону жизни. Это было, по мнению Ренана, одной из высочайших основ иудейской религии, потерянной выросшими из нее другими мировыми религиями.
Слезы выступали на глазах при чтении этих фрагментов, поддерживая, подобно глотку живой воды, в те годы духовно скудного, по сути, почти мертвого существования.
Все то, что мной не принималось в Ренане, я держал в уме, не пропуская в сердце, не записывая в конспект. Однако, как потом оказалось, эти прорехи, эти «черные дыры» несли и несут в себе как бы концентрированную основу французской интеллектуальной мысли в отношении еврейства – в общем, и евреев – в частности. Через много лет, но еще в тираническом окружении, также тайком прочитал в «Докторе Живаго» слова автора о еврейском народе, вложенные в уста Симы Тунцовой: «Национальной мыслью возложена на него мертвящая необходимость быть и оставаться народом и только народом... В чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько ни в чем не повинных стариков, женщин и детей, таких тонких и способных к добру и сердечному общению?.. Отчего властители дум этого народа не пошли дальше слишком легко дающихся форм мировой скорби и иронизирующей мудрости? Отчего, рискуя разорваться от неотменимого долга... не распустили они этого, неизвестно за что борющегося и за что избиваемого отряда?..»
И далее. Они (иудеи) «...не могут подняться над собою и раствориться среди остальных, религиозные основы которых они сами заложили и которые были бы им так близки, если бы они их лучше знали».
Прочитал и подумал о том, что всеми нами обожаемый поэт Борис Пастернак ужас как вторичен. Просто раньше многих из нас читал Ренана в оригинале: «В Истории нет более странного зрелища, чем зрелище этого народа, превратившегося в привидение, – народа, вот уже тысячу лет потерявшего чувство дела, не написавшего ни единой страницы, достойной прочтения...» Ренан прямо говорит, что после возникновения христианства существование еврейского народа потеряло всякий смысл. Давшая плод и ставшая сухой ветвь должна отпасть от древа мировой цивилизации.
Ренан был властителем дум, «гуру» своего поколения. Его влияние на французскую интеллектуальную мысль ощутимо по сей день. Именно мысль такого выдающегося ученого и историка (пусть и с немалой долей псевдонаучности) о бессмысленности существования народа Израиля, стала орудием в руках французских антисемитов любых мастей, вкупе с батареей просветителей создав с трудом отразимую артиллерийскую мощь, направленную против еврейства.
Пастернак так поэтично воспел «православие» в «Стихотворениях Юрия Живаго» (часть семнадцатая романа). Обращение же Пастернака к еврейству усугублено скрытым комплексом принадлежности к этому «народу» или «народцу» (выражение Ренана). И тут в дело идут самые неприязненные, скудные, даже примитивные слова. Если положить сказанное Пастернаком на некие весы, то на одной чаше окажется тысячелетняя трагедия и величие «кровавого и богоизбранного» чуда, «малого народа» (выражение антисемита-интеллектуала Игоря Шафаревича), зародившегося в заброшенном уголке Передней Азии. Одни называют его «скитающейся в мире тайной», иные – «скитающейся в мире истиной». На другой же чаше – чьи-то слишком уж человеческие «выгоды», непонятное, чуть ли не детское упрямство, чувство долга, питаемое отнюдь не «великими концепциями».
Но особенно комично в шестьдесят седьмом году, когда в один из шести дней потрясшей мир Шестидневной войны я добрался до ренановской «Истории израильского народа», звучали слова Ренана, уверенного в абсолютной и неотвратимой правильности своей «великой концепции», определяющей будущее мира: «Израиль никогда не создаст ни государства, ни философии. Он никогда не будет иметь развитой светской литературы».
Уже давно с трагической триумфальностью шествовали по миру писатели еврейского происхождения – Кафка и Пруст, считающиеся вместе с Джойсом основоположниками мировой литературы XX века. Государство Израиль уже существовало двенадцать лет. Гениальный Мартин (Мордехай) Бубер, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, стал одним из столпов философии экзистенциализма, построенной на основах иудаизма. Шмуэль Йосеф Агнон уже год как был лауреатом Нобелевской премии по литературе.
Еще при жизни Ренана, умершего в 1892 году, клятвенный антисемит Дрюмон выпускает памфлет «Еврейская Франция» (1886). Он уверенно пишет о том, что во всех бедах и катастрофах, свалившихся на Францию, виноваты евреи. Виноваты и справа (франко-прусская война, сыпавшая потоком деньги в мешки еврейских банкиров и буржуазии), и слева (евреи – коммунисты и анархисты, принесшие проклятие Парижской коммуны).
Дрюмон преднамеренно забывает, что на проигравших войну французов пруссаки наложили контрибуцию в 5 миллиардов франков и только благодаря Ротшильду, возглавившему синдикат французских банков, долг этот был выплачен.
Памфлет весьма пришелся по душе народу. По всей стране стали множиться отделения Антисемитской лиги.
Думаю, Ренан не мог себе и представить, что через считанные годы после его смерти антисемитизм достигнет апогея в деле Дрейфуса(1895), Все аборигены – от социалистов до монархистов – будут открыто и злобно нападать на евреев. Республиканцы подольют масла в огонь, предостерегая французов от «жидовского нашествия». Слово же в защиту евреев вызвало эффект разорвавшейся бомбы. «Я обвиняю» Эмиля Золя (январь 1898-го), когда всем уже было понятно, что Дрейфус невиновен, вызвало волну погромов (Париж, Нант, Бордо, Марсель, Ангулем). В Латинском квартале студенты громили лавки и магазины евреев, избивали прохожих, похожих на «жидов».
Французские офицеры-артиллеристы, которые, в отличие от батарей просветителей и публицистов, держали в руках истинную артиллерию, прославленную со времен Наполеона при взятии Тулона, открыто обратились к командованию с профессиональным предложением: испытать новые виды орудий на ста тысячах французских евреев. В черном антисемитском деле конца XIX века французы были первопроходцами, давшими пример нацистам через тридцать с чем-то лет в избиении евреев во всех городах Германии после поджога рейхстага. Оправдание Дрейфуса привело к тому, что антисемитизм на некоторое время пошел на убыль, но из песни слова не выкинешь, если прибавить к ней куплеты времен Второй мировой войны, правительства Виши, уже не говоря о новом витке антисемитизма в связи волной иммигрантов из мусульманских стран, внесших новый элемент в дело любви французов к «французам», то бишь евреям.
Антисемитизм во всем мире скуден на выдумки: пара кровавых наветов, которая безотказно работает вот уже тысячелетия. И это столь же удивительно, как и вошедшее в сущность евреев за эти тысячелетия умение смиряться с унижением, издевательством, избиением и, главное, убиением, строить снова свою жизнь на пепелище и еще петь «песни благодарности», душевно переживать за судьбы своих «несчастных» притеснителей.
Веками складывающийся французский национальный характер породил интеллектуальную элиту, начиненную изрядным зарядом позитивизма и анархизма, поисками какого-то своего Бога в обход религии. Она питала особую ненависть к христианству, ввергая периодически народ в кровопускания, называемые революциями – малыми и великими, в которых, как всегда, первыми козлами отпущения были евреи. Именно она изобрела машину смерти – гильотину и даже гордилась этим мерзейшим изобретением – обезглавливанием. Она традиционно была враждебна еврейству, как бы нехотя (в значительной степени благодаря Ренану) отдавая ему должное.
Французской интеллектуальной мысли по сей день присуща неубедительно упрямая бравада атеизмом с явно ощутимым налетом этакого летуче-балетного легкомыслия.
Самым честным и бесстрашным среди них был рано ушедший Альбер Камю, еще в годы повального увлечения СССР назвавший марксизм преступным, ибо он требует жертв во имя будущего, которое неизвестно.
Французские интеллектуалы-постмодернисты в «еврейском вопросе» придерживаются концепции Ренана, в нашу бытность подхваченной Пастернаком. Я уже упоминал французов и «французов» (евреев). Французские постмодернисты делят нас на просто евреев – живых людей и «евреев» в кавычках – как метафизическое понятие. Просто евреев они видят сквозь чудовищную призму Катастрофы, принимая ее, как никакой другой народ Европы, близко к сердцу, быть может, еще и потому, что это совершили немцы («боши»), неприязнь к которым, а то и прямая ненависть не гаснут по сей день, несмотря на все уверения в совершеннейшем почтении.
Не кто иной, как французский еврей Клод Ланцман создал многочасовую документальную ленту – истинно живой памятник Катастрофе, назвав свою работу «Шоа», после чего в лексикон всего мира вошло это слово.
«Евреи» же, как метафизическое понятие, по мнению французских постмодернистов, – это народ без своего пространства и времени, изгнанный в мучительное прислушивание к голосу Бога и охваченный отчаянием: ведь никогда не слышит, что Он говорит.
Этот народ неприручаем к имперской страсти обретения власти. Этот народ не дает миру залечить мучительную рану незавершенности. В отличие от других народов, которые являются заложниками жизни, «евреи» являются заложниками Бога. Их верность Его закону и долгу перед Ним делает их вечными должниками. Задолженность эта висит над ними неотменимой тяжестью, требуя все время новых жертв. Потому евреи замкнуты в порочный круг, из которого невозможно выбраться.
Как истинные «заложники жизни», французские интеллектуалы пропускают мимо сознания Кафку, который в романе «Процесс» убедительно показал, предвидя тотальный тоталитаризм, надвигающийся на Европу, что никому, кроме «титульной» на данный момент нации, не удастся избежать в будущем приуготовляемой евреям участи.
То, что Ренан считал высшим достижением иудаизма – соблюдение праведности без воздаяния, – постмодернисты считают серьезным дефектом «евреев». По ним, христианский (языческий) Бог тем и силен, что является Богом хлеба, вина, почвы и крови. Бог же «евреев» – это Бог «нечитаемой книги». Он требует почтения и жертвоприношения.
У «евреев» нет эстетики, а есть постоянное пережевывание частных историй.
«Евреи» – народ ожидания, но, по язычнику, ожидание не может быть вечным и созидательным. Ожидание наперед лишает возможности «прорыва». Опять возникает Хайдеггер, своим «прорывом» не дающий покоя французским интеллектуалам.
Нам очень знакомы прорывы, каждый раз приносящие лишь большую кровь и гибель, а затем запоздалый приход в себя после кровавых вакханалий. «Евреи» всегда жили в ожидании, ибо кто-то должен его хранить, хотя это – вовсе не ожидание – а верность тому, что на опыте тысячелетий не подводило.
Как же, как же, христианский мир в тревоге, что ничего не происходит. А что должно происходить?
Тайна «евреев» в том, что все уже произошло. На Синае.
Тайна «евреев» в тяжести и безмолвии взятого на себя обета.
Не в страсти, не в кровопролитии, а в спокойном понимании страдания, называемого жизнью, больше прочности вызванного к существованию живого мира.
С другой же стороны, «евреи» – кочующий ген мира. Да, сегодня, после падения советской империи на востоке Европы, нет народа, который не был бы подвержен эпидемии кочевья. Но лишь «евреи», кочуя, все время плачут и клянутся в приверженности Земле обетованной, повторяя: «В будущем году в Иерусалиме!» И вновь их обвиняют в лицемерии.
Еврей везде одновременно приемлем и отвергнут.
Все государства озабочены своим будущим. Только евреи даже на своей земле позволяют себе в голос сомневаться в своем будущем, взбадривая своих недругов.
Единственно воистину великий вклад «евреев» в Историю современного мира французские постмодернисты, выступающие против «великих концепций» или «великих повествований» (так они их называют) прошлого, считают понятием, которое можно выразить в следующем виде – «Все великие спасители, даже мертвые, всего лишь самозванцы».
Глава третья
Французы и немцы
Французы и немцы
Реальность, движущаяся цепью событий, жестока и бесстрастна.
История же легче всего поддается давлению власти. Со временем новая власть дает Истории в той степени, которая не задевает ее, коснуться правды. Более объективны историки других наций, описывающие отдаленные от них времена, например, немецкий историк Моммзен, создавший выдающуюся историю Рима. Но и у него, быть может, в менее острой форме, чем у Иосифа Флавия, проскальзывают нотки назидания, мол, немцы, извлекайте уроки из истории вознесения и падения Рима.
Впервые в лоне европейской мысли в последней четверти прошедшего века французские постмодернисты выступают с тотальной уничтожающей критикой Истории.
Тотальность в желании овладеть миром отражает опасное стремление души дойти до предела, которое, в лучшем случае, безумие, в худшем – чудовищный залог будущей катастрофы.
Тотальность в желании разобраться с этим безумием похвальна, но тоже требует к себе необходимой доли скептицизма.
Наряду с выдающимися достижениями современной французской философской мысли, один из ее ранних корней несет – явно не поддающуюся разуму – ненависть к существующему буржуазному строю. Эта – в значительной степени – слепая ненависть заставляла левых радикалов, группировавшихся главным образом вокруг журнала «Тель-Кель», выступать под прикрытием неомарксизма.
Когда же обнаружилась черная бездна ГУЛага, они в 1968 году, в дни студенческих волнений, охвативших Францию, подняли красное знамя маоизма, приветствуя китайскую «культурную революцию», и вновь застыли в шоке при виде кровавых вакханалий этой «революции».
Но тотальность – это тот самый дурной пример для подражания, который весьма заразителен.
И вот уже наши домашние историки-постмодернисты приступили к тотальной деструкции собственной Истории, замахнувшись на все три тысячи немыслимых лет еврейского существования в мире.
Все это говорит об Истории как о весьма ненадежном инструменте.
Гораздо правдивей философия, не столь пугавшая даже тоталитарную власть, ибо выступала как бы «велеречиво и отстраненно». Вспомним, как мы читали, «зажав рты», в незабвенной (забыть это невозможно) юности статьи по философии, громящие западную философскую мысль с позиций марксизма-ленинизма на основе цитат из Ницше, Хайдеггера, Ясперса.
Но мы-то жадно вчитывались только в эти цитаты, благодарно понимая хитрость авторов статей. Цитаты эти, казалось бы, невероятно усложненные, отвлеченные, несли столь необходимый нам глоток свободы. Это напоминало байку тех дней: у посольства США ночью двое москвичей, оглянувшись, протыкают шину американского автомобиля, говоря: «Подышим воздухом свободы».
Весь текст, окружающий эти цитаты, был, по выражению Лотмана, «нуль-информацией».
Философия всегда выступает немедленной потребностью души, неся пусть совсем малую, но все же надежду в периоды явно ощутимого приближения к Катастрофе.
Так было в России 1920-х годов. И первые философы, стоящие на страже истины, среди них Николай Бердяев, Семен Франк, отец Сергей Булгаков, Николай Лосский, Лев Шестов (Шварцман), сумели вырваться из Совдепии или были высланы, избежав страшной участи русской интеллигенции, почти поголовно нашедшей смерть в мертвых лабиринтах ГУЛага. Бог ли, судьба ли хранила их, чтобы донесли они до наших дней факел истинной, не уничтоженной русской философии.
Так было в Германии 1930-х годов, когда представителям франкфуртской философской школы, ставшим впоследствии выдающимися философами XX века, – Теодору Адорно, Максу Хоркхаймеру, Герберту Маркузе, Эриху Фромму – удалось бежать из нацистской Германии.
В одном из последних, предсмертном стихотворении «Скифы» Александр Блок пишет:
Мы любим все – и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно все – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...
Себя же поэт, кровно связанный с западным символизмом Метерлинка, Грильпарцера, Верлена, с каким-то отчаянным вызовом человека, уже ощущающего, в какую гибельную трясину он погружается, причисляет к восточным варварам: «Да, скифы мы! Да, азиаты мы!.. Мы обернемся к вам своею азиатской рожей!..» Этот вопль из не изведанных им самим глубин его души еще ждет своего толкования.
Ему, открывшему поэму «Возмездие» строками – «Век девятнадцатый, железный, воистину жестокий век!..», не дано уже узнать, насколько век двадцатый будет чудовищно жестоким и кем для его России обернется «азиатская рожа», с усами и в крапинку.
Воспользуюсь весьма впечатляющей теорией «словесных игр» французских постмодернистов, одним из постулатов которой является, кстати, отрицаемая ими же бинарность. К примеру: бодрствующий Запад и погруженный в опасную спячку Восток. Воистину в европейском пространстве Франция – Запад, Германия по отношению к ней – Восток, высидевшая в своем тевтонско-нацистском сне вырвавшееся из «роковых яиц» чудовище. Россия же – совсем уже на Востоке, – спавшая столетиями, породила другое чудовище греческих мифов, пожиравшее миллионами своих же детей.
Но наступает судьбоносный час пробуждения, подведения итогов, длящийся десятилетиями.
Очнувшись, французы никак не могут справиться со своей Историей. И в бодрствовании и во сне их неотступно и навязчиво преследуют кадры «бошей» в глубоких касках, печатающих по-хозяйски подкованный шаг по Парижу за покачивающимся на тяжелом немецком битюге командиром, и составы с евреями, которые правительство Виши посылает в лагеря смерти. Они отлично помнят слова царя Креона в пьесе Жана Ануя «Антигона», написанной в Париже под стук немецких сапог и предательский голос Петена. По сей день, эта пьеса идет на театральных подмостках. «...Судно дало течь по всем швам, – говорит Креон. – Оно до отказа нагружено преступлениями, глупостью, нуждой... Корабль потерял управление. Команда не желает ничего больше делать и думает лишь о том, как бы разграбить трюмы, а офицеры уже строят для одних себя небольшой удобный плот, они погрузили на него все запасы пресной воды, чтобы унести ноги подобру-поздорову. Мачта трещит, ветер завывает, паруса разодраны в клочья, и эти скоты так и подохнут все вместе, потому что каждый думает только о собственной шкуре...»
Немцы, при всех своих достижениях и демонстрируемой на весь мир демократической бодрости, не могут по сей день выйти из состояния глубокой «резиньяции». Это слово, означающее некую покорность, смирение, уже как бы после раскаяния, отмечает современная немецкая философская мысль.
Россия с переменным успехом пытается и все никак не может «воспрянуть ото сна». Оказывается, фрейдистский феномен исторической «амнезии» и «анестезии» заключается именно в том, что «никто не забыт и ничто не забыто». Помню, каким для нас пробуждением от мертвого сна была живая вода книги Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Это был воистину «поиск времени», которое не просто было утрачено, а выглядело траченной тканью, превращенной в тряпье и выброшенной на помойку Истории.
Сегодня мы, осоловевшие от хлынувшей на нас за все последующие годы информации, почитаем эту книгу скучной и удивляемся тому потрясающему впечатлению, которое она тогда произвела на нас.
Затяжные приступы исторической амнезии
Очнувшись от мертвой спячки, мы обнаружили совсем неподалеку, за упавшим железным занавесом, французов и немцев, со своими «ящиками Пандоры», своими «безднами». Уже не первое десятилетие они худо-бедно пытаются выкарабкаться, цепляясь за скользкие от крови стенки собственных, их руками сотворенных Историй. Мы же в это время, на востоке, жили погруженные в чудовищный сон, под гнетом тоталитаризма, когда масса (ее нельзя назвать «народом») была одновременно возбуждена и подавлена. И мы оправдывали заполнивший наши духовные потребности страх неведением.
Такие затяжные приступы исторической амнезии не проходят даром, легко и бесследно. Естественно, что, очнувшись, мы не смогли узнать ни самих себя, ни соседей. Попытки диалога пока еще выглядят разговором глухих. А между тем речь идет об осмыслении общей европейской судьбы, которая за последние два века столько раз подводила.
И тут именно философия вторично за прошедший век обнаруживает самую большую чувствительность к Истории, выступая одновременно в трех лицах – обвинителя, защитника и судьи.
Выходит, что только она, современная философия, после провала в бездну, вправе предъявить иск Истории.
Речь идет о современной французской и немецкой философии и взаимоотношении между ними.
Если попросить любого интеллектуала, профессионально не занимающегося философией, вне зависимости от языка и культурной среды, в которой он обретается, назвать имена современных французских и немецких философов, он тут же выдаст несколько бронебойных имен. Назовет, положим, четыре немецких – Канта, Гегеля, Ницше, Хайдеггера. И три французских – Бергсона, Сартра, Камю. Тех, кто меня упрекнет в высокомерии, могу успокоить. Мы в СССР, были отрезаны от цивилизации Запада, и не наша вина, что мы практически ничего не знали о ней. Но трудно поверить в то, что современная французская философия почти вовсе не осведомлена о немецкой, а немецкая о французской – тем более. И это при полнейшей открытости между ними. А ведь вот уже более четверти века вышла на уровень мировой философии целая плеяда французских философов-постмодернистов. Среди них звезды первой величины – Жак Деррида, Мишель Фуко, Эммануэль Левинас, Жан-Франсуа Лиотар. За ними следуют Жак Лакан, Жиль Делез, Юлия Кристева, Бланшо, Бодрийяр, Батай.
В современной немецкой философии силен дух ушедшего из жизни в 1969 году еврея Теодора Адорно, вернувшегося сразу после войны из США в Германию, его ученика Юргена Хабермаса, Ханса Георга Гадамера, ученика и в определенной степени наследника Мартина Хайдеггера, Манфреда Франка, Макса Хоркхаймера. Особняком стоят их коллеги по франкфуртской школе, оставшиеся после войны в США и там обретшие мировую знаменитость, – Герберт Маркузе и Эрих Фромм (оба – евреи).
С момента окончания Второй мировой войны более тридцати пяти лет, до поздних восьмидесятых, немецкая философия, укрывшаяся в университетских стенах, под сенью великого философского насилия все тех же Канта, Гегеля, Ницше и Хайдеггера, не удостаивала вниманием французскую школу постструктурализма, кажущуюся ей легким оружием по сравнению с тяжелой артиллерией германской философии. Смущало ли их то, что эта артиллерия наделала в Европе? Выводил ли их из себя факт, что именно французский постмодернизм предъявил иск «нацистскому мифу», занявшись его деструкцией, чтобы обнажить его корни?
Немецким философам оставалось забиться в темный угол. В состоянии депрессии они замалчивали достижения французского постмодернизма. Но, при этом, напряженно, (это обнаружилось позднее), следили за тем, как французская философская мысль разворачивает их немецкое прошлое. А именно, то «чудовищное, омерзительное, непостижимое», которое я назову «бездной Шоа-ГУЛаг» и чему посвящена эта работа – «Иск Истории».
Но для них, немецких философов, это ведь «кровное», которое хочется не исследовать, а забыть или, во всяком случае, сделать вид, что после операции с длительной анестезией больной вылечился и стал другим.
Вообще-то и, главным образом, в течение последних трех веков немцы с особым интересом и тайной завистью следили за французской философией (Париж ведь законодатель не только мод), а французы, в свою очередь, с не менее скрытым интересом припадали к работам «левиафанов немецкой философии». Но обе стороны делали вид незаинтересованности друг другом, не чураясь, кстати, профессиональных контактов, опять же, неизвестных широкой публике.
Французы и немцы в древности составляли один этнос – франков. Затем разделились по языковому признаку. Народ – это язык. На западе Европы говорили на испорченной латыни, ставшей французским языком, на востоке один из диалектов стал немецким. На этой языковой почве выросли различные корни двух этих народов, корни достаточно горькие, с немалым привкусом неприязни одного к другому, с периодами откровенной ненависти, что не раз приводило их к столкновениям, в которых побеждал то один, то другой, в свою очередь, топча побежденного.
Не отрицая того, что их цивилизации были созданы евреями и греками, философы предпочитали греков, памятуя, что иудаизм был проглочен христианством, как пророк Иона китом.
Два крупнейших немецких философа прошедшего века – Гуссерль и Хайдеггер считали, что греческое слово «философия» прежде всего, определяется рамками Эллады (Греции). Эллинская в своей изначальной сущности, она в полноте и глубине своей осуществляется лишь в тех – эллинских – рамках. Она и определяет глубинное развитие и развертывание западноевропейской Истории и философии. Как французские, так и немецкие историки и философы усердно паслись на землях Эллады – в прямом и переносном смысле (вспомним хотя бы Шлимана, раскопавшего Трою) – в поисках тех корней, из которых можно было извлечь то, что поможет сотворить национальный характер, а точнее, идентификацию каждого из этих народов.
Французы видели себя наследниками классической Греции, прошедшей через горнило Рима и Возрождения, Греции прекрасных форм Фидия, ясности и соразмерности, короче, той Греции, которую немец польского происхождения Ницше назвал позднее «аполлонической».
Еще раньше, в конце XIX столетия, «отцы» спекулятивного идеализма Георг Вильгельм Фридрих Гегель, романтической филологии – Фридрих Вильгельм Шеллинг, романтической поэзии Фридрих Гельдерлин открыли не одну, а две Греции, и вторая отличалась буйством, пьянством и свальным грехом в честь бога Вакха, мистическим культом мертвых, в определенной степени заимствованным у древних египтян. Эта опасная и в то же время заманчиво влекущая раздвоенность прослеживалась в поэзии Гельдерлина, в гегелевской «Феноменологии духа». Ницше дал этому буйству имя – «дионисийство», и на этих двух весьма прочных костылях – аполлоническом и дионисийском – ворвался в немецкую философию, еще размеренную шагающим по Кенигсбергу Кантом, по которому сверяли часы на ратуше, и Гегелем, который с самоуверенностью мегаломана утверждал, что «все действительное разумно и все разумное действительно».
Комплекс вторичности
Продолжая параболу о Западе, опережающем Восток, можно сказать, что Франция, считающая себя прямой наследницей античности, Рима, выросшей из романского корня, в значительной степени определила свою идентичность. Она почти на два века опередила в этом Германию, с напряженностью шизофреника ищущую свою национальную идентичность.
Источником поисков была та же Эллада.
Подражая Франции, Германия признавала свою вторичность. Взять за основу вторую Грецию – Грецию мистерий и вакханалий означало расписаться в собственном безумии, тем более что эта вторая – распоясавшаяся, возведшая пьянство и гомосексуализм во главу угла Греция и подвела черту под собственное существование.
Но можно ведь это прикрыть пеленою мифа. Можно искать свои корни в греческом языке, находя в немецком много общего с ним.
Филология становится главенствующей в начальных поисках идентификации. Немецкие лингвисты отыскивают присущие обоим языкам особые способности к символизации и строительству мифа. Мы уже знакомы со страстью неофитов, изучающих, к примеру, иврит, находящих в нем корни русских слов вплоть до попытки доказать, что русский язык вообще возник из иврита. Оказывается, в иных условиях, с иными притязаниями эта вызывающая неловкость, порой недоумение страсть может оказаться роковой в судьбе народа, а то и человечества.
Ницше и вовсе облагораживает вторую, безумствующую Грецию в своей ранней работе «Рождение трагедии из духа музыки». Дух музыки несет в себе слияние. В нем диалектически сливаются аполлонические и дионисийские начала в гегелевском единстве противоречий. Первое сглаживает буйство второго. Второе дает энергию слишком «оформленному» первому, изливаясь в трагедиях, укрепляя дух народа перед лицом смерти и против смертельного распада под влиянием восточного мистицизма.
Тут уже и разгадывать не приходится: речь идет о борьбе арийского и еврейского начал. Последнее, по Ницше, породило разлагающее Европу христианство. Несмотря на то, что Ницше говорит о еврейском народе даже уважительнее, чем Гегель, ядовитые семена будущих катастроф уже брошены в почву.
Геологический разлом, черная дыра, «бездна Шоа-ГУЛаг» расколет мир людей надвое, и вместе с ними Историю и философию. Все, что было по ту сторону разлома, будет уже навечно идти под отрицательным знаком преступной самоуверенности, чуть не поставившей все человечество на грань самоуничтожения.
Частичка «пост» в словах «постмодернизм» и «постструктурализм» впрямую говорит о мире после «бездны Шоа-ГУЛаг».
Французские постмодернисты берутся за исследование «нацистского мифа», ибо сами испытали влияние Канта, Гегеля, Ницше, Маркса, Хайдеггера. Они берутся за это, чтобы понять, как эти «великие концепции» привели к такому страшному результату.
Если мир этот – упорядоченный, уравновешенный, классически рассчитанный, просвещенный, освещенный, освященный, просвеченный разумом, – может выдать из недр своих такой чудовищный взрыв, разинуть пасть такой бездны, как «Шоа-ГУЛаг», то его, этот мир, следует деструктировать до основания, чтобы понять, как это случилось.
Это даже главнее, чем возводить мир заново, что и делают политики и власть, строя себя на обломках прошлого, впитавших в себя яд той бездны.
Кто-то должен взять на себя это неблагодарное, но единственно благородное дело.
Здесь процесс важнее, чем результат, ибо движение анализирующей мысли и чувства потрясения не должно, не имеет права погасать, ослабевать, заболевать болезнью Альцгеймера или вызывать оскомину бесконечными приходами в тупик.
Немецкие философы как бы исподволь, но с большим интересом вглядывались в зеркало, которое поставили перед ними французские постмодернисты.
Один из известных современных немецких философов Манфред Франк прямо признается, что критическое осмысление «скомпрометированной фашизмом домашней традиции» шло через освоение постмодернистского мышления Франции, «вовлекаемые в круг обсуждения тексты прошли через руки французов и тем самым избавили вторичное освоение этих текстов немцами от морально-политической цензуры».
Но современная немецкая философия была придавлена слишком тяжким наследством последнего из великих немецких философов Мартина Хайдеггера. А он с присущей ему вкрадчивой категоричностью выступал против западного рационализма, философии языкового анализа, составляющего главную ось постструктурализма, против неомарксизма франкфуртской школы, апологетами которого выступают Теодор Адорно, Герберт Маркузе, Эрих Фромм.
В 2003 году по-буржуазному сытая Германия, все еще изживающая травму своего нацистского прошлого, с большой пышностью отметила столетие со дня рождения крупнейшего немецкого философа прошлого века, причем неомарксиста, как-то закрывавшего глаза на вторую часть формулы «Шоа-ГУЛаг». Речь идет о Теодоре Адорно, который в миру был евреем Теодором Визенгрундом. Но именно ему принадлежит фраза, ставшая не просто афоризмом, а знамением XX века.
«После Освенцима искусство невозможно»
Через Освенцим (Аушвиц), рассекая не только Европу, а весь мир, проходит непреодолимая пропасть. Такую чудовищность не мог изобрести человеческий разум. Были войны, лагеря, массовые уничтожения. Но только безумие может выпестовать идею уничтожить целый народ в кичащейся своей философской продвинутостью Европе, и совершить это весьма результативно, грубо основываясь на телефонных книгах, проверке обрезания и, главное, на испытанном способе человеческой подлости, смутно обретающейся в сознании европейских народов: доносить на евреев не зазорно.
И не было необходимости в клейме, которое в древности ставили рабам на лбу или плече. Ненависть, мелкодушие, корыстолюбие, жажда грабежа действовали безотказно.
Только сегодня, через полвека, обнаруживаются чудовищные масштабы этого грабежа. Причем наследники грабителей всех наций и мастей весьма обижаются, когда им об этом напоминают. Говорят, что это даже является одной причин новой волны антисемитизма.
«После Освенцима искусство невозможно», – говорил Адорно в той самой послевоенной Германии, где комендант Освенцима Гесс издал книгу с трогательным названием: «Моя душа, воспитание, жизнь и переживания», полную сентиментальных рассуждений о том, сколь мучительна была необходимость убивать миллионы женщин и детей ради того, чтобы «на земле было больше порядка. Неприятно, конечно, но необходимо».
Именно Адорно, о котором более подробно мы поговорим ниже, иронично и едко расправляясь с Гегелем и его «мировой историей», основанной на принципах разума и свободы, показал историю Европы XX века, как патологический процесс безумия.
Адорно уже был зрелым ученым, когда в 1939 году совершилось еще одно событие, наряду с началом Второй мировой войны: вышел в свет незаконченный роман Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану», в котором История определяется как сон пьяного трактирщика Ирвикера.
Считают, что выход в свет этого романа ознаменовал возникновение постмодернизма. Этот феномен лишь в 1980 году анализирует Кристофер Батлер в своем труде «После «Поминок». Эссе о современном авангарде».
В 1939 году европейская История была втянута в гибельный водоворот безумия. Бежавшему из Германии Адорно было 36 лет. Французу Мишелю Фуко было четырнадцать, а французу еврейского происхождения Жаку Деррида – девять.
Именно они, крупнейшие философы постструктурализма второй половины XX века, оказались в одной связке с идеями ставшего намного позже им известным Адорно, ибо идеи эти витали в тлетворном воздухе приходившего в себя от смертельной болезни времени.
Неомарксист Адорно, не испробовавший судьбы ГУЛага, но честный в своих исследованиях, утверждал, что любой стандартизированный язык (вспомним советский канцелярский, да и литературный волапюк) служит средством утверждения господствующей идеологии, направленным на приспособление человека к существующему строю. В этом ему виделся особый род стандартизированного «безумия», социального по своей сущности, ибо оно манипулирует сознанием масс.
Теме социального безумия 1960-1970-х годов, когда Советы, то, приподымаясь (хрущевская оттепель), то, вновь проваливаясь (брежневские годы), пытались как-то выбраться из сталинистской зловонной трясины, теме никем даже не предполагаемого в фантасмагории Исхода евреев, посвящен мой роман «Лестница Иакова» (1984).
Главный герой романа психиатр Кардин пишет «в стол» работу о шизофрениках и неврастениках, держа в памяти анекдот о том, чем отличаются шизофреники от неврастеников. Первые уверены, что дважды два – пять, и не только абсолютно спокойны, а делают это основой своей государственной политики. Вторые знают, что дважды два – четыре, но это их страшно нервирует. Невроз этот ведет их в диссидентство.
Мишель Фуко, о котором тогда мы и знать не могли, выпускает одну из ранних своих книг «История безумия в классический век» (1962), затем переработанную в ставшую знаменитой книгу «История безумия»(1972).
Своим совершенно оригинальным толкованием Истории он резко и последовательно выступает против поступательного ее развития, доказывая скачкообразный, кумулятивный характер исторических изменений. Именно это приводит к тому, что люди одной эпохи или системы абсолютно не понимают другие эпохи и системы. Тут не просто «непонимание», а – «разрыв».
Каждая система как бы замкнута в своем «безумии».
«Шоа и ГУЛаг» – два всеохватных абсолютных преступления XX века. И объяснения им надо искать в конкретном историческом характере конвенций, условностей, слепых сил инстинкта, уверенного в себе интеллекта, по сути, уже впавшего в безумие и не в силах сойти с пути заблуждений и прямого преступления. Этот сложный характер и ложится в фундамент обоснования и оправдания своих поступков как отдельным человеком, так и целым народом.
Достаточно спорная во многих своих пунктах, концепция Истории Мишеля Фуко излагается автором (он умер в 1984 году) столь увлекательно, с таким интеллектуальным обаянием и убедительное по аргументации, с таким невероятным по силе желанием вывести человеческую Историю из тех пропастей, в которых она прозябает, что она пользуется огромным влиянием по сей день среди самых блестящих умов современности.
В любом случае Адорно ближе всех немецких философов стоит к постмодерну, пересекаясь с концепциями французов Фуко и Деррида, и потому как бы был отодвинут в сторону послевоенной немецкой философией, лишь в последнее десятилетие отчаянно пытающейся наверстать упущенное изучить французский постмодерн и постструктурализм, ставшие уже неотменимыми явлениями в современной мировой философии, главным образом в своем толковании политической Истории мира и Истории как «тотального текста» (мгновенно возникает мысль об ином, знакомом всему миру тотальном Тексте). Сегодня ясно, что идеи французских постмодернистов оказали и оказывают немалое влияние на английскую, американскую и русскую современную философскую мысль.
К сожалению, до борьбы идей, составляющих истинную основу философии, далеко.
Французы, в общем-то, игнорируют то, что происходит в современной немецкой философии. Одна часть немецких философов впадает в самозабвенное, безоговорочное подражание французам. Другая часть громит своих противников, однако аргументы их показывают, что они весьма поверхностно знакомы с объектом критики. Как говорит Манфред Франк, «обе реакции наводят на мысль, что их мотивацией является травматический опыт».
Французские современные мыслители, упомянутые мной выше, при разработке своих концепций все время обращаются к столпам старой немецкой философии – Канту, Гегелю, Ницше и особенно Хайдеггеру, деконструируя их, апеллируя к ним в защиту своих построений или ниспровергая.
Немцы же, являясь законными наследниками своих «отцов философии», занимают вокруг них круговую оборону, косвенно, любыми путями отбивая обвинения в том, что отцы эти впрямую виноваты в безумии, поразившем Германию в середине прошлого века.
Вся их защита априорных положений о разуме, свободе, совести в кантовском стиле даже сегодня, через почти полвека, не очень-то убедительна. Она-то и не дает им возможности вырваться из осады.
А просто заняться деконструкцией своего философского наследства, как это делают французы, мешает им застарелая боязнь вновь оказаться вторичными.
Но есть все же надежда, что, отказавшись от претензий «отцов философии» на универсальность и уверенность в праве учить весь мир, как это делал Гегель, современная немецкая философия осторожно нащупывает новую тропу (вспомним «лесную просеку» Хайдеггера) в будущее.
Глава четвертая
Казус Ницше
Евреи и немцы
За два года до апоплексического удара и потери рассудка, Фридрих Ницше впервые открывает Федора Достоевского. Он пишет другу: «…Еще несколько дней назад я не знал даже имени Достоевского – необразованный человек, не читающий «газет»! При случайном посещении книжной лавки мне бросилась в глаза только что переведенная на французский книга «l”esprit souterrain» («Записки из подполья») – столь же случайно было это со мной в возрасте 21 года с Шопенгауэром и в 35 лет со Стендалем. Инстинкт родства (или как это еще назвать?) среагировал моментально…»
Прикосновение судьбы, словно кто-то ненароком притронулся к твоему плечу, всегда внезапно. «Его величество Случай», как говорил Стендаль, настигает средь бела дня в каком-нибудь суетном углу жизни.
Так было с книгой Ренана, обнаруженной мною в доме моего друга Андрея в школьные годы. На этот раз, в начале шестидесятых, случай обернулся рекомендованным друзьями фотографом, который должен был сделать для меня несколько снимков. Это был невзрачный человечек небольшого росточка, с узким ножевым лицом, горбатым носом, ранними залысинами, семенящей походкой. С лица его не исчезало выражение готового в любой миг ощетиниться слабыми коготками котенка, заблудившегося на внушающей ужас улице, беспомощного перед любым толчком и хищным желанием прохожих отфутболить его в сторону. Фамилия у человечка, который мог стать драгоценной находкой для антисемитов, была тоже необычной – Цванг. Он привел меня к себе домой, в нижнюю, старую часть Кишинева, где в одной из комнаток, а скорее, каморок соорудил студию. Дом был многоквартирный с дряхлой, скрипучей деревянной галереей, куда распахивались и, вероятно, даже на ночь не закрывались двери квартирантов. Я сразу заметил в углу этажерку с тонкими, не раз переплетенными книгами. «Можно взглянуть?» – спросил я хозяина, который все время суетился, что-то разыскивая, выходил и входил. «Пожалуйста» – сказал он.
И вот – среди шума провинциального дома, плача ребенка, запаха стирки, животного рева водопроводного крана в одной из квартир, перебранки на идиш, очевидно, старухи-матери с уже немолодой дочерью, которая на птичьи крики старухи отвечала время от времени одним пожеланием – «Митн коп ин дер вонт» («Головой в стенку»), – я извлек небольшую книжицу с ятями и твердыми знаками – «Фридрих Ницше. К генеалогии морали».
Вошел Цванг.
– Тут у вас Ницше, – осторожно сказал я, как будто речь шла об обнаруженной бомбе, – можно ее почитать… Ну, тут у вас… Я понимаю…
– Берите домой, читайте, – просто сказал Цванг, и это для меня равносильно было расставленной западне. Я ведь впервые видел этого человека. Но понимание, что другого такого случая не будет, что это подарок судьбы, пересилило гнездившийся в костях страх.
Слабо светила настольная лампа. Жена и сын спали, и над их безмятежными лицами витал покой. Во сне их слабо пульсировала незамутненная глубь жизни. Я читал Ницше, время от времени выходя на балкон. Над аллеей, тянущейся мимо дома, в замершем воздухе летней ночи одиноко мерцал фонарь. Идущие по аллее фигуры возникали из тьмы и тут же в ней исчезали, словно таящиеся во тьме вели какую-то свою чертову игру, выпуская жертву на свет и в следующий миг заглатывая опять. Я ощущал иглу в сердце и неотступный страх за дорогих мне существ, спящих рядом.
Я понимал, почему Ницше был холост и не имел детей. Подкладывая такой динамит под сложившийся и слежавшийся мир, нельзя ставить под угрозу близких.
Первым делом следовало отыскать портрет автора, который, судя по гениальному, но абсолютно неврастеническому тексту, представлялся мне неким подобием владельца книжечки Цванга. У него и оказался портрет Ницше, увеличенный фотографическим способом, словно Цванг пытался в нем что-то усиленно рассмотреть.
К моему удивлению, с портрета на меня глядел вислоусый, пухлощекий, жовиальный толстяк, помесь Тараса Шевченко и запорожского казака с картины Репина, этакий украинско-польский крестьянин, закусывающий горилку квашеной капустой. Когда я выразил это свое удивление Цвангу, он усмехнулся, ушел в какой-то чуланчик и принес мне целую горку книжечек Ницше. Думаю, обнаружив клад с золотом, я бы не испытал такого шока.
Я понимал, что неспроста этот маленький, кажущийся таким беспомощным в своей молчаливой демонстрации собственного достоинства, еврей Цванг добывал сочинения Ницше. Я, как и он, всю жизнь испытывал унижение, связанное с моим еврейством. Мне, как и ему, не давал покоя простой, но неотступный вопрос: почему и как это немцы, в значительной степени создатели европейской философии и музыки, докатились до такой ничем не выразимой и не объяснимой чудовищности, уничтожив треть нашего народа. Имя Ницше впрямую связывалось с идеями нацизма.
Первым, что меня потрясло при чтении его книг – это его отношение к немцам и «немецкой душе». По Ницше, немец все время отчаянно мучается вопросом «Кто такой немец?» и «Что такое немецкое?»
Этот, я бы сказал, смятенный поиск идентичности был отмечен у литераторов и художников Германии задолго до Ницше. Они всегда, как черт ладана, боялись вторичности, из-за которой им не удастся стать вровень с «великим Искусством». Ведь даже одно из лучших «репрезентативных» достижений немецкого гения – перевод Лютером Библии на немецкий язык – по самой своей сути вторичен («Библия была до сих пор лучшей немецкой книгой», – говорит Ницше).
В поисках оригинального пути немецкие художники слова и кисти бросились в экспрессионизм. Но и это был, как писал немецкий философ-еврей, трагически покончивший собой с приходом нацистов, Вальтер Биньямин, отголосок эпохи барокко, в эпоху «воли к власти» обернувшийся «волей к искусству».
По Ницше «немец не есть, он становится (подчеркнуто Ницше), он развивается… Развитие… доминирующее понятие, которое в союзе с немецким пивом и немецкой музыкой стремится онемечить Европу».
Загадки этой души Гегель систематизировал, а Вагнер переложил на музыку. Оба, как мне уже было известно, весьма не любили евреев, а последний даже написал откровенно антисемитскую брошюру «Евреи в музыке».
По Ницше немецкая душа плохо переваривает события своей жизни и так называемая «немецкая глубина» чаще всего и есть только это «тяжелое, медленное «переваривание». Немец любит говорить о своей откровенности и прямодушии. Следующую цитату я переписывал с мстительным удовольствием, в ночные часы, под пение цикад в кустах под балконом, памятуя слова Мандельштама о том, что цитата есть «цикада»: звенит в ночи, а приближаешься – замолкает. Надо слушать ее издалека, тогда и обнаружится то главное, что притягивает твою иудейскую душу и поддерживает ее на поверхности текстового пространства.
«…Как удобно быть доверчивым и прямодушным! – Эта доверчивость, эта предупредительность, эта игра в открытую немецкой честности является в наше время опаснейшей и удачнейшей маскировкой, на которую способен немец – это его подлинное мефистофелевское искусство, с ним он еще может «далеко пойти»! Немец живет на авось, к тому же смотрит на все своими честными, голубыми, ничего не выражающими немецкими глазами – и иностранцы тотчас же смешивают его с его халатом!..»
«Немецкая душа» – и это с давних пор и по разному поводу отмечали разные исследователи – страдает опасным родом расщепления сознания, опасной формой маниакально-депрессивного психоза, я говорю «опасной», ибо речь не об отдельном человеке, а о многомиллионной нации, которую охватывает внезапно национальная горячка, доводящая ее до умственного расстройства. Ницше раскаивается в том, что сам, было подвергся болезни, какая приступами одурения охватывает время от времени современных ему немцев: то это «…антифранцузская глупость, то антиеврейская, то антипольская, то романтико-христианская…то тевтонская, то прусская… Я еще не встречал ни одного немца, который бы относился благосклонно к евреям…»
Это он пишет в 1885 году в книге «По ту сторону добра и зла». Ничего нет нового под небом Германии, если Фридрих Дюрренматт в 1990 году так описывает немецкое государство: «У немцев никогда не было государства, зато был миф священной империи. Немецкий патриотизм всегда был романтическим, непременно антисемитским, благочестивым и уважительным к власти» (Durrenmatt F. Sur le sentiment patriotique. Liberation. 19.4.1990).
Тем не менее, евреи Германии согласны были, за милую душу, обрести ее – эту «немецкую душу».
Их забывчивость преступала все границы преступности.
Можно было сделать вид, что забыты времена крестовых походов, когда тевтонские рыцари по пути к освобождению гроба Господня в Иерусалиме, походя, вырезали от мала до велика все еврейские общины в городах вдоль реки Рейн, а в городе Вюрцберг впервые в мире обвинили евреев в ритуальном убийстве и, естественно, устроили резню.
Можно было почесывать затылок, когда наиболее беспокойные среди евреев напоминали своим братьям конец 13-го века: по примитивному, но весьма действенному предлогу, что евреи крадут и оскверняют облатки, которые кладут в рот христианам во время причастия, как «плоть Христову», истребили 140 еврейских общин.
Но куда деть страшный 14-й век, вошедший в еврейскую память, как «век мученичества» – век банд «юденшлегеров» («убийц евреев), когда в годы «черной смерти» всех немецких евреев подхватил «черный смерч» – поголовно было уничтожено более трехсот еврейских общин. По сути, это была первая попытка воплотить идею «юденфрай» – очистить Германию от евреев – мини-Шоа.
А как быть с тем, что в конце 70-х 19-го века именно в Германии, впервые в Европе, как грибы после дождя стали расти антисемитские партии на почве арийской теории, этого «научно» оправдываемого безумия?
И здесь немецкие евреи, естественно, богатые, искали лазейки, на чем свет ругали «бородатых, пейсатых, вонючих евреев», спасающихся в Германию от погромов в Польше и России, даже создали в 1921 году «Союз национал-немецких евреев», чтобы улестить ярых немецких националистов. Они даже учредили молодежное движение «Черный флажок» и выпускали ежемесячник «Дер национальдойче юде» (Национал-немецкий еврей»). Ничего не помогало.
Ну а тут уже грянул вовсе не как гром среди ясного неба тысяча девятьсот тридцать третий.
До открытия Ницше, испытывая откровенную неприязнь к Гегелю с легкой руки Маяковского, втиснувшего его в кровавую баню гражданской войны («Мы диалектику учили не по Гегелю…»), вкупе с Фейербахом и Марксом, я все же уважительно относился к Канту с его брошенным в мир понятием «вещь в себе». За этим скрывалась какая-то заманчивая непознаваемость мира. Это также понималось, что вещь «к тебе» повернута неким зеркалом, отражает и твое любопытство, и любовь к логическим построениям. Но это ведь и очень опасно: неизвестно, что скрытая сторона вещи, то самое « в себе», выкинет. И выкинуло. Послекантовский мир взорвался бесовским «подпольем» Достоевского.
И тут я прочел у Ницше о Канте: «Этот роковой паук считался немецким философом». Я подумал о том, что это не просто паук, а паук немецкий, умеющий медленно, неутомимо плести паутину вопреки всему, чтобы поймать в нее, как муху, весь мир.
Передо мной явно маячил паучий вариант «Дойчланд юбер алес».
Но почему Ницше, нападая на христианство, говорит о том, что это хитрая выдумка евреев – гениального теоретического народа, сумевшего превратить свою ненависть к преследующему его миру в любовь, распять человека из своей среды, назвав его сыном Божьим, и этим заставив весь мир стать перед ним на колени?
Я пытался разобраться в хитросплетениях ницшеанской мысли, часто противоречащей себе самой, эмоционально скачущей с одного полюса на другой, что, кстати, позволяло использовать его как евреям, так и антисемитам. Такие евреи, как Георг Брандес и Миха Бердичевский носились с ним как с писаной торбой, воистину способствуя его всемирной славе. Евреи видели в Ницше даже собрата, непризнаваемого, одинокого, непонятного, «вечного жида». Богатые евреи считали его своим защитником.
Бросая в мир свои фрагменты (Ницше всегда фрагментарен, оставляя большие пространства для домысла и осмысливания), он отделяет иудейский Ветхий Завет от Нового Завета евреев – ранних христиан и винит апостола последних Павла в использовании «распятия» Христа с целью захватить весь мир. По вопросу завоевания мира Ницше все же, как истый немец, хотя и поляк по происхождению, разбирается неплохо.
По сути, в своем опровержении христианства Ницше стоит на позиции евреев начала новой эры, которые осознавали все то иллюзорно-вредное, что несет эта «вещь в себе», в начале своем зеркально отражающая лишь иудаизм. Такое его истолкование ощущалось неисчислимыми бедами в будущем. Эта «вещь в себе» грозила обернуться «к ним», иудеям, одиночеством в мире, одиночеством в Боге, стать достоянием массы с ее необузданными варварскими инстинктами. В этой вере, основанной на любви, было слишком много подпольной ненависти к евреям: вот же, распяли сына Божьего. Такое не могло долго держаться «непротивлением злу насилием»: это толстовское уже в младенческом своем начале ощущалось как еще одно доброе намерение по дороге в ад.
«В иудейском «Ветхом Завете», – пишет Ницше, – в этой книге о Божественной справедливости, есть люди, вещи и речи такого высокого стиля, что греческой и индийской литературе нечего сопоставить с ним. С ужасом и благоговением стоим мы перед этими чудовищными останками того, чем был некогда человек, и в нас рождаются печальные думы о древней Азии и ее выдающемся вперед островке, Европе, которой хотелось бы непременно выглядеть перед Азией в значении «прогресса человека»… Удовольствие, доставляемое Ветхим Заветом, есть пробный камень по отношению к «великому» и «малому»… Склеить этот Новый Завет, своего рода рококо вкуса во всех отношениях, в одну книгу с Ветхим Заветом и сделать из этого «Библию», «Книгу в себе», есть, быть может, величайшая смелость и самый большой «грех против духа», какой только имеет на своей совести литературная Европа».
Оклик через тысячелетия
Вообще, будучи евреем, вероятно, в отличие от людей всех других национальностей, я ощущал всю мировую литературу, философию, историю, не говоря уже о религии, с особым пристрастием обращенными лично ко мне, их удивление мною, ненависть, чаще всего несправедливую, ко мне, их ложь обо мне и редкие признания меня сквозь зубы.
Натыкаясь на всех языках в переводах Библии на свое имя – Эфраим, я вздрагивал, словно меня окликнули. Видя вывешенные под стеклом в парке газеты со списком лауреатов сталинской премии, я бросался выискивать еврейские фамилии. Естественно, с тем же усердием я выискивал в Ницше себя, еврея.
Его высказывания одновременно, как все в нем, влекли и отталкивали.
«Чем обязана Европа евреям? – пишет Ницше в книге «По ту сторону добра и зла». – Многим, хорошим и дурным, и, прежде всего тем, что является вместе и очень хорошим и очень дурным: высоким стилем в морали, грозностью и величием бесконечных требований, бесконечных наставлений, всей романтикой и возвышенностью моральных вопросов, – а, следовательно, всем, что есть самого привлекательного, самого обманчивого, самого отборного в этом переливе цветов, в этих приманках жизни, отблеском которых горит нынче небо нашей европейской культуры, ее вечернее небо, – и, быть может, угасает. Мы, артисты среди зрителей и философов, благодарны за это – евреям».
В своей предпоследней книге «Антихрист. Проклятие христианству», написанной блестящим языком, над которым уже тяготеет приближающееся затмение ума, впадающего от этого в ярость, Ницше весьма для нас любопытно честит Христа. Называет его «святым анархистом, вызвавшим на противодействие господствующему порядку низший народ, народ изгнанных и «грешников»… внутри еврейства, речами, которые, если верить Евангелию, еще и теперь могли довести до Сибири…» И вышел этот «политический преступник» из среды евреев – «этого самого замечательного народа мировой истории, потому что они, поставленные перед вопросом: быть или не быть, с внушающей ужас сознательностью предпочли быть какой бы то ни было ценою: и этой ценою было радикальное извращение всей природы, всякой естественности… Непоправимым образом обратили они по порядку религию, культ, мораль, историю, психологию в противоречие к естественным ценностям этих понятий… Христианская церковь по сравнению с «народом святых» не может претендовать на оригинальность. Евреи вместе с тем самый роковой народ всемирной истории: своими дальнейшими влияниями они настолько извратили человечество, что еще теперь христианин может чувствовать себя анти-иудеем, не понимая того, что он есть последний логический вывод иудаизма».
То, признавая себя декадентом до мозга костей, то, свирепо нападая на декаданс, Ницше считал, что «по психологической проверке еврейский народ есть народ самой упорнейшей жизненной силы; поставленный в невозможные условия, он добровольно, из глубокого и мудрого самосохранения берет сторону всех инстинктов декаданса, не потому, что они им владеют, а потому, что в них он угадал ту силу, посредством которой он сможет отстоять себя против мира…»
Читая Ницше, я ощущал самоуверенность немецких философов, выстраивающих логические цепи к истине, в любой момент готовые обернуться цепями рабства и гибели. И каждый из этих философов был похож на мальчика, уверенного, что он строит истинный дворец из кубиков, даже и, не подозревая, что другой – злой мальчик одним ударом разрушит его. Таким злым мальчиком, enfant terrible, ворвавшимся в храм немецкой классической философии, и был Ницше. Он опрокинул там не только лавки менял и располосовал всю позолоту алтаря, но и попытался добраться до купола, чтобы сорвать крест.
Вместе с ним язычество, усмиренное в иудаизме христианством, шумно вырвалось из своей «вещи в себе», и с черного хода ворвалось в храм.
С другой стороны, иудейская неуспокоенность, помноженная на давний иудейский мазохизм («подставь другую щеку»), на иудейскую самоненависть, замешанную на приобретенном немецком характере, проснулась в другом мальчике – Марксе.
Никакая «сука» его не будила (вспомним стихи Наума Коржавина: «Какая сука разбудила Ленина, кому мешало, что ребенок спал?..»).
Ох, уж эти злые не выспавшиеся детки, которые роются в песке, в надежде прокопать земной шар. Выходило, что немец еврейского происхождения Маркс более ненавидит евреев, чем немец польского происхождения Ницше. Тут мысль впрямую упиралась в вопрос: являются ли эти два злых немецких ребенка, поставившие себя «по ту сторону добра и зла», – «отцами» двух далеко не детских игр – социализма и национал-социализма? Две эти игры, научно названные «идеями, охватившими массы», выпестовали не просто двух злых детей, а настоящих ублюдков «по ту сторону добра и зла», сотворивших чудовищную «бездну Шоа-ГУЛаг» – Гитлера и Сталина.
Маркс весьма уютно чувствовал себя в уже привычной для иудейской среды самоненависти. Ницше же, прокламируя свою независимость, не избегает угрызений совести. Он говорит о себе, как о человеке, который «вступает в лабиринт… в тысячу раз увеличивает число опасностей, которые жизнь сама по себе несет с собою; из них не самая малая та, что никто не видит, как и где он заблудится, удалится от людей и будет разорван на части Минотавром совести…»
Мальчик для битья
Более того, как случайно оговорившийся обвиняемый, которому в будущем может быть предъявлен иск, Ницше пишет: «Философия сама есть тиранический инстинкт, духовная «воля к власти», к «сотворению мира»… Наши высшие прозрения должны – и обязательно! – казаться безумствами, а, смотря по обстоятельствам и преступлениями, если они запретными путями достигают слуха тех людей, которые не созданы, не предназначены для этого…»
Эти мысли не давали мне спать. Я вставал ночью, прислушиваясь к дыханию жены и сына, совсем еще мальчика, я повторял про себя часто произносимые бабушкой, которая проживала с мамой в другом городе, слова на идиш: «Гот зол олтн ойф зей ди рехтэ онт» – «Господь, простри над ними свою десницу». Само мое существование, мальчика, вброшенного в кровавый водоворот Второй мировой войны, было чудом верблюда, проскользнувшего в игольное ушко «Шоа-ГУЛага».
И, не в силах заснуть, я думал об еще одном мальчике. Еврее. Был ли мальчик? Да, но это был мальчик для битья, который в противовес другому, пошедшему на крест, пытался, согласно легенде, заткнуть пальцем отверстие в плотине. Все, идущие за распятым из века в век, улещивали, уговаривали, угрожали мальцу, требуя открыть отверстие, чтобы вся эта масса вод хлынула, смела всех, и самих уговаривающих, с пути, обернулась новым Ноевым потопом духа, освобожденного от всех узд и уз.
По библиографическим спискам к книгам Ницше можно было представить, какая масса имен с восторженным гиком кружится в водовороте прорвавшейся плотины. Потоп, захлестнувший мир двумя мировыми войнами с таким ничтожным знаковым наоборотным интервалом – 1914-1941 – в одно поколение, – еще несет на гребнях своих валов много кровавого и разрушительного, обещая человеческому роду долгую жизнь в вихре разрушения, и род этот уже даже уютно обустраивается на каких-то клочках суши в этом бушующем потопе.
Но у мальчика для битья, обладавшего мужеством пальцем сдерживать плотину, есть и своя родословная, пусть трагическая, кровавая, но спасительная для человеческого рода, как всегда убивающего своих спасителей: избранность Богом, который, по Ницше, умер. Только этим Ницше преступил черту, и никакие изыски стиля и, вероятно, бездарно переведенные на русский его стихи – прокладки в текстах, не могли оправдать того, что он произнес: Бог умер.
А Ницше тем временем веселится с клоунскими гримасами злого мальчика по поводу поисков идентичности, которую немцы, да и вся Европа, примеривают на себя, словно «костюмы» – моралей, верований, религий, политики, – и все это подобно «карнавалу большого стиля», все это ведет к «духовному масленичному смеху и веселью, к трансцендентальной высоте высшего тупоумия и аристофановского осмеяния мира», уже готовых перейти в плоскую, но смертельную, дьявольщину, в будущем.
Чутьем гениального неврастеника Ницше ощущает призрение Бога, которого он умертвил, Бога еврейских пророков. Это призрение дает ему прозрение будущего, но – в отличие от пророков – он испытывает к этому будущему – презрение.
Он предвидит воцарение посредственности и нивелировки под девизом всеобщего равенства, которое уничтожит все накопленные за века духовные ценности. Он видит наступающий ХХ-й век в жестоком свете якобы несущей Европе долгожданную свободу демократизации, которая «клонится к нарождению типа, подготовленного к рабству в самом тонком смысле слова…» Она, эта демократизация Европы «есть вместе с тем невольное мероприятие к расположению тиранов…»
А вот прямое, я бы сказал, невольное пророчество будущего нацизма: «Подразумеваю… такое усиление грозности России, которое заставило бы Европу решиться стать в равной степени грозной, то есть посредством новой господствующей над ней касты приобрести единую волю, долгую, страшную собственную волю, которая могла бы назначить себе цели на тысячелетия вперед… Грядущее столетие несет с собою борьбу за господство над всем земным шаром…»
Любопытна евгеническая идея Ницше, которую Гитлер пытался осуществить в арийском варианте. Ницше предлагает для улучшения породы немцев скрещивать прусских юнкеров с еврейками.
Изгаляясь над всеми и всем, Ницше чувствует будущее, полное ярости, ненависти, злобы масс. Более того, он словно бы предощущает «бездну Шоа», произнося слова, от которых мороз по коже: «Пусть сжалится небо над европейским разумом, если бы возникло желание выцедить из него еврейский разум». Так и видится этот разум, «цедящийся» из разбитых прикладами еврейских голов.
Ницшевская «воля к власти» сводит немцев с ума. Нет им дела до его философских изысков. Главное, он в приступе вседозволенности бросил семя – два слова не на ветер, а в благодатную немецкую почву. Слово не воробей, его не уничтожишь никакими пушками.
«Убивайте слабых!» – семя, из которого выпростался страшный чертополох – Гитлер. Но кто же эти сильные, которые должны убивать слабых? Да это та самая ненавистная Ницше чернь – лавочники, мясники, парикмахеры, провинциальные учителя, в один миг ставшие генералами, гаулейтерами, карателями, как и в Совдепии те же, дорвавшиеся до власти под лозунгом «Кто был никем, тот станет всем». Все перепуталось и уже неважно, в какой форме прорвались два кратера насилия – Шоа и ГУЛаг – уничтожения себе подобных, животного рева Истории.
Схлынет вулкан, застынет лава. И что? Возник новый мир? Да тот же, только успевший значительную свою часть превратить в кладбище, в мерзость запустения.
Воистину неисповедимы пути – не Господни – а человеческие.
Ницше писал в своей последней книге-автобиографии «Ecce Homo» («Се – человек») перед погружением в безумие, в котором пребывал более одиннадцати лет (с апоплексического удара в январе 1889 по день смерти в августе1900 года), что естественными его читателями являются русские, скандинавы и французы, что с истинной деликатностью и уважением к нему относятся евреи, а «немцы – никогда».
Ницше произнес о немцах самые унизительные слова, говоря: «Немецкий дух» – мой дурной воздух: я с трудом дышу в этой, ставшей инстинктом, нечистоплотности… которую выдает каждое слово, каждая мина немца… Слыть человеком, презирающим немцев… принадлежит даже к моей гордости… Немцы для меня невозможны…» Именно этот Ницше был подхвачен, как знамя, тоже красное, но со свастикой вместо серпа и молота, теми самыми немцами, которые, по его мнению, портят воздух.
Напрасно Ницше считал немецкую нацию безучастной, с завидным аппетитом, поглощающей всякие гасящие порыв противоположности – веру с наукой, «христианскую любовь» вместе с антисемитизмом, «волю к власти» вместе с Евангелием. Наоборот, это оказалось дьявольской смесью, которая взорвала мир и унесла десятки миллионов жизней.
Ницше хорошо знал цену немецкой Истории. В ней, говорил Ницше, «немецкое» есть аргумент, «Дойчланд юбер алес» есть принцип, германцы суть «нравственный миропорядок» в истории… Существует имперская немецкая историография, я боюсь, что существует даже антисемитская…»
Ходики отбивали время шестидесятых, приближая очередной взрыв ненависти к евреям, разразившийся Шестидневной войной, а на моем столике лежал Ницше, совсем не тот, каким я его представлял себе до чтения его книг, но все еще запретный, опасный, хранящийся в спецхранах или добываемый пиратским способом на черном книжном рынке.
Ницше, уверенный в том, что станет властителем дум ХХ-го века, должен был перевернуться в гробу, увидев себя в повелителе мух, оказавшихся более ядовитыми, чем мухи цеце, и принесших одну только смерть. Эти мухи сами не слезали с сахара, блюли свои интересы, и не колыхали их миллионные жертвы, рядом с которыми жертвоприношения древних выглядели детской забавой.
Ницше страдал острой неврастенией, но не переставал говорить о своем духовном здоровье и умственной ясности: «Среди пытки трехдневных непрерывных головных болей, сопровождавшихся мучительной рвотой со слизью, я обладал ясностью диалектика…» Но диалектику он ненавидел, считая ее симптомом декаданса. А его так и обзывали – «декадент», то есть – упадочный. Или припадочный?
По сути же, Ницше был абсолютно одинок, подобно «вечному жиду».
В молодости он боготворил Рихарда Вагнера с той же силой, с которой возненавидел его на склоне жизни. История взаимоотношений этих двух людей представляет собой удивительную драму, осью которой является обсуждаемая нами тема – евреи и немцы.
Вагнер, о котором речь пойдет в следующей части, став клятвенным антисемитом, громил евреев за «гешефтмахерство», но, по сути, сам превратил свой Байрейтский театр в доходное место. И это был плевок в лицо Ницше, в молодости посвятившему композитору восторженный панегирик «Рождение трагедии из духа музыки».
И в своей книге «Казус Вагнер» Ницше не пожалел присущей ему желчи до того, что пытался «объяснить» антисемитизм Вагнера его якобы скрытыми еврейскими корнями. Дело в том, что отчимом Вагнера (а по некоторым сплетням любовником его матери и вполне вероятно – отцом Вагнера) был актер Людвиг Гейер (по-немецки – коршун). Фамилия «Адлер» (орел) была весьма распространена среди евреев Германии. Ницше пишет: «Был ли Вагнер вообще немцем? Есть некоторые основания для такого вопроса. Трудно найти в нем какую-нибудь немецкую черту… Его натура даже противоречит тому, что до сих пор считалось немецким – не говоря уже о музыке! – Его отец был актер по фамилии Гейер. Гейер – это уже почти Адлер… Признаюсь в своем недоверии ко всему, что засвидетельствовано только самим Вагнером. У него не хватало гордости для какой-либо правды о себе. Он и в биографии… остался актером». Последний намек весьма прозрачен: это Вагнер считал евреев лживыми и хитрыми актерами, жаждущими перерядится в немцев.
Ницше очень точно угадал, кем Вагнер станет для немецких националистов, тех самых лавочников и мясников, той самой черни, раздувавшей грудь помпезностью вагнеровских шествий с барабанами и флейтами. Для Вагнера, по Ницше, нужна «дрессировка, автоматизм, «самоотречение». Ни вкуса, ни голоса, ни дарования: сцене Вагнера нужно только одно – германцы (подчеркнуто Ницше)…Определение германца: послушание и длинные ноги… Полно глубокого значения то, что появление и возвышение Вагнера совпадает во времени с возникновением «империи»… Никогда лучше не повиновались, никогда лучше не повелевали. Вагнеровские капельмейстеры в особенности достойны того века, который потомство назовет… классическим веком войны».
Примером, насколько Ницше был использован нацистами, буквально перевернувшими его с ног на голову, могут служить его три требования к театру: чтобы театр не становился господином над искусствами; чтобы актер не становился соблазнителем подлинных; чтобы музыка не становилась искусством лгать.
И я со страхом и трепетом, держась за руку отца, в раннем детстве, слежу из толпы за таким шествием румынских фашистов, «железногвардейцев», в голубых робах и колпаках, с барабанами и флейтами. Они шагают по центральной улице нашего провинциального городка, и высоко над улицей, на столбе, висит огромная тоже голубая свастика, которая в ночи вспыхивает гирляндой лампочек.
И я именно так спрашиваю отца: «Кто мы такие, эти евреи?» – мгновенно и уже на всю жизнь вовлекаясь всем своим существом в метафизическое напряжение от ожидания ответа.
Происходит это в Песах, и за четырьмя трудными вопросами, которые я, малыш, должен задавать, ощущается неудобство, ибо ничего не меняется в эту ночь, и никакая свобода не сменяет египетское рабство, и опасность погрома, и ощущение полнейшей беззащитности таится в ответах, еще более трудных, чем вопросы.
А вот притча о четырех, из которых один наивен, а другой, пожалуй, самый симпатичный, «не умеет спрашивать», – становится наиболее близкой и ощущается залогом через всю жизнь. В «умении спрашивать» выявляется сущность моего присутствия в мире. Назойливость вопрошания – черта в еврее сродни истинной страсти. И кровавая волна ответа в пространствах Европы не заставляет себя ждать.
Немецкие бомбардировщики первыми принесут ответ, пытаясь разбомбить мост через Днестр, по которому нам предстоит бежать, чтобы спастись. Последний раз гляжу через окно родительской спальни на широко раскинувшееся рекой и далью пространство, которое впервые открыло мне, младенцу, глаза. Под окном уже ждет сосед наш, сапожник Яшка Софронов, который тотчас, с нашим уходом, взломает замок и поселится в нашем доме. Тяжкое в своей преступной легкомысленности неведение гарью стоит в воздухе. Никто ничего не знает, хотя радио бубнит, не переставая. «Через несколько дней война кончится» – говорит отец, который спустя два года погибнет на этой войне. Остающиеся евреи бродят как потерянные, подобно тем, кто, снявши голову, плачет по волосам.
Мы вернемся в наш дом, который пойдет под снос перед самым нашим отъездом в Израиль в 1977, и асфальтовая дорожка приречного парка сотрет память о нем.
В 2001 году, посетив могилу матери, я приду к месту моего рождения и застыну в полнейшем потрясении. Я увижу огромный памятный камень с надписью именно в том месте, где проходила стена нашего дома с окном, через которое я впервые увидел мир. Оказывается, евреи городка были приставлены именно к этой стенке. Камень этот замкнет круг истории моей жизни в прошлом веке, неся предупреждение в третье тысячелетие.
Глава пятая
Нацистский миф
Дух музыки и раса
Два греческих слова – «mithos» и «logos».
«Митос» (по-русски «миф») означает вымысел, фикцию. «Логос» означает – понятие, законосообразность, логику. Но мало кто задумывается над тем, что в первозданности оба слова по-гречески обозначают «слово». Испокон веков в душе читателя, даже самого отчаянного скептика, подсознательно скрыта некая мистическая вера в начертанное, а позднее – напечатанное слово, и он прочитывает, как говорится, «в одну строку», с одинаковым приятием эти два абсолютно противоположных понятия.
Маятник его мысли может склоняться в сторону то одного, то другого из этих понятий, но намного чаще в сторону мифа. Логос для него скучен, миф ярок и привлекателен. Более того, создатель логики в европейской философии, автор знаменитой «Науки логики», Гегель, в сущности, является одним из самых навязчивых мифотворцев.
По какой «философской тропке» от края пропасти, «бездны Шоа-ГУЛаг», не двинешься в прошлое, по другую ее сторону уткнешься в Гегеля. Это он произнес знаменитую фразу «Бог умер», которую подхватил Ницше. Это от него через рьяного антисемита Вагнера, которого тот же Ницше назвал «наследником Гегеля» в музыке, потянулась вправо «тропка» к оголтелому германскому национализму, а влево через не менее рьяного антисемита Маркса «тропка» дотянулась до не менее оголтелого социализма с Лениносталиным во главе.
Советская власть, как любой тоталитаризм, хорошо знала цену мифа, называя национал-социалистов «фашистами», ибо слово «социализм» в первом понятии торчало как кость в горле. А о красном знамени нацистов, быть может, знали единицы, но даже заикнуться боялись, ибо одно слово при стенах, имеющих уши, означало приговор: гибель.
По сути, первым, кто занялся всерьез этими двумя понятиями – мифом и логосом, – был древнегреческий философ Платон, понимавший, к чему может привести стирание противоположностей между этим двумя понятиями. Платон, можно сказать, яростно требовал исключить мифы и связанные с ними формы искусства – как литература, музыка и театр – из воспитания гражданина полиса (государства). Миф – эта откровенная фикция, приписывающая богам все низменное в человеке – не только яд в души молодого поколения, а то демоническое пламя, которое может привести к страшной катастрофе и, в конечном счете, исчезновению Греции в провале Истории. Более того, Платон сам пытался очистить мифы от убийств, инцестов (убийство Эдипом отца и инцест с матерью), ненависти и лжи.
Платон отлично знал, как миф, эта абсолютная фикция, однако весьма пластичная, чтобы втянуть в себя особенно молодую душу, жаждущую необычного в окружающей ее скуке жизни, манит к подражанию и является наиопаснейшим инструментом идентификации. Миф, по Платону, должен быть отделен от Истории, которая обязана строится на основании логоса, чтобы служить истинным компасом для будущих поколений.
К сожалению, на протяжении тысячелетий существования человечества История так и не смогла очиститься от мифологии, которая как злокачественное заболевание, не раз приводила ту или иную нацию на грань уничтожения, а в середине прошлого века чуть не поставила на эту грань все человечество. Даже сегодня все постулаты Истории заражены мифологией.
Трудно сказать, есть ли вообще надежда заново осмыслить Историю, очистив ее от мифов.
В этом смысле предъявляемый ей иск в большей степени может оказаться «гласом вопиющего в пустыне». Но попытаться хотя бы открыть самому себе глаза человечество обязано.
То, что способен вытворить миф, взятый за основу политики, причем, в самом грубом неприкрытом виде, мы можем лишь потрясенно наблюдать сегодня вокруг себя.
Самый отработанный, плодотворный, безотказно действующий в массе в течение тысячелетий миф основан на ненависти к евреям. Все, что создано еврейским гением, присваивается другими нациями и обращается против самих евреев с такой откровенной наглостью, что впору остолбенеть, глядя в светящиеся святой наивностью глаза этих духовных воров.
Древний Египет, вошедший в сознание Запада через Ветхий завет с Исходом евреев, присвоен современным арабским Египтом, уверенным, что именно он является прямым наследником строителей египетских пирамид. Саддам Хусейн присвоив наследие Вавилона, видел себя преемником Навуходоносора, угнавшего в плен евреев, и надеялся, как тот, взять Иерусалим.
Арафат в телевизионном интервью, глазом не моргнув, объявляет праотца Авраама (3000 лет назад названного «Авраам аиври» – «евреем Авраамом») арабом-палестинцем: «Верьте мне, я точно знаю». Впавший в шок интервьюер застывает с открытым ртом, как и вся Европа, смиряясь с творимой на глазах еще одной легендой из «Тысячи и одной ночи».
Результат воспитания на примитивной, но весьма действенной смеси мифов мы видим у наших соседей. В этой смеси замешаны легенды о рае и семидесяти девственницах для самоубийц во имя политической идеи, традиции арабских «камикадзе», протоколы сионских мудрецов, и все это скрепляется цементом высшей марки – звериной ненавистью к евреям. На этом построена вся их система образования (если это можно назвать системой).
Это, пожалуй, второй раз в истории человечества, после Третьего рейха, когда в систему образования от дошкольного до университетского и во всепроникающую пропаганду так откровенно – на глазах всего Запада – внедряется антисемитизм.
Правда, у немцев это происходило на более тонком «философско-эстетическом», а главное, «музыкальном» уровне.
Немцы – большие любители Истории. С присущей их характеру дотошностью они выискивали в греческой и римской истории любую мельчайшую деталь, кажущуюся им подобной событиям их собственной истории.
Поиски тождества, ностальгическое копание в прошлом – дело весьма опасное. Вся романтическая тоска средневековья в германской, а скорее, тевтонской интерпретации, с, казалось бы, таким «высоким» рыцарским кодексом, погнавшим их освобождать гроб Господень, вылилась в кровавые крестовые походы.
Вообще, каждый из нас, вглядывающийся в прошлое, положим, в фотографии 50-70-х годов ушедшего века с их жесткостью, равнодушием, душевной черствостью, неожиданно ощущает себя втянутым в некий поток ностальгии, повитый сумерками молодости.
Застоявшееся вино прожитых лет Истории – напиток опасный.
Великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете, названный выдающимся французским поэтом Полем Валери «наименее сумасшедшим из людей», Гете, который, кстати, тоже не избежал заимствований, впрямую взяв прологом к «Фаусту» разговор Бога с сатаной из библейской книги Иова, с явно наигранной веселостью, скрывающей тоску по прожитой жизни, заметил: «У меня громадное преимущество благодаря тому, что я родился в такую эпоху, когда имели место величайшие события мировой истории. Они не прекращались в течение всей моей долгой жизни, так что я живой свидетель Семилетней войны, отпадения Америки от Англии, затем Французской революции и, наконец, всей наполеоновской эпохи вплоть до гибели героя и последующих событий».
Но Гете, чувствуя опасную фальшь этой тоски, говорит об Истории, как «самом абсурде, неблагодарнейшей и опаснейшей специальности», о том, что «нет никакого прошлого, по которому бы следовало томиться, есть только вечно-настоящее, образующееся из расширенных элементов прошлого, и подлинное томление должно быть продуктивным, чтобы созидать нечто новое и лучшее». Немцы предпочли не прислушиваться к Гете, вообще не видеть в нем философа, а отнести в разряд писателей и естествоиспытателей. Немцы остались верны своему характеру, в котором весьма парадоксальным образом смесь романтики и сентиментальности педантично укладывалась в диалектически расчисленный Гегелем мир. Вся жизнь Гегеля прошла перед Гете. Гегель был на двадцать лет моложе Гете. «Олимпиец» пережил философа на один год. Не знаю, оказавшись свидетелем немецкой истории ХХ-го века, которая завела нацию в бездну, мог ли бы Гете повторить слова о «громадном преимуществе» своей жизни. Так или иначе, немецкая философская мысль открыто боролась с Платоном, вплоть до Хайдеггера, заявившего, что «разум (логос), столь прославляемый из века в век, является злейшим врагом мысли», а «история в своем истоке восходит не к науке, а к мифологии». Отрицая объективность Гете, увлекаемая Гегелем, затем Шопенгауэром на поиски субъекта – своего немецкого «я», эта философская мысль, старающаяся, насколько это можно, быть честной перед собой, ощущала опасные симптомы расщепления сознания. В одну сторону это сознание тянул путь, четко выстраиваемый диалектикой и логикой, разрешающий противоречия в единстве противоположностей. Проложенный Гегелем, этот путь льстил величию немецкой мысли. С другой стороны, Гегель слишком увлекался Руссо, еще в студенчестве он испещрял листки альбома лозунгами типа «Да здравствует Жан-Жак!», «Смерть политическим чудовищам, которые претендуют на абсолютную власть!» От Гегеля нить разматывал Маркс, желая осчастливить весь мир коммунистическим манифестом. Это само по себе умаляло противоположную тягу немцев к национальному германскому духу и всегда таимой в изгибах немецкой философской мысли мегаломании, уверенной, что ей, этой мысли, назначено, благодаря своей мощи, властвовать над миром. Правда, тот же Гегель намекал в своей «Эстетике» на иной, эстетический путь национальной идентификации. И тут возник и подхватил эту идею Рихард Вагнер. Тогда еще невозможно было представить, что два этих разнонаправленных пути, шизофренически раздваивающие немецкое сознание, приведут к одинаково гибельным последствиям в центре и на востоке Европы. Вагнер оказался именно тем, что искал германский национальный дух. Во-первых, Вагнер выразил этот дух в своих музыкальных драмах, по старой традиции называемых операми. Во-вторых, Вагнер прямо заявил, что миф, в отличие от истории, требующей бескрылого подчинения фактам, «высвобождает» дух из-под тирании истории. Миф безграничен, туманно таинственен, как художественный идеал греков, который он, Вагнер, прививает к стволу немецкого искусства, стремясь к синтезу, провозглашенному Гете. Да, современники Вагнера Россини и Сен-Санс вдохновлялись древнееврейскими темами. Первый написал оперу о Моисее в Египте, второй – оперу «Самсон и Далила». Вагнер же был неисправимым приверженцем германского духа. Но не менее главным в судьбе Вагнера было то, что, всегда мечтавший о роскоши, он почти всю жизнь был одолеваем кредиторами, все время пускался от них в бега, как герой его оперы «Летучий голландец», как вечный жид. В этой борьбе за существование он надорвал здоровье, был, подобно Ницше, подвержен неврастении. Главным, я бы сказал, знаковым врагом его стал французский преуспевающий композитор еврей Джакомо Мейербер (Яков Либман Бер, сын берлинского банкира), тот самый Мейербер, который помог Вагнеру поставить в Дрездене оперы «Летучий голландец» и «Риенци». Но Париж не принимал Вагнера и он считал, что это происходит из-за козней торгаша от искусства Мейербера, являющегося олицетворением упадка, который несут в музыку евреи. Так, по выражению Вагнера, «коммерсант» от музыки Мейеребер стал главным героем вагнеровской книги об иудейском духе в музыке – «Евреи в музыке». Вагнер выражал глубокое презрение к музыке Мейербера и олицетворяемому этой музыкой Парижу, который не принял его и пробудил в нем непримиримую ненависть к строю, как он считал, основанному на власти денег. Вагнер открыто признавал, что именно эта ненависть стала непосредственным источником цикла его опер «Кольца Нибелунга».
Когда в 1870 году разразилась франко-прусская война и французы капитулировали, злорадству Вагнера не было предела. Считая себя в одинаковой степени литератором и композитором, он пишет в отмщение за свои мытарства в Париже статью «Капитуляция, комедия в античном духе» и сочиняет в честь победы Германии «Кайзермарш».
Ирония судьбы состоит в том, что два гениальных композитора-еврея, два представителя того народа, которому Вагнер отказывал во всяких творческих возможностях, – Густав Малер и Арнольд Шенберг – стали продолжателями вагнерианства в музыке. Последний, создатель двенадцатитонной музыкальной системы, «додекафонии», напишет в противовес вагнеровскому «Парсифалю» оперу «Моисей и Аарон».
Нацизм сделает Вагнера своим знаменем. Гитлер окружит его имя ореолом пророка национал-социалистической идеи, будет присутствовать на всех открытиях сезонов в Байрейтском театре, назовет оборонительную линию укреплений именем героя оперы Вагнера – Зигфрида, прикажет играть музыку Вагнера в лагерях смерти.
Но мы забежали вперед.
Вернемся в последнюю треть ХIХ-го века. Продолжает собирать кровавую жатву франко-прусская война. Время бесстрастно отмечает даты и места рождений и смертей. В том же 1870-м в дремучей, дремлющей глуби России рождается мальчик Владимир. Через 9 лет в городишке Гори, заброшенном в горах Кавказа, рождается мальчик Иосиф.
В 1881-м начинается невиданная доселе массовая еврейская эмиграция. Два с половиной миллиона евреев бегут от погромов из России, Галиции (Австро-Венгрия), Румынии, бегут, главным образом, в США, где в те годы вообще не существовало никаких административных ограничений, в Канаду, в Аргентину, в Эрец-Исраэль.
Через два года, в 1883-м, в Лондоне умирает Маркс, в Венеции – Вагнер. Порожденные ими два призрака – мировой коммунизм и германский национализм – продолжают, подобно привидению, Провидению, бродить и бредить в пространствах Европы.
Ничем не обоснованная, но весьма привлекательная для европейцев расовая теория, которую усиленно поддерживал властитель дум европейской интеллигенции 18-го века Вольтер, считавший черного человека промежуточным звеном между белым человеком и человекообразной обезьяной, а к евреям вообще относившийся с большой нелюбовью, обретает новую силу благодаря открытию индоевропейских языков. Весьма приблизительная наука филология захватывает умы европейцев, издавна зараженных шовинизмом. Умы эти легко подаются влиянию всякой ни на чем не основанной, но кажущейся им «выстроенной», концепции. Они с восторгом, под звуки бетховенской 9-ой симфонии, «обнимаются миллионами» в названной той же филологией «арийской» – европейской семье народов. Они с презрением относят чужеродных евреев к низшей афроазийской, семито-хамитской семье языков и, естественно, народов. В 1889-м, в австрийском городке Браунау рождается мальчик Адольф, через три года, в 1893-м, в городе Ревеле (ныне Таллинн) в семье обрусевшего остзейского немца сапожника Розенберга рождается мальчик Альфред. В 1900 году умирает Ницше.
Под мирную пальбу взлетающих пробок шампанского, радуясь надеждам на светлое будущее, пугаясь апокалиптических предсказаний конца времен (уже ставшего традиционным «фин де сьекль»), двадцатый век вступает в мир.
Между тем, под внешним, пасторально-пресным благолепием, успехами просвещения и точных наук (в 1905 году Альберт Эйнштейн в Берне открывает частную теорию относительности) в европейских массах подземно бурлят косные вулканические страсти ксенофобии и национальной спеси.
В многовековой памяти этих масс, подобно слежавшемуся перегною, цепко держатся веселые кровавые гульбища – избиения евреев (Христа нашего распяли, гады!), время от времени прокатывавшиеся по Европе от края до края.
Едва проступающая, но уже ощутимая трещина разлома проходит по ломаной линии столкновения тех самых двух призраков, наливающихся реальной силой – коммунизма и национализма, – пересекая Европу с запада на восток и с севера на юг.
Велика и неизбывна вина европейских гуманитариев и представителей неточных наук, таких, как история и биология. Всякие псевдонаучные теории, не подпираемые никакими фактами, а лишь безумием выдать желаемое за действительное, швыряются учеными – филологами, историками, биологами, – в массы, вызывая кровожадный восторг и бурные рукоплескания.
В атмосфере ксенофобии и шовинизма нет ничего более замечательного, чем перенести такую тогда стройную, а ныне с большим числом прорех, теорию Дарвина о происхождении и борьбе видов на человеческое общество, подкрепляя это «открытие» такими авторитетами, как Карл Линней и Герберт Спенсер. Восторгу нет предела.
Расовая теория, спарившись с шовинизмом и ксенофобией, рождает антисемитизм с неведомой со времен крестовых походов силой. Совершенно открыто, не стыдясь собственного озверения, по всей Европе возникают антисемитские движения и партии.
Кровь евреев разрешена к пролитию
Эта взрывчатая смесь, названная расовой теорией, с успехом заменяет христианские кровавые наветы, как бы уже поднаторевшие и не столь убедительные в стремительно катящейся к атеизму Европе.
Теперь у всех есть «научно» обоснованная расовая теория.
Молниеносный разлом раскалывает блестящую, как паркет, льдину кажущегося благополучия и благолепия Европы. Гром среди ясного неба.
Пораженная Европа проваливается во все расширяющуюся полынью Первой мировой войны.
Через несколько лет война худо-бедно завершится, но Европе уже не выбраться из той полыньи, из этого все более затягивающего смертельного водоворота.
После поражения и унижения, в германской среде, в которой издавна особенно прочны и, даже можно сказать, незыблемы антисемитские настроения, нужен лишь толчок для кристаллизации этого национального, пусть ущербного, но весьма сильного инстинкта.
Нужен субъект. Не элитарный «сверхчеловек» пророчеств Ницше, а «народный, нутряной» человечек.
Жестокий, как массы в момент погрома.
В общем, тот еще «субъект».
Пушкинские слова о том, что нет ничего страшнее русского бунта, бессмысленного и беспощадного, закономерны для всех времен и всех народов. Однако немцы вносят в этот чудовищный феномен свойственную им педантичность.
Свято место пусто не бывает. Является Адольф Гитлер.
Вчера еще тайный агент (вслушайтесь только) «подразделения пропаганды и политической слежки», отброс общества, сегодня (5 января 1919 года) основывает немецкую рабочую партию. Отброс отбросом, но ведь – знаток в пропаганде. Времена новые. Всем известно, что ключ к воспитанию молодого поколения – в пропаганде. Немецкие «рабочие», а точнее, мелкие бюргеры, в основном, мясники, мастера по закалыванию и рубке любой живности, и бакалейщики, с восторгом внимают своему новому божку, уже объявившему себя фюрером. В ноябре 1923, в Мюнхене, они встречают его чоканьем пивных кружек, ревом луженых глоток над лужами пролитого пива, в пьяном угаре, на грани всеобщего напряга перед мочеиспусканием.
Правда, время их еще не наступило. В Германии все еще какая-то, но – демократия. «Пивной путч» разогнан. Гитлера приговаривают к пяти годам тюрьмы, из которой он выходит через девять месяцев. Можно представить, как действует на сентиментальное немецкое сердце мелкого буржуа картинка, вышиваемая фрау на кухонном полотенце: Гитлер в тюрьме пишет книгу своей жизни – «Майн кампф» («Моя борьба»). Вспоминается циничная шутка, гулявшая в литературной Москве 70-х годов: Ленин в подполье писал книги грудным молоком Надежды Константиновны.
Гитлеру нечего скрываться в подполье. В Германия демократия. Гитлер выходит из тюрьмы. Книга его выходит в свет. Она заменяет массе блаженно проглатываемую церковную облатку. Она ширит паству, вступающую в новую – национал-социалистическую церковь.
Проснуться насекомым
Еще в Мюнхене, слывущий «интеллектуалом» среди «партайгеноссе», расслабленных пивом, только вернувшийся из Петербурга Альфред Розенберг рассказывает жуткие истории о русской революции, которую совершили евреи: в правительстве новой России можно без труда составить еврейский миньян, ибо даже у Ленина еврейские корни, только он тщательно это скрывает. Ему, Розенбергу, это говорили истинные русские интеллигенты, с которыми он был в приятельских отношениях, Блок и Мережковский.
Он, Розенберг, даже был членом Пролеткульта, чтобы убедиться в преимуществе арийского культа.
Именно оттуда, из России, он вынес окончательно оформившиеся убеждения: еврейство – это фундаментальное зло мира, и во благо этого мира его следует вырвать с корнем. Рассказы Розенберга вызывают истинный ужас на лицах слабонервных «партайгеноссе», этих будущих головорезов.
Книга Гитлера «Майн Кампф» выходит в свет в 1927 году. Розенберг в 1929 году основывает «Союз борьбы за немецкую культуру», а в 1930 году публикует книгу «Миф ХХ-го века», как бы «философски» толкующую книгу Гитлера и вместе с книгой фюрера составившую поистине катехизис национал-социализма.
После прихода Гитлера к власти в 1933, через год выходит 42-ое издание книги «Майн Кампф» ставшей обязательной для всеобщего чтения. Тираж ее в 1934 достигает 203 тысяч экземпляров, а в 1936 – со 184-м изданием – 2 миллионов 290 тысяч.
Если при чтении Гитлера невозможно отделаться от звуков его лающей речи, надолго отбившей у многих желание читать по-немецки, Розенберг более «авторитетно» разыгрывает этакого позитивиста, «научно» обосновывающего словесные нагромождения фюрера, постепенно вызывая в эмоциональной немецкой душе доселе непривычный, и потому особенно действующий вид устойчивой истерии.
Гитлер не удосуживает себя доказательствами, но зато предельно откровенен.
Имеющий уши да услышит: вовсе не случайно евреев избивают в Европе вот уже две тысячи лет. Душа европейца, да и вообще человека мира, больна «евреем», и единственное излечение от этой болезни – хирургическое. Все погромы были спонтанными взрывами «эмоционального антисемитизма», попытками утишить эту болезнь.
Тут мифотворец Гитлер и не замечает, что неожиданно обращается к ненавистному самой идее национал-социализма «логосу»: необходимо перейти к «рациональному антисемитизму». Другими словами, хладнокровно, с немецкой дотошностью и верностью поставленной цели, довести дело до конца: реально (нет ничего более реального, чем смерть) освободить Европу, а затем и весь мир, от евреев. И он, Гитлер, чувствуя в себе великие силы, и станет освободителем мира от этой болезни, он, ариец, во плоти и крови, выпустит дурную кровь, раз и навсегда излечит мир от этой злокачественной болезни.
Идеи еврея Маркса, подхваченные его нацией, являются воистину апокалиптическим выражением стремления евреев к мировому господству, и только он, Гитлер, подобно Георгию-Победоносцу, выходит один на один на борьбу с этим миллионоголовым змием.
Крайней, леденящей душу формой этой жажды мирового господства является сотворенный евреями большевизм. Еврейские священные книги и еврейская религия не столь опасны, как яд, накопленный этой низменной расой, которым она со змеиной ползучестью, добравшись до здорового сердца народов мира, отравит его, лишит его сил, обернет эти силы в прах. «Отречемся от старого мира» – это всего лишь дымовая завеса. Истина во второй строке – «Отряхнем его прах c наших ног».
Старый мир и так уже не существует. Речь идет о новом мире. Новом порядке. Но его, под руководством фюрера, принесет миру новая Германия, истинная защитница «арийских» народов.
Положим, русские евреи, с безумной радостью вырвавшиеся в революцию из черты оседлости, и взаправду уверенные, что эта революция совершена ими и, в первую очередь, для них, не особенно прислушиваются к словам этого маньяка. Слишком поздно они поймут, что их свои же «товарищи» просчитали, и насколько они, евреи, просчитались.
Евреи Галиции, Польши, Румынии, в тысячах местечек и городков, ведущие религиозный образ жизни, мозолят глаза и души окружающих аборигенов своими капотами, пейсами, шляпами, носками, бормотанием своих молитв еще по пути к синагоге. Они вообще не очень понимают, о чем говорит на немецком, кажущемся им испорченным идиш, этот «мешугэ».
Но немецкие евреи-то слышат и понимают отлично каждое слово, каждый всхлип фюрера. Они что, не верят своим ушам? О да, они ведь считают себя истинными немцами, вносящими такой большой вклад в германскую культуру, что позволяет им верить в «высокий немецкий разум», а не в кликушеские речи этого человека, самого себя назначившего фюрером. И вообще, их вклад в культуру и экономическое развитие Германии позволяет им с той же, заимствованной у немцев, спесью относится, положим, к «остюде», восточным евреям, к которым, по их мнению, и главным образом, обращены постулаты и посулы Гитлера. Все эти евреи – галицийские, польские, румынские – неопрятны, бородаты, пейсаты, отсталы, нищи, потому что не любят работать, суетливы, потому что надо же как-то прокормить свои семьи, говорят на идиш, на этом испорченном мертвыми древнееврейскими словами немецком.
Они и вправду вызывают неприязнь, переходящую в ненависть.
Разве нам сегодня, положа руку на сердце, в нашем еврейском государстве, не знакома эта неприязнь, а иногда и ненависть?
Однако вскоре все станет на свои места, все станут на свои места – в одной очереди – и немецкие евреи-спесивцы, и польско-румынский еврейский люд, и русские евреи, которых немцы будут сплошь называть «большевиками и комиссарами», – в огненную печь.
«Интеллектуал» Альфред Розенберг пытается мифически и мистически растолковать «политические» толкования фюрера. Его вовсе не интересуют старые мифы, будь то греческие или древнегерманские, весь этот отработанный хлам. Его интересует сотворение, внутренняя демоническая энергия нового национал-социалистического мифа.
Его интересует именно то, что так пугало Платона – мифический яд, отравляющий души молодого поколения и действительно стерший Грецию с мировой исторической арены. Но что, Платон, действовавший в греческих на смех государствах – маленьких полисах.
Немецкая нация мощна и велика. Души немецкой молодежи, дремлющие до сих пор, жаждут этой демонической энергии мифа, способной взорвать и преобразить весь мир на «великий» германский лад. Розенберг не просто надеется, а уверен, с истинно немецкой спесью, что на этот раз, в отличие от древней Греции, кривая вывезет.
Ладонь германского юноши, взметенная в жесте «Хайль Гитлер», подобно ножу, рассечет мягкотелость либеральных народов, главным образом, англичан и американцев. Русских Розенберг знает лучше всех: эти рождены быть рабами.
Но, прежде всего, необходимо освободиться от евреев, чтоб германские юноши могли глубоко дышать ставшим свежим воздухом, справляя свою великую нужду создания нового мира под лозунгом «Дойчланд юбер алес».
Розенберг использует для сотворения нацистского мифа Канта, Гегеля, но, главным образом, примеряет одного к другому и примиряет Вагнера с Ницше, для этого ставя последнего на голову. Розенберг имеет в виду сотворение нового мифа, нового мира, в котором История строит сама себя как завершенное произведение, а в нем немецкий народ и Германия также выступают, как завершенные произведения искусства.
Запомним это, ибо именно за это французские постструктуралисты предъявят иск «нацистскому мифу».
Мог ли Розенберг представить себе хотя бы нам миг в 1943 году, находясь на вершине своей политической карьеры, на вершине власти, что всего через каких-то жалких два года он станет падалью, вздернутой на петлю по приговору Нюрнбергского международного трибунала?
Но вернемся к творимой Гитлером и его верным клевретом Розенбергом новой мифологии.
В 2001 году я писал роман «Пустыня внемлет Богу», посвященный жизни пророка Моисея. Представляя себе его воспитание в молодые годы, когда он был египетским принцем Месу, я пытался понять, как учителя его, египетские жрецы, объясняют возникновение и существование богов, и, главное, божественную силу владыки земли и неба – фараона.
Готовясь писать эту работу – «Иск Истории», я, как говорится, пролистал Розенберга, ибо читать его подряд сегодня невозможно.
Я был удивлен тем, насколько совпадают постулаты Розенберга с красочными доводами египетских жрецов, представляемые мной на основании моего опыта жизни в нашем прошлом тоталитаризме.
«Великий жрец», названный мной Аненом, обрисовывает царским принцам пантеон богов. Этот жрец – «…крупный наголо бритый мужчина… с несколько выпуклыми глазами и узкими, как лезвие, губами, выражающими скрытое тщеславие и жесткую уверенность в том, что его недостаточно возвеличивают, хотя, услышав его низкий хрипловатый голос, юноши широко раскрывают глаза и рты, ловя каждое его слово.
– Итак, – говорит Анен, – вступаем в пантеон богов, хранителей нашей прекрасной Кемет. Срисовываем их тщательно, ибо они концентрируют в себе жизненную силу. Само очертание и знание их держит в себе эту силу… Сочетание разных, иногда несовместимых элементов зримого образа того или иного бога может показаться произвольным. Но именно в этом скрыта великая логика богов. Она могла открыться на миг древнему жрецу-одиночке, чтобы стать достоянием всей нации на века. Как это открывается? Естественно, не впрямую. Пример: вы всматриваетесь в стоячее зеркало воды и постепенно, сами того не замечая, отключаетесь от окружающей среды. Вы погружаетесь в себя… Но миг – и мысль возникла как озарение: вода – это темное и в то же время незамутненное зеркало души. Так и древнего жреца коснулся божественный жезл. Или на глазах его распустился цветок лотоса. Энергия личности жреца достигла уровня бога, и тот раскрылся ему, какой он есть, и таким вошел в пантеон нации. Личностное – вот писцовое перо нашего сознания и души».
На миг пригрезившийся жрецу бог становится вечным образом. Слова «греза» и «образ» не сходят с уст Розенберга при описании силы мифа. Только безоговорочная вера в пригрезившийся образ (фигуру) вынесет в мир внутреннюю энергию мифа, освободив для этой энергии жаждущую душу. «Свобода души – это Gestalt», – произносит Розенберг любимое слово Хайдеггера, которое в русских философских текстах последнего переводится как «постав» (образ, форма, фигура). «Постав», по Розенбергу, «всегда пластически ограничен… Это ограничение обусловлено расой». И чем раса более велика, тем ее «постав» более гениален, грандиозен. Ясно, что речь идет о расе германской – высшем достижении арийцев.
Тут, на этой высокой ноте, вступает кликушески Гитлер: может ли эта высшая раса смириться с тем, что рядом существует даже не раса, а низкий тип людей, даже не тип, а антитип, сам себе подписавший приговор своей неполноценностью, ибо нет у этого типа своей культуры. Даже религию свою – монотеизм – они, евреи, украли у предшественников. Нет у них «постава», они бесформенны.
Розенберг расширяет «антропологические» рассуждения Гитлера о евреях: они, евреи, даже не антиподы немцев, они даже не тип, а «отсутствие типа», некое изводящее здоровую немецкую душу «противоречие», черная в ней дыра, ноль, самое ужасное выражение того самого Ничто, о котором с такой глубокомысленностью разглагольствует вся немецкая классическая философия.
Но истинно новому мифу недостаточно этого разглагольствования. Он, по Розенбергу, должен «проживаться», разворачиваясь «действием», мистерией.
«…Царские отпрыски вместе с великим Аненом плывут на корабле по ночному Нилу к храму бога богов Амона-Ра. Два берега – два сплошных потока факелов. Все это стесняет восторгом и страхом души будущих властителей Египта, «вызывает слезы, когда внезапно, подобно тем же факелам, перекатываясь вдоль берегов и по водам, несется: «Великому посланнику Амона-Ра Анену и царственным ученикам его – сл-а-а-а-ва!»…
– Ла-ава-а!.. Лаа-ва-а!..
И вправду подобны лаве огненной факелы, взметаемые сжатыми кулаками тысячей тысяч юношей и девушек…
Великий Анен в дымных облаках воскурений чудится парящим в воздухе. Он не только огромен, громом звучит его голос… – Клянемся великой клятвой!..
– Клят!.. Кля-я-ят!..
Смятые собственной беспомощностью, смятенные, сметенные миллионоголосым ураганом, ученики как зачарованные не отрывают глаз от великого учителя, и в глазах их тлеет, как в лампадах, смесь восторга и подавленности. Это и есть мистерия в высшем своем выражении, думает Месу, вспоминая урок великого Анена о мистериях: они требуют упражнения разума, интуиции, воли, ибо это вовсе не мистические фантомы и не сухое обучение. Это – сотворение в нас души собственными ее силами.
– Чужеземцы, принятые нами по широте души нашей, – гремит голос Анена, благодаря акустике как бы несущийся с небес, – спасенные нам от голодной смерти, спят и видят исполнение страшных пророчеств… Они не верят в наших богов, противопоставляя им какое-то варварское, невразумительное божество. Да, они прозябают, само их отрицание наших богов доказывает, что боги наши их и лишили разума. Но они хитры и мстительны, они несут внутреннюю угрозу нашей прекрасной Кемет. Настанет день, придет конец нашему терпению, и наши мечи и копья понесут им наше проклятье!..
– Клять!.. Кля-я-ть!..»
У Розенберга именно так пробуждается могущество мифа, чей неудержимый поток сметает с пути слабо укрепленные плотины философии, филологии, демократии, христианской веры, давно уже обескровленной ее собственными «еврейскими» корнями. Все это давно утратило чувство расы, то есть мифа, чей застоявшийся поток, прорвавшись, заливает мир. Жизнь расы, народа, по Розенбергу, «не сводится к логично развивающейся философии или к процессу развития согласно законам природы, это формообразование некоего мистического синтеза». И потому реальное проживание сотворенного мифа должно быть обставлено символами – морем знамен и факелов, униформой, жестами, печатаньем шага в непрекращающемся оргазме парадов и массовых церемоний. Символика не есть лишь знак отличия. Это – осуществление грезы, заложенной в мифе.
…Царских принцев вводят в глубь пирамиды, из тьмы которой доносится слабый, но узнаваемый голос их «отца» – голос повелителя земли и неба: «…Дети мои, во имя всех нас и мира живого сошел я в мир мертвых… И услышал я голос: «…путь в страну мертвых открыт, сходи же!» Солнечная печать высветила вход, сознание и дух мой изменились, и я начал сходить в покои смерти, во внутреннюю нашу отчизну, сбрасывая, как цепи, все физические и символические связи с этим миром. Словно бы кто-то громом нашептывал мне: «Долой разум, да здравствует интуиция, да освятятся хлеб и вода, да прольется кровь жертвы!»… В полном безмолвии стояли они, великие наши предки, но за ними темной глубью бесконечного стоял некий смысл, захватывающий их и меня целиком… И рядом распахнуто дышала бездна изменения, обновления, посвящения, полного превращения в бога.
…Вседозволенность ослепительным крылом опахнула меня.
Отныне гибель людей во имя бога Амона-Ра – священна.
Уничтожение врагов, даже если они младенцы – священно.
Очищение расы и крови от чужеземной примеси – священно.
«Велика опасность чужеземцев, – шептал мне все тот же голос, – особенно хабиру-ибрим-евреев с их невидимым богом, воздающим за грехи. Это подобно яду ослабляет глубину веры нашей в священность животных, деревьев, почвы, трав, природы. Они враги наши, ибо не живут естественным инстинктом, а на наших богов смотрят свысока, хотя сами прозябают в нищете и грязи, а значит, и в зависти тайной и жадном желании паразитировать на нас и обкрадывать».
И после этого, обновленный и возрожденный, начал я читать главу «Восхождение к свету» из «Книги мертвых», чувствуя, как с каждым словом возвращается ко мне жизненная сила…»
С этими словами вспыхнули факелы по углам гробницы… Витающий, как сомнамбула, Месу видит… в дымке сверкающее золотом кресло рядом с гробницей, а в нем старичка, довольно хилого телом и бледного лицом, в одной набедренной повязке и плате, вероятно, прикрывающем лысину. Показалось даже, что одна рука короче другой и скрючены, будто срослись, пальцы ног. Но у входа вострубили трубы, слабо доносясь в глубь камня, как сквозь слой воды… Пошла прислуга, и по мере ее прибывания усталый старичок начинает меняться на глазах… Наносят грим, обряжают в золото и бриллианты…И вот он, воистину наместник бога Амона-Ра на земле, восходит к выходу…Трубы возвещают морю волнующегося люда выход повелителя поднебесной страны Кемет… из мира мертвых… Слышен кашель людей, почти потерявших дыхание, шарканье переступающих, подламывающихся от долгого стояния ног.
Но поднятый на высоты... сверкает причастностью к богам наместник Амона-Ра на земле, покрывая своим сиянием все человеческие немощи, и глаза Месу отказываются верить, что увиденный им в мерцающей удушливой мгле старичок и этот всесильный земной бог – одно и то же существо».
По Розенбергу нацистский миф, раса, народ держатся на крови и почве(Blut und Boden). И тут неожиданно приходят на ум строки Пастернака: «Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство, и дышат почва и судьба».
Почва по Розенбергу, естественно, природа Германии, а кровь немцев – арийская, которую Розенберг возводит к Атлантиде. Ариец не просто тип среди типов. Это – архетип, который сам себя грезит и сам себя воплощает. Ариец – основоположник цивилизации, обладающий волей к форме, «волением формировать». Начиная с греков, искусство является само по себе религией. И это не «искусство для искусства», а «органическое искусство, порождающее жизнь». Тут вступает своим аккомпанементом любимый Гитлером и Розенбергом Вагнер, несущий понимание жизни как искусства – тела народа и государства как произведения, свершившихся форм воли, завершенных идентификаций пригрезившегося образа.
Сама логика нацистского мифа выступает как его самоосуществление, более того – это является самоосуществлением цивилизации вообще, но в строгой форме германского национал-социализма, истинном и однозначном понимании – «Дойчланд юбер алес». Достоверность этого не подлежит никакому сомнению, никакой критике. У Розенберга сплошь и рядом все «достоверно».
На следующее утро после триумфальной ночи Гитлера, пришедшего к власти, еврей Европы проснулся Грегором Замзой из повести Кафки «Превращение»: «…Проснувшись… после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно-твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами. «Что со мной случилось?» – подумал он. Это не было сном…».
Близился конец Третьего рейха, но нацистская машина, уже зависнув над пропастью, продолжала вовсю вертеть своими колесами, ножами, шестеренками – поезда с евреями продолжали катить свои колеса в лагеря смерти, исправно работали крематории, превращая души евреев в дым. Приводящие эти печи в действие с исправным любопытством поглядывали в глазок, следя за тем, как человеческие существа мгновенно и ярко вспыхивали, превращаясь в горсть пепла.
В рейхсканцелярии фюрера офицеры, определяя какой район Берлина занят русскими, играли в необычную русскую рулетку, основанную на инстинкте человека при телефонном звонке хватать трубку. Офицеры звонили по домашним адресам и, услышав русскую речь, отбрасывали, словно обжигаясь, трубку.
Близился конец самого чудовищного в человечестве преступления, за который свою немалую долю вины несли европейская философия, филология, биология и, в первую очередь, политическая История.
И уже совсем обезумевший параноик, сам похожий на насекомое Грегора Замзу из повести Кафки, но все еще верящий, что он «великий диктатор», диктовал последнюю страницу этого преступления за день до своего самоубийства – свое завещание: «…Превыше всего я обязываю руководство германской нации и его приверженцев строго охранять расовые законы и противодействовать без жалости отравителю всех народов – мировому еврейству».
Глава шестая
Шоа
У несуществующей стены…
Это случилось 4 января 1954 года, за неделю до моего двадцатилетия. После выступления нашего университетского оркестра в каком-то, кажется, подшефном колхозе меня подбросили на автобусе до вокзала, и вот разомлевшим от сельского вина и еды студентиком еду в битком набитом вагоне к матери в город моей юности. Время позднее, все собираются на выход, неохота стоять в очереди, и я, как это неоднократно делал раньше, решаю выйти через тамбур, между вагонами, забыв, что тормоза на зиму прикрываются металлическими коробами, прикрепленными к стенкам вагонов...
Очнулся в больнице. Тут же хотел встать и идти домой. «Шок», – сказал врач. Слепящий больничный свет и внезапно наплывшие в слух бубнящие голоса пассажиров вызывали головокружение и тошноту. Меня перевели в палату. Там было темно и тихо. Какая-то тень, мучая меня, колыхалась в окне, то, исчезая с провалами сознания, то, возвращаясь, пока я вдруг, окончательно придя в себя, не понял, что это – мама. Я слабо помахал рукой. Тень тем же слабым движением повторила мой жест. Девять дней пролежал я в больнице. Сжаты были сердце и легкие, белки глаз были красными от полопавшихся сосудов. Если бы я был старше лет на пять, сказал доктор Москович, эта станция оказалась бы для меня последней.
Начинались экзамены. Я вернулся в университет.
В одну из ночей, в общежитии, я внезапно проснулся с ощущением тихого ужаса. Это не было продолжением сна, галлюцинацией: реальные вещи – тумбочка, стул, спящий сосед – обступали меня.
Это память внезапно, после стольких дней, вскрыла свои запечатанные болью подвалы: я лежал на снегу, навзничь, захлебываясь кровью, кто-то говорил – «Кончается», но голос доходил до меня как сквозь вату и как бы вовсе меня не касался.
И так же внезапно, без всякого моего вмешательства, память перекинулась на тринадцать лет назад, в 22 июня 1941-го: после обеда выхожу со двора к стене дома, обращенной к Днестру, вдоль которой густеют кусты. В них у меня тайник, а в нем – всякая мелочь: пуговицы, шестеренки от часов. Но зато эта тайна принадлежит только мне. Достаю эту мелочь, чтобы играть на парадном крыльце, где на дверях темнеет прямоугольник от снятой год назад вывески на румынском «Адвокат Исаак Баух». Капитан Красной армии Перминов с семьей, которую поселили у нас, два дня назад уехал, как он объяснил, в связи с обострившейся международной обстановкой. Мама несколько минут назад оплеснула крыльцо водой, и оно чуть дымится, блестя на солнце синим асфальтом. Вдруг прямо над моей головой возникает самолет. Пулеметная очередь. И тишина. Сижу как в столбняке. Не замечаю, что на улицу высыпали все соседи. Отец открывает парадную дверь, говорит: «Началась война».
Люди, притихнув, сидят на скамейках у своих домов, во дворах, кажутся оцепенелыми, как жуки, которые при возникновении опасности притворяются мертвыми. Ощущение такой оцепенелости часто приходило в годы войны, в самые страшные ее минуты.
На рассвете впервые, сжимая сердце ужасом, раздается нарастающий гнусавый вой немецких бомбардировщиков. Мы живем примерно в километре от моста через Днестр. Его-то немцы начинают бомбить. Дом качает, как при землетрясении. Скребутся в парадную дверь. Отец открывает. Незнакомая женщина с обезумевшими глазами пробегает мимо него в спальню родителей, забивается под кровать. Отец тщетно пытается ее выманить оттуда. Спускаемся в подвал. С каждым ударом со стенок осыпается земля, вздрагивает пламя свечи, плесень забивает ноздри. Так и не помню, куда исчезла женщина, события сбивают с ног, все время хочется спать.
Ночью небо на западе багровеет сплошным пожаром, слышатся глухие удары. Во время ночной бомбежки тьма расцветает сплошным фейерверком трассирующих пуль, летящих во всех направлениях, высвеченными в свете прожекторов облачками разрывов зенитных снарядов. Воистину, на миру и смерть красна.
С утра в тихой истерии идет беспрерывная упаковка, прерываемая сиренами воздушной тревоги, большей частью ложной. Бомбить мост начинают внезапно. Вещи сложены на телегу, на них уже восседает бабушка, отец навешивает замок на дверь, с ошеломляющей наивностью среди всеобщей гибели, говоря, что через день-два мы вернемся. Мама требует заменить этот небольшой замок амбарным. С обычной для него легкой усмешкой отец подчиняется ей. Через много лет я пойму, что в этом кажущемся наивным поведении отца прощупывается единственная возможность не терять присутствия духа в пространстве идущей на человека гибели во весь разворот земли и неба. И это подобно детской игре в прятки, когда прятаться-то некуда, а поворот ключа в замке подобен ничего не решающему заклинанию «Сезам, затворись!». Но ведь какой должна быть приобретенная всего за несколько дней стойкость двигаться посреди улицы, посреди дня, на виду всего разверстого неба, откуда в любой миг может прийти смерть, уже приведшая к немалым жертвам!
Все, все, пора в дорогу.
Но беда в том, что я упираюсь, я не хочу покидать дом, я реву в три ручья. Неизвестность будущего, но живого, мне страшней настоящего, привычного, пусть и чреватого в каждую минуту смертью. Начнется бомбежка. После многих попыток немцы могут, наконец, разрушить мост, и тогда нам точно каюк. Но отец терпеливо ждет, пока я выревусь и успокоюсь.
Начинаем двигаться. Остающиеся евреи с землистыми лицами, подслеповато щурясь после подвальной тьмы, вяло машут нам руками.
Отец, знакомый многим, ведь юрист, который должен спасать, пытается по пути каждого потрогать, ободрить, но люди как бы уже по ту сторону своей судьбы, уже втянуты надвигающейся гибельной бездной, уже и не притворяются мертвыми жуками, а примеривают на себя это состояние как последнюю, неотвратимую форму существования. Их даже не страшит судьба их детей, вяло играющих на солнце в перерывах между бомбежками.
Отец всматривается в их лица, еще раз пытается объяснить, что единственное спасение – бежать, раздражая торопящую его маму, которая держит меня за руку. Отец не отводит глаз от этих лиц, и они на миг очеловечиваются, освещаясь искрой надежды, которая тут же гаснет по ходу нашего движения.
На всю жизнь я запомню эти безымянные лица как символ истинной человечности, абсолютно беспомощной перед всеохватной чудовищной жестокостью мира.
Живущие напротив Карвасовские, давно и открыто ждущие немцев, скрывают злорадство под жалостливыми улыбками. Соседушка, сапожник-пьянчуга Яшка Софронов делает нам ручкой, той самой, которой, только мы скроемся за поворотом, взломает замок и поселится в нашем доме.
В пространстве Шоа, уже накатывающем и подхватывающем все вокруг смертельным валом, у остающихся евреев еще достаточно времени на всякое бытование. Завязывают в узлы вещи со слабой, но все же неисчезающей верой, что повезут их в более спокойное место, хотя зловещее солнце июня предвещает одно: смерть. Зашивают пуговицы на одежде, которая совсем скоро станет ненужным тряпьем, если кто-либо из бандитов не позарится на пару приличных брюк или туфель.
Подкрепляются на дорогу, берут еду с собой, будто собираются на пикник.
Окружающие знакомые дома, лица, деревья, кусты, кошки и псы внушают даже некоторое запредельное спокойствие каким-то явно уже сюрреальным обещанием устойчивости существования. Так, вероятно, воспринимается мир реанимируемым и моменты прихода в сознание и возникновения пульса перед тем, как пульс этот оборвется навсегда.
Мы благополучно минуем мост.
Уже остается совсем мало времени до того, как в окнах домов оставшихся евреев возникнут, накапливаясь переулками, румынские солдаты. Они улыбаются, скаля зубы, эти потомственные антисемиты, накопившие опыт погромов по городам Румынии, они говорят «пофтим» («пожалуйста»), выпроваживая людей из домов.
В 1943-м отец погибает в хаосе Сталинграда. В 1945-м мы возвращаемся. Софронова с трудом выселяют из дома. Многие годы в нем будут жить мама и бабушка, и, приезжая на побывку, я издали ощущаю знакомые очертания кустов у стены, обращенной к Днестру. К моменту моего отъезда в Израиль уже нет в живых ни мамы, ни бабушки и, попрощавшись с их могилами, я иду к дому, которого уже нет, ибо сооружают на этом месте приречный парк. Только еще остаток стены, обращенной к Днестру, обнаженной костью торчит из земли. От угла стоящей напротив гостиницы «Дружба» вымеряю шагами расстояние до угла стены, и эта цифра врезается в мою память на всю оставшуюся жизнь.
В 2003 году, находясь в Кишиневе по случаю 100-летия со дня «знаменитого» погрома, опять посещаю могилу матери в Бендерах. Подхожу к той самой гостинице, в которой сейчас, кстати, располагается филиал Сохнута, считаю шаги в сторону несуществующего нашего дома и замираю.
Огромный памятный камень высится на месте, где стояла наша стена.
Около нее в 1941-м были расстреляны все евреи городка.
Преступность незнания переводит чудовищную бездну в нечто терпимое, бок о бок с твоей юностью.
И только такой толчок – через шестьдесят два года – всплывает памятью, как тогда, после сжатия поездом, и нет страшнее этого возвращения в память внезапно хлынувшего из подсознания ужаса.
И сапожник Яшка Софронов, благодушно разлегшись в папином адвокатском кресле, попивает водку под сухой треск выстрелов и придушенные стеной стоны. С уходом расстрельщиков поглядывает свысока в окно, через которое я впервые осмысленно увидел Божий мир, поглядывает с видом человека, удостоившегося дожить до осуществления, пусть и чужими руками, своей давней мечты: убийства ненавистных жидов.
Над горой трупов уже вьется рой мух. Пока трупы уберут, этот ничтожный человечишка чувствует себя воистину повелителем мух.
И непереносима боль, что через глаза этого негодяя устанавливается, изводя душу, взгляд на Шоа.
Этот чудовищный кошмар, который уже хватал меня, малыша, за загривок, только и может раскрыть нечто, подобное небытию «бездны».
Я думаю об отце
Талантливый адвокат, у которого не переводились клиенты, он владел французским, немецким, румынским, ивритом. В Судный день он брал меня с собой в синагогу, вызывался к чтению Торы и, покрывая голову талесом, становился мне незнакомым и неземным. Улыбка у него была грустной. Когда мне на ум приходят слова Коэлета «Во многой мудрости много печали», передо мной мгновенно возникает лицо отца. Он был неисправимым бессребреником, любил дарить вещи людям, за что мама не раз упрекала его. Душа его была наивной и чистой, как у ребенка, и потому только я, малыш, и мог его понять.
Позднее по маминым рассказам я понял, что отец был меланхоликом, но оживлялся с появлением клиента, у которого было трудное дело. Тут в нем словно бы пробуждалась иная душа, изощренная в юридических ходах. Меланхолик при этом в нем не дремал, охлаждая вероятностями проигрыша.
Как ни странно, он довольно часто выигрывал суды, особенно долго длящиеся. Думаю, в те страшные минуты, когда мы тащились через мост за телегой, вздрагивая от каждого звука в страхе, что сейчас появятся немецкие бомбардировщики, отец размышлял о нитях наших жизней. Они могли в любой миг оборваться, пульсируя в слепой кишке времени, где вообще исчезли понятия справедливости, обвинения, защиты, где были лишь не подвластные никаким законам совести преступники и невинные, заранее обреченные на смерть люди.
Когда думаешь о том, что удалось дожить до самоубийства Гитлера, Нюрнбергского процесса, смерти Сталина, опровержения «дела врачей», начинаешь осторожно верить, что еще не все потеряно.
Отец принадлежал к удивительному по альтруизму и чистоте души, несмотря на все их заблуждения, поколению евреев, родившихся в Восточной Европе в начале двадцатого века. Мало кто из них еще в молодые годы остался в живых. Многие из тех, кто учился с ним в гимназии, с юности узнали издевательства антисемитов и уехали учиться, главным образом, во Францию. Некоторые из них, как Давидка Букштейн и Яша Кофман, погибли в гражданской войне в Испании в чуждом им, но таком наивно альтруистическом желании в Гренаде «землю крестьянам отдать».
Другие пали под Севастополем и Одессой. В живых, насколько я знаю, осталось несколько уехавших еще в 20-е годы в Палестину, Журналист и переводчик Мордехай Север (Свердлик), сидевший с отцом на одной школьной скамье, работал в газете «Давар». А закадычный друг отца Шика Гершенгорин был долгое время после войны главным архитектором Версаля.
И когда я открыл для себя работы Эммануила Левинаса, которого сегодня во Франции считают одним из величайших философов XX века, я понял, что судьба дала ему долгую жизнь стать рупором отцовского поколения, его устами. О них писал Мандельштам в стихотворении «1 января 1924», знаменательно помеченном двумя датами – 1924 и 1937:
Я знаю, с каждым днем слабеет
жизни выдох,
Еще немного – оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют...
Надо быть неисправимым в самом своем корне оптимистом, чтобы в гибельной бездне строить философию на столь же абсолютном запредельном альтруизме, основанном на встрече с Другим, с Богом – «лицом к Лицу». Но только такой запредельный подход, названный Левинасом «Бесконечным», может и быть альтернативой предельной бездне безнадежности, насилия и гибели, обозначенной Левинасом «Тотальностью».
Эммануил Левинас родился в Ковно (Каунасе), в семье, где традиции иудаизма, изучения иврита сочетались с изучением европейских языков и культуры. Уехал во Францию, учился на философском факультете Страсбургского университета. В 1930 году получил французское гражданство. В том же году он публикует работу «Теория интуиции по отношению к феноменологии Гуссерля», с почтительной критичностью обращаясь к учениям двух великих евреев – французского философа-интуитивиста Анри Бергсона и немецкого философа Эдмунда Гуссерля.
Начинается Вторая мировая война. Франция капитулирует. Левинаса спасает французская военная форма. Он попадает в лагерь военнопленных.
Все его близкие в Литве гибнут от пуль разгулявшейся расстрельной братии. Жена и дочь во Франции остаются в живых.
Удивительно, как молодой начинающий философ уже в 1935 году, в работе «О побеге», нащупывает свою дорогу, в противовес торжествующим в Европе феноменологии Гуссерля, интуитивизму Бергсона, онтологии Хайдеггера.
Отталкиваясь, в определенной степени, от экзистенциальной позиции Габриэля Марселя, он определяет свободу как возможность изменения «я» внутри неизменяющейся «тяжести бытия».
Как освобождение «я» от себя самого, от своего эгоистического «постава».
Левинас как будто предчувствует, какой чудовищный опыт существования на грани Ничто обрушится на него через считанное число лет, сосредотачиваясь, как пловец, перед надвигающимся девятым валом.
Более шести лет, с 1939-го по 1945-й, Левинас находится в немецком плену, в концентрационном лагере, где у него, накапливаясь в набросках и фрагментах, вызревает книга «От существования к существующему» («De l’ехistence a’ l’ехistent»). Только в плену неотступающей мыслью, сверлящей сознание, может быть мысль о существовании и существующем. Книга выходит в свет в 1947 году. В ней он уже намечает главные понятия своей философии, которые будут развернуты в следующей, одной из главных его книг, «Тотальность и Бесконечное» («Totalite et Infini», 1961).
В каждодневном плену несуществования философ записывает: «Не обременено ли бытие другими пороками, кроме своей ограниченности и ничто? Не таится ли в самой его позитивности некое изначальное зло? Не является страх бытия – ужас бытия – столь же изначальным, как и страх смерти?»
Этот ужас бытия Левинас называет «безличным наличием – «ilуа».
Обратите внимание, что в «безличном наличии» дважды возникает корневое – «лицо», которое станет главным понятием философии Левинаса.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/efraim-bauh/isk-istorii/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
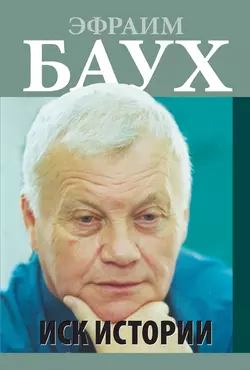
Эфраим Баух
Тип: электронная книга
Жанр: Историческая литература
Язык: на русском языке
Издательство: Книга-Сэфер
Дата публикации: 06.11.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Многие эссе и очерки, составившие книгу, публиковались в периодической печати, вызывая колоссальный читательский интерес.