Беседы о кинорежиссуре
Михаил Ильич Ромм
Pocket book (Эксмо)
Михаил Ильич Ромм (1901 – 1971) – выдающийся советский кинорежиссер, снявший такие фильмы как: «Обыкновенный фашизм», «Девять дней одного года», «Пышка», «Ленин в Октябре». Ромм был не только практиком кино, но и великолпеным теоретиком, мыслителем. Ромм преподавал во ВГИКе, был профессором, среди его учников – Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Резо Чхеидзе и многие другие. В книге «Беседы о кинорежиссуре» собраны размышления Ромма о кино, не потерявшие своей актуальности в наше время. «Беседы» Ромма будут интересны всем, кто любит, смотрит или делает кино!
Михаил Ромм
Беседы о кинорежиссуре
Для кого и о чем написана эта книга
Кинематограф у нас в стране любят все. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что воспитание человека в значительной степени зависит от кинематографа. Кинематограф оказывает громаднейшее влияние на все стороны жизни, и особенно на молодежь. Когда кинематограф работает плохо, то тем самым молодежь лишается очень важного орудия для воспитания ее мыслей, ее морально-нравственных устоев, ее общественного настроения. Когда появляется даже одна хорошая картина, мы видим, что она иной раз производит такое действие на молодежь, какое не могла бы произвести даже армия агитаторов, газетных работников и т. д. Каждый кинорежиссер, сценарист, киноактер знает, какой интерес вызывает кинематограф и все виды кинематографических профессий. Где бы нам, киноработникам, ни приходилось выступать, мы получаем десятки записок с просьбой ответить на тот или иной вопрос, касающийся кино и людей, работающих в нем. Я получаю множество писем. Мне пишут солдаты и учащиеся средней школы, колхозники и театральные актеры, инженеры и рабочие. Одни спрашивают, как можно сделаться киноактером или кинорежиссером; другие интересуются, какую литературу по кино можно прочесть; третьи присылают свои сценарии или просят совета, как писать сценарии.
Трудно ответить на такой поток писем. Ведь каждый из пишущих ждет, что я ему отвечу сам, расскажу ему то, что знаю я – режиссер и кинодраматург. Поэтому я решил написать эту книгу. Я постараюсь рассказать в ней то, что думаю и знаю о работе режиссера в кино, о сценарии и вообще о кинематографе.
Книга эта рассчитана на широкого читателя. Мне хотелось бы, чтобы она прежде всего принесла пользу всем, кто любит и интересуется нашим делом, не работая в нем профессионально. Таких людей очень много.
В нашей стране стремительно растет сеть любительских кинокружков. Уже десятки тысяч людей занимаются кинолюбительством. Снимая кадры и склеивая их, они подчас почти ничего не знают о сложной, трудной и многообразной профессии кинорежиссера и кинооператора. Все постигается ими на практике.
Итак, книга эта адресована тем, кто занимается кинолюбительством.
Но есть люди (и таких тоже немало), которые не имеют дела с узкопленочным аппаратом и тем не менее любят кинематограф, интересуются им и хотят знать об этом искусстве как можно больше. Не раз мне приходилось встречаться с кинозрителями, которые обнаруживали превосходное знание кинокартин, могли перечислить не только актеров советского и зарубежного кино (актеров знают, пожалуй, чуть ли не все), но и режиссеров, и операторов, и кинодраматургов. Многие из этих людей разумно и глубоко судят о картинах.
Среди писем, которые я получаю, немало написано именно такими зрителями. Они интересуются кинематографической литературой, и вопросы их в основном сводятся к тому, что прочитать о кинематографе, что прочитать о кинорежиссуре, что прочитать о сценарном деле. Любя кинематограф, эти люди хотят узнать его ближе и подробнее, хотят понять, как делается кинокартина, как работают кинематографисты, создавая свои фильмы. Я надеюсь, что эта книга поможет и этого рода любителям кинематографа.
Немало писем я получаю от работников смежных искусств – от театральных актеров, которые хотят сниматься в кино или просто интересуются смежным видом творчества, от работников других искусств, тянущихся к кинематографу, от начинающих писателей, от участников драмкружков. Может быть, когда-нибудь они и придут к нам.
Все они хотят знать специфику киноработы. Я рассчитываю, что эта книга принесет известную пользу и этой группе читателей.
Наконец, среди многотысячной армии профессиональных кинематографистов огромное большинство знает какой-либо один узкий раздел киноработы, и многим из них интересно полнее, шире изучить свое дело. Работая над этой книгой, я думал и об этих моих коллегах – киномеханиках, ассистентах и помощниках режиссера, молодых операторах, осветителях, лаборантах, рабочих киностудий.
Мне довелось за последние годы прочитать много лекций и докладов. Я читал лекции во ВГИКе, на режиссерском, на сценарном и на других факультетах; читал лекции на режиссерских курсах «Мосфильма»; читал доклады для участников всевозможных семинаров на киностудиях; наконец, мне много раз приходилось выступать в университетах культуры и просто перед массовым зрителем. Я обратил внимание на то, что, чем проще и вместе с тем чем профессиональнее я излагаю предмет, тем больший интерес вызывает лекция, в какой бы аудитории она ни читалась. Разумеется, обращаясь к студенческой аудитории ВГИКа, приходится излагать некоторые особые, сложные проблемы режиссерской деятельности в кинематографе, которые интересны только специалистам, однако я заметил, что большинство лекций, которые я читаю студентам режиссерского факультета, представляет интерес далеко не только для них – такие лекции охотно слушает любая, самая «неподготовленная» аудитория.
Я сделал из этого вывод, что интерес к кинематографу настолько велик, любовь к нему настолько всенародна, наша молодежь (да и не только молодежь) настолько хорошо подготовлена для разговора о киноискусстве, что не нужно нарочито упрощать предмет в беседе с самой широкой аудиторией.
Беседа первая
Что такое кинорежиссер
Один из основоположников советской кинорежиссуры – С. М. Эйзенштейн как-то сказал: научить режиссуре невозможно, но научиться ей – можно. Режиссура – это настолько сложный предмет, она связана с таким количеством разнообразных знаний, разнообразных навыков, она настолько многообразна, что до сих пор ни у нас и нигде в мире не создан еще учебник кинорежиссуры. Я тоже не хочу пытаться написать учебник. Смешно было бы предполагать, что можно создать книгу, прочитав которую человек может стать к киноаппарату и немедленно начать снимать фильм.
Студенты режиссерского факультета ВГИКа учатся пять с половиной лет. Первые два года они в основном слушают лекции по десяткам предметов, из которых кинорежиссура – только один. Со второго курса они начинают снимать маленькие этюды. Работа педагога с каждым следующим курсом делается все более специализированной. Он превращается в основном в советчика, в наблюдателя. Учеба студента завершается съемкой дипломной кинокартины.
Инженер, выполнивший дипломный проект, немедленно может начать работать по специальности. Он идет на производство в качестве инженера. Режиссер, защитивший дипломную кинокартину, вовсе не обязательно получает после этого самостоятельную постановку, ибо даже съемка дипломной картины еще не означает, что он завершил учебу по специальности режиссера-постановщика. Очень часто окончивший ВГИК молодой режиссер год, два, три, а то и больше работает на производстве, выполняя подсобные функции: работает ассистентом или так называемым вторым режиссером при режиссере-постановщике.
Режиссура – специальность сложная, трудная, но необыкновенно интересная. Кинематограф и работа в нем интересны сами по себе, но самое увлекательное в кино – это именно работа кинорежиссера.
В нашей стране искусством занимаются многие тысячи и десятки тысяч людей. Это – целая армия. Всю эту армию работников искусства можно разделить как бы на три отряда.
К первому из них мы отнесем тех, кто не нуждается ни в каком посреднике для того, чтобы донести свое творчество до потребителя – до зрителя или слушателя. Живописец пишет свою картину красками на полотне, и ему не нужен больше никто: зритель видит результат его творчества, оценивает его непосредственно. То же самое можно сказать, например, о народном певце, об акыне, о скульпторе, даже о писателе, который нуждается только в типографии, то есть в техническом средстве распространения своего искусства. Но между повестью, написанной от руки, и повестью, напечатанной в типографии, никакой разницы нет, это одна и та же повесть.
Писатель, живописец, скульптор непосредственно обращаются к своему зрителю, читателю, слушателю.
Однако не все искусства могут так прямиком передаваться от творца к потребителю, есть целый ряд искусств, в которых такая непосредственная передача невозможна, например, овременная музыка.
Написанные композитором ноты представляют собой ряд значков на нотной бумаге. Они могут быть восприняты слушателем только тогда, когда другой творческий работник, скажем, пианист, скрипач исполнит их.
Почти то же самое можно сказать о театре. Драматург пишет пьесу, но зритель увидит и услышит эту пьесу только тогда, когда другие творческие работники, в данном случае актеры, разыграют эту пьесу на подмостках театра.
Итак, ко второй группе художников мы отнесем тех, кто нуждается в посредниках, чтобы донести свой замысел до потребителя.
Следовательно, есть и третья группа художников – это посредники. К ним относится вся огромная армия театральных и кинематографических актеров, музыкантов-исполнителей, дирижеров, операторов, театральных и кинематографических художников, декораторов и так далее. Труд этих людей – это как бы «вторичный» творческий труд, они интерпретируют основное произведение искусства, доносят его до зрителя.
Из того, что я назвал этот труд вторичным, вовсе не следует, что он менее уважаемый или второстепенный. Бетховен написал «Лунную сонату» единожды, но тысячи и тысячи пианистов исполняли и исполняют ее. Каждый из них понимает и играет «Лунную сонату» по-своему. Таким образом, существует как бы множество разных «Лунных сонат». Одна – написанная Бетховеном, неизменная и незвучащая, представляет собой ряд символических обозначений, нотных значков; сотни тысяч других «Лунных сонат» – это те «Лунные сонаты», которые слышали люди. Ван Клиберн понимает бетховенскую нотную запись по-одному, а Эмиль Гилельс – по-другому. И «Лунная соната» Вана Клиберна может оказаться непохожей на «Лунную сонату» Эмиля Гилельса. Оба они, исполняя бессмертное произведение Бетховена, вносят свою художественную трактовку, свое понимание музыки, свои чувства, свою логику развития. Мало того, они вносят в это, казалось бы, неизменное произведение, написанное свыше полутораста лет тому назад, ощущение сегодняшнего дня.
Если бы история сохранила для нас пластинки с записями исполнения «Лунной сонаты» в начале XIX века, в середине его и в наши дни, то наверняка оказалось бы, что, помимо индивидуальной манеры исполнителей, самое понимание музыки с течением времени резко меняется.
Еще более наглядно можно проследить это на примере театральных спектаклей. Триста пятьдесят лет назад написаны пьесы Шекспира, и до сих пор они играются во всем мире актерами всех национальностей. Играя Гамлета, актер не только вносит в исполнение черты своей индивидуальности, по-своему понимая Гамлета, по-своему видя и слыша его, – он неизбежно вносит в свою игру отпечаток времени, в которое он живет. Таким образом, «Гамлет», поставленный сегодня в Москве, наряду с идеями Шекспира несет мироощущение советских актеров, элементы идеологии, присущей только советским работникам искусства. И, разумеется, «Гамлет», поставленный у нас, будет не похож на «Гамлета», поставленного в этот же день и час, скажем, в Лондоне. И оба эти спектакля окажутся непохожими ни на «Гамлета», которого разыгрывали актеры в конце прошлого века, ни на того «Гамлета», которого когда-то написал Шекспир.
Таким образом, огромная армия посредников – актеров, музыкантов и других – выполняет в обществе ответственную и сложную роль. Работа их творчески так же полноценна, как и работа первосоздателя того литературного или музыкального произведения, которое они трактуют.
Но среди этой армии посредников, переводчиков искусства с языка нот на звуки оркестра или с печатного слова на язык театрального или кинематографического действия есть одна своеобразнейшая фигура – режиссер.
Давайте возьмем любой кадр любой кинокартины. Предположим, кадр этот изображает комнату. Вечер. За окном слабый свет луны. На столе горит лампа. Откуда-то доносится музыка. Молодой человек и девушка объясняются в любви. Кто создает этот кадр? Декорация комнаты сначала нарисована художником на эскизе, а затем им же построена в павильоне киностудии. Она освещена (лунный свет за окном, лампа на столе) оператором. Он же поставил аппарат и, как мы, кинематографисты, говорим, «взял декорацию в кадр», то есть установил на нее точку зрения, определил, откуда и каким объективом он снимает этот кадр. Музыку, звучащую за окном, написал композитор. Исполняет эту музыку оркестр. Текст любовного объяснения, да и все содержание сцены, создал кинодраматург – это точно записано в сценарии. Звук (и голоса, и музыку) записал на пленке звукооператор. И, наконец, роли молодых людей исполняют два актера.
Таким образом, в создании этого кадра участвует много творческих работников. Среди них я не нашел места только для одного – для режиссера. Однако если бы мы присутствовали при съемке этого кадра, мы бы услышали голос: «Внимание, приготовились. Аппаратная, мотор. Начали». А по окончании сцены тот же голос сказал бы: «Стоп. Еще раз». Это голос режиссера.
Что делает он среди всей перечисленной мною группы ответственных и грамотных художников? Зачем он нужен?
В переводе на русский язык слово «режиссер» означает «управляющий». Режиссер ничего не делает сам, он только руководит другими. У него нет никаких признаков творческой работы. Художник работает кистью, скульптор – резцом, писатель и композитор имеют дело с пером и бумагой, актер располагает собственным голосом и телом. У режиссера нет ничего.
Тем не менее работа режиссера, и особенно в кинематографе, – это важнейшая и самая высокая ступень современной специализации в области искусства. Если между зрителем и автором пьесы стоит как переводчик замысла автора на язык кинематографического или театрального действия актер, то режиссер стоит между актером и основным автором. Таким образом, режиссер является переводчиком для переводчиков. Он первый истолковывает произведение искусства и доносит свое истолкование, свое видение и слышание всего того, что написал автор, до всего отряда исполнителей.
Он дает художнику и оператору точку зрения на зрительное оформление картины и затем, разделив это зрительное оформление на декоративную часть и операторскую часть, прорабатывает с каждым из них отдельно его область работы. С художником он работает над общей формой декораций, над их цветом, над планировкой, над характером костюмов. С оператором – над характером света, над делением эпизодов на отдельные кадры, над композицией этих кадров, над всем операторским решением картины. Об этом в свое время мы будем говорить подробнее.
С актерами режиссер репетирует, то есть вкладывает в них свое понимание произведения, сочетая это свое понимание с индивидуальностями актеров.
Композитору он дает установку в отношении музыки: где она должна звучать, какой у нее должен быть характер.
Картина состоит из отдельных кадриков. Склейка их (монтаж) – это сложнейшее дело, которого мы коснемся впоследствии не в одной беседе. Эту склейку производит монтажер, но руководит им опять-таки режиссер.
Он работает еще и со звукооператором, организуя звуковую часть картины, работает с десятками людей. В качестве орудия производства в руке у него не кисть и палитра, не мрамор и резец, не перо и бумага, а живые люди.
Лепить произведение искусства, пользуясь в качестве своего орудия живыми людьми, а не мертвыми инструментами, настолько же сложнее, насколько сам человек сложнее долота и кисти.
Человека, который пользуется чужим трудом, мы обычно называем эксплуататором. Если это так, то одним из величайших эксплуататоров является именно кинорежиссер. Вы в картине не найдете никаких видимых следов его труда, он не сделал там ничего, не произнес ни слова, не сыграл ни одной ноты, ничего не нарисовал и не вылепил, ничего не склеил, и тем не менее его индивидуальность вы видите в картине так ясно, что опытному кинематографисту не нужны вступительные надписи для того, чтобы угадать, кто из режиссеров поставил данный фильм. Разумеется, если режиссер этот талантлив и своеобразен.
К сожалению, мы делаем очень много плоских, неинтересных картин, которые похожи друг на друга, как близнецы. В такой картине режиссера не угадаешь. Но, между нами говоря, нужны ли нам такие режиссеры? Они подчас усердно работают: исправно кричат «аппаратная, мотор», командуют «стоп», распоряжаются актерами и композитором, но не умеют внести в картину ничего своеобразного, ничего индивидуального, ничего яркого. Исполнители картин превращаются у них в своего рода Персимфанс.
Был у нас в свое время такой оркестр – Персимфанс (первый симфонический ансамбль). В нем не было дирижера. Все участники этого оркестра – скрипачи, контрабасисты, флейтисты и ударники – играли сами по себе. То было в годы особого увлечения идеями коллективизма в искусстве. Музыканты решили произвести революцию и сбросить «хищническую», «эксплуататорскую» персону дирижера, который торчал над всем оркестром, размахивая палочкой… и принимал на свой счет аплодисменты, в то время как играл-то ведь не он, играли участники оркестра. Персимфанс просуществовал несколько лет. Впоследствии выяснилось, что в нем все-таки был дирижер, правда, негласный. Роль этого дирижера исполнял один из скрипачей. Он не махал палочкой, но все же движением головы или незаметным поворотом показывал оркестру, когда начать: он задавал темп. Этот же скрипач играл главную роль на репетициях. Но, не будучи чересчур одаренным дирижером, этот несомненно хороший музыкант и прекрасный организатор не сумел добиться многого. Оркестры с хорошими дирижерами оказались все-таки лучше.
В искусстве бывают случаи коллективного творчества. Все мы знаем Кукрыниксов, Ильфа и Петрова, читали романы, написанные братьями Гонкур, знаем мы и примеры великолепных камерных ансамблей – квартетов, квинтетов, – когда близкие по духу четыре-пять музыкантов настолько сливаются в едином творческом акте, что инструменты их звучат как один.
Но в кинематографе это невозможно. Слишком много людей самых разнообразных профессий работают в нем. Слишком сложен предмет трактовки – сценарий. Слишком много вариантов понимания его может возникнуть и у актеров, и у художника, и у оператора, и у композитора. Необходим человек, который бы стал в центре этой многообразной работы по превращению написанного слова в кадр кинокартины. Этот человек – режиссер.
Профессия режиссера – так, как она сегодня понимается, – одна из самых молодых профессий в искусстве. Даже на театре режиссер в нынешнем понимании – это явление последних десятилетий. Когда Станиславский начинал свою режиссерскую деятельность, режиссуры как искусства, по существу, не было. В большинстве театров спектакли разыгрывались на фоне стандартных писаных декораций, и актеры действовали каждый за себя. Как актер поймет текст роли, так он и играет. Задача режиссера сводилась к упорядочению действий актера: ну, скажем, чтобы они не сталкивались лбами, не входили все в одну дверь, более или менее равномерно распределялись по сцене, были видны из партера и т. д. Режиссер намечал некоторые входы и выходы, передвижения по сцене, оставляя в основном мизансцену на усмотрение самого актера и лишь иногда позволяя себе вмешиваться в исполнение в случаях слишком уж явного непонимания текста или грубой отсебятины.
У нас в России именно Станиславский возвел режиссуру на ступень подлинного и глубокого искусства. Он первый установил основные функции режиссера, которые заключаются в том, что режиссер прежде всего осмысливает, толкует пьесу, находит для этого толкования необходимое зрелищное решение и подчиняет работу актеров замыслу сценического воплощения пьесы.
В конце XIX и особенно в начале XX века режиссура стала у нас играть все большую и большую роль. Театральный режиссер все больше подминал под себя актера и даже автора пьесы, все больше делался единоличным и полновластным диктатором сцены. Мы пережили довольно долгую эпоху такой режиссерской диктатуры в театре.
Затем началось обратное движение – за полноценное выявление актера и пьесы на сцене. Достаточно прочитать великолепную книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве», чтобы понять всю сложность профессии театрального режиссера, всю высоту этой профессии, понять те огромные требования, которые предъявляются к современному театральному режиссеру.
Однако профессия кинематографического режиссера еще сложнее. В этой вводной беседе я лишь в самых общих чертах коснусь контуров этой профессии. Ведь вопросам режиссуры будет посвящена вся книга. Мне не раз придется сравнивать работу кинематографического режиссера с работой режиссера театрального. Это естественно – искусства эти очень близки.
Основное различие между режиссерской работой на театре и в кино заключается в том, что на театре режиссер работает в открытую, все время видя результаты своего труда, что он готовит спектакль постепенно, от этапа к этапу и, наконец, что деятельность его понятна коллективу, что результаты каждого этапа работы видны каждому участнику.
В кинематографе дело происходит совсем не так. Снимая отдельный кадр, кинорежиссер только умозрительно представляет себе, как будут выглядеть остальные кадры. В каждый отдельный момент он работает над мельчайшим отрывочком целого, над одной пятисотой будущей картины, ибо в картине бывает до пятисот кадров. Пока эти пятьсот отдельных кадров не будут сняты и склеены, ни режиссер, ни другие участники картины еще не знают, что и как получится в картине.
Режиссер на театре начинает с того, что разбирает пьесу с актерами, художником, композитором. В «застольном периоде» он работает с актерами, добиваясь у всего коллектива единого понимания произведения. Затем актерский коллектив переходит в «выгородки» (черновые декорации), где начинается разводка мизансцен. Актеры при этом видят и слышат друг друга, присутствуют при репетициях эпизодов пьесы, ощущают вместе с режиссером все движение репетиционной работы. Работа идет сначала по отдельным кускам, по отдельным явлениям, затем по актам. Начинаются прогоны всей пьесы целиком. Во время этих прогонов вносится ряд поправок, уточняется темп, ритм, уточняются мизансцены, детали поведения актеров. Вместе с тем появляются костюмы, мебель, реквизит. Последние прогоны проходят уже в настоящих декорациях, при полном свете, со всеми необходимыми аксессуарами. Наконец, настает этап генеральных репетиций, где опять-таки еще можно внести поправки. Поправки эти вносятся не только режиссером, который видит спектакль в целом, поправки вносят в свою работу и актеры, которые участвуют во всем процессе создания спектакля. Даже после премьеры спектакль продолжает обтесываться, улучшаться, как говорят театралы, – «обкатываться». Очень многие театры, например, «обкатывают» крупные спектакли на гастролях где-нибудь на периферии, а московская «премьера», по существу, является уже десятым или пятнадцатым спектаклем.
В кино все происходит совсем иначе. Когда режиссер входит в первую же декорацию, перед ним стоит задача снять на пленку, то есть окончательно зафиксировать ряд отдельных отрывочков будущего произведения, – поправок уже не будет. И далеко не всегда первые снимаемые отрывочки-кадры являются действительно началом картины.
По соображениям производственного удобства весь материал картины группируется на «павильон», то есть сцены, снимаемые на киностудии, и «натуру», то есть сцены, снимаемые вне студии – на улице, в деревне, в экспедиции и так далее. Порядок съемки кадров зависит от условий производства, от чисто экономических причин.
Картина может начинаться, скажем, с широкого показа работы тракторов на полях. Именно здесь, в обстановке подлинной природы, завязывается конфликт, ну, скажем, между молодым трактористом и прицепщицей. Их характеры экспонируются именно в этой натурной сцене, на поле. А съемка картины начинается с павильонов, и, следовательно, актеры, прежде чем познакомиться, завязать отношения, вынуждены играть результат уже ранее завязанного и ими еще не сыгранного конфликта.
Но мало того: вовсе не обязательно съемки картины начинаются с декорации правления колхоза, которую вы первой видите на экране; иногда съемки начинаются с декорации, которая появится только в середине, а то и в конце картины.
Когда мы будем беседовать о работе актера в кино, мы этот вопрос разберем подробнее. Сейчас мне важно только одно: кинорежиссер, снимая данный отрывочек картины, должен умозрительно представлять себе всю картину в целом, должен представлять себе, как разовьются еще не снятые сцены, которые стоят в картине до этого отрывка или после него. Он задумал, например, что картина развивается в нарастающем темпе. Он один знает, до какой степени напряжения доведет он темп картины к моменту данного кадра. Изложить на словах всему коллективу ритмический замысел картины он не может. Да если бы он и посвятил этому несколько дней, то со слов никто до конца себе ясно не представит всех деталей будущего фильма.
Таким образом, работая над данным кадром, режиссер знает и чувствует многое, чего не знают, не чувствуют другие, видит многое, чего никто, кроме него, не видит. Он один, например, знает, какая здесь будет музыка. Она еще не написана, и только эскизы ее проиграны композитором режиссеру наедине.
Как видите, здесь трудности двоякие: с одной стороны, многое из того, что театральный режиссер видит глазами и слышит ушами, кинематографический должен себе только представлять; с другой – то, что в театре знает весь коллектив, в кинематографе знает только режиссер.
Именно поэтому роль режиссера в кинематографе особенно ответственна и сложна. Он должен заставить множество самых разнообразных людей безусловно верить себе и безусловно идти за собой. Персимфанс в кино невозможен.
Но это только первая сложность, а есть и вторая.
Как ни разнообразны спектакли, но они всегда разыгрываются на одной и той же сцене. Можно придумать тысячи вариантов декораций, однако в общем они окажутся принципиально в чем-то очень схожими, и прежде всего все они окажутся развернутыми на зрителя, у всех будут три стены, а четвертая – воображаемая. Кроме того, на все декорации всегда есть одна главная точка зрения: середина партера.
Кинорежиссер каждый раз имеет дело с явлением, ничем не похожим на все его предыдущие работы. Декорацией подчас ему служит чуть ли не весь мир. Если в театре самая маленькая комната и самый большой зал в общем не так уж сильно отличаются друг от друга, то в кинематографе одна сцена играется в настоящем железнодорожном купе площадью в два-три квадратных метра, а другая – на Марсовом поле в Ленинграде площадью в 25 гектаров, а третья – в горах, четвертая – в дворцовом зале, пятая – под лестницей, в подвальной каморке. Сцены в кинематографе также разнообразны, как разнообразна сама жизнь. И с каким бы куском жизни ни имел дело кинематографист, он должен найти точное решение для сцены – в одном случае широкое и мощное, как Марсово поле, а в другом – сжатое в пределах маленькой комнатки.
Если в театре при решении любой сцены режиссер работает с актером примерно в одинаковых условиях – сначала в репетиционной комнате, затем на сцене, которую он знает, как свою собственную квартиру, то в кинематографе актеру приходится играть то в громадном павильоне, то в пустыне под палящим солнцем, то на ледяном ветру в снежном поле, то на пароходе, то в вагоне метро. И всюду режиссер должен найти пути к актеру, должен заставить его работать естественно и точно, сообразовываться с обстоятельствами сцены.
Еще одна сложность работы режиссера в кинематографе связана с молодостью нашего искусства. Ведь кино существует всего лет семьдесят. На наших глазах оно из немого превратилось в звуковое; на нашей памяти появилась первая цветная картина, первая широкоэкранная картина, первая стереофоническая запись звука и так далее. Кинематограф растет среди древних, устоявшихся искусств: по существу, он не вышел еще из младенческого возраста, он все время меняется, как меняется ребенок. И если хоть на минуту мы, кинематографисты, остановимся, то с кинематографом произойдет такое же уродливое явление, какое произошло бы с ребенком, если бы он задержался на всю жизнь в возрасте десяти лет, то есть превратился бы в карлика.
История развития кинематографа – это во многом история деятельности режиссеров. Почти все новое, что мы находим в кинематографе, связано именно с режиссерскими именами.
Задачи кинематографического режиссера не ограничиваются постановкой ряда приятных для зрителя картин. Он все время должен учиться, ему нужно двигаться в ногу с нашим беспрерывно растущим искусством и самому нужно двигать его вперед. Кинорежиссер, который остановится в своем развитии, как бы хорош он ни был, быстро сходит на нет. На наших глазах целый ряд крупных кинематографических режиссеров художественно амортизировались, перестали представлять живой интерес.
Среди произведений всех искусств кинокартина стареет особенно быстро. Многие фильмы, которыми мы восхищались еще лет тридцать тому назад, сегодня вызывают только недоумение. То же самое происходит с кинорежиссерами. Уметь расти в любом возрасте – нелегкая задача, но этим умением обладают все лучшие кинорежиссеры.
Итак, режиссура в кино – занятие сложное. Но чтобы вы не подумали, что я нарочно запугиваю тех, кто хочет стать кинорежиссером, или чрезмерно превозношу свою профессию, я сообщу вам по секрету, что есть много обстоятельств, которые облегчают деятельность кинорежиссера.
В самом деле, если снимать картину так трудно, то почему у нас картины редко «ложатся на полку» («положить на полку» – означает сделать полный брак, снять фильм, который нельзя выпустить на экран), почему так редко получается режиссерский брак?
Ведь, как правило, если картина начата, то она обязательно, в том или ином виде, появится на экране, какой бы беспомощный, профессионально слабый, малоталантливый режиссер ее ни ставил. Как получается это постоянное чудо?
Дело в том, что, когда я говорю о сложности работы кинорежиссера, я говорю о сложности работы над хорошей, выразительной кинокартиной, над произведением искусства. А картину посредственную можно снять, пользуясь привычными стандартами киносъемки.
Нетрудно кое-как отрепетировать и удовлетворительно снять коротенький десяти-двадцатисекундный отрывочек действия, нежели установить ритм, движение, смысл большой сцены. Работая над кадром, режиссер, не ставящий перед собой высоких задач, заботится только о жизнеподобии и естественности зрелища, заботится о том, чтобы все актеры были видны, чтобы главный герой оказался на переднем плане, чтобы все реплики произносились в установленном порядке и так далее. В таком маленьком кусочке отработать примитивное, простейшее действие отрывка не так уж трудно. Если потом эти отдельные кадры, отрывочки картины будут плохо склеиваться между собой, на помощь придет монтажер, что-то порежет, что-то вырежет, придут на помощь досъемки и пересъемки, вставятся какие-то крупные планы, и картина в общем склеится, если сценарий был приличный. Вот первое обстоятельство, помогающее посредственному, слабому кинорежиссеру.
То, что картина разыгрывается не только в декорациях, но и на натуре, в точных жизненных обстоятельствах, – это трудное условие, если ставить перед собой высокие цели единого стиля, глубины решения, своеобразия трактовки. Но это же обстоятельство помогает кинорежиссеру, который не ставит перед собой высоких целей, – помогает природа, деревья, небо, пейзажи, помогает похожесть на жизнь.
Ведь кинематограф – искусство очень молодое, и в нем еще действует первоначальная магия движущейся фотографии: зритель все еще любит смотреть красивые пейзажи, море, облака, лошадиные скачки, темпераментные пробеги и так далее.
Та же самая магия нашего молодого искусства еще действует и в актерских сценах. Если набраны хорошие, интересные актеры, то сами по себе планы этих актеров привлекают зрителя, независимо от ошибок режиссера. Выразительный человек на экране обладает необыкновенно притягательной силой, и подчас актеры перекрывают многие режиссерские грехи.
И, наконец, есть еще одно обстоятельство, которое «вытягивает» кинорежиссера, – это дороговизна картины. Низкое качество материала выясняется не сразу, а обычно где-нибудь этак в середине съемочной работы. К этому времени картина уже обошлась государству в сотни тысяч рублей, а то и больше. Тут на помощь режиссеру приходит весь механизм студии – бесчисленные советчики, консультанты и худруки начинают выправлять положение. Картину дружно толкают вперед, примерно так, как в былые времена солдаты выкатывали скопом завязшую в трясине пушку.
Бывает так, что в результате бесчисленных режиссерских ошибок из картины приходится вырезать чуть ли не половину снятых эпизодов, а все остальные поправлять при помощи разнообразных досъемок, но студия обязательно доведет картину до конца.
Итак, профессия кинорежиссера и трудна, и легка. Трудна, если мы говорим о настоящем искусстве, и относительно легка, если мы говорим о рядовой кинематографической продукции, которая выходит на экраны и бесследно исчезает через несколько дней.
Давайте условимся, что во всех этих беседах мы будем иметь в виду только подлинное искусство и будем разговаривать о профессии кинорежиссера применительно к высоким задачам, которые мы должны поставить перед ним. Ведь если бы не денежные соображения, то, между нами говоря, всю эту посредственную кинопродукцию вовсе не следовало бы выпускать на экран. И я убежден, что при коммунизме, когда денежная система отомрет, плохих картин ставить не будут. Убедившись, что картина получается слабая, будут вежливо, но твердо возвращать режиссеру снятую им пленку «на память».
Обычно после лекции или после доклада я получаю записки с вопросами; некоторые из вопросов бывают интересны. В этих беседах после изложения основного материала я тоже буду прибегать к форме вопросов и ответов. Вопросы будут опираться на полученные мною записки, на те письма, которые я получаю от любителей кинематографа, или на устные вопросы, которые мне чаще всего задают.
Так, например, меня очень часто спрашивают: какими данными должен обладать кинорежиссер? Спрашивают об этом и те, кто собирается поступить во ВГИК и посвятить себя режиссерской профессии, и просто любители кинематографа, почитатели нашего дела.
Вопрос: Какими данными должен обладать кинорежиссер?
– Ответить на этот вопрос не так-то легко. Я сам много раз задавал его себе. За тридцать с лишним лет работы в кинематографе мне довелось перевидать множество кинорежиссеров, они были очень разные.
На первых порах я думал, что главнейшим свойством кинорежиссера является умение работать с актером, своего рода педагогический талант и психологическая проницательность. Однако мне довелось повидать режиссеров, в том числе и очень крупных, сила которых заключалась вовсе не в их умении работать с актером. Некоторые из них даже перепоручали работу с актером второму режиссеру или специально приглашенному театральному мастеру – педагогу. Например, иногда так поступал величайший из известных мне режиссеров С. М. Эйзенштейн, гениально владевший всем арсеналом оружия кинематографа – ведением действия, мизансценой, ритмом, композицией кадра, монтажом. Однако скрупулезная, терпеливая педагогическая работа с актером не стояла у него на первом плане.
Потом я решил, что одной из важнейших сторон режиссерского дарования является острота глаза, умение видеть. Однако мне довелось познакомиться с режиссерами, и притом очень хорошими, которые могли нарисовать человека только в виде двух кружков и четырех палочек и перепоручали всю зрелищную сторону картины оператору и художнику.
Некоторые полагают, что важнейшим качеством режиссера является музыкальность, чувство ритма. Однако мне довелось повидать режиссеров, которым, как говорится, медведь на ухо наступил, которые не только не разбираются в музыке, но терпеть ее не могут и даже в отношении ритма не очень-то сильны.
Распространено мнение, что режиссер должен быть очень энергичным, волевым, собранным и деловитым. Но вот, например, прекрасный режиссер И. А. Савченко представлял собой образец детской беспомощности во всех деловых вопросах. Таким же был и В. И. Пудовкин. Меньше всего эти прекрасные режиссеры походили на волевых командиров.
Пожалуй, есть только одна черта, которая объединяет всех режиссеров, – это трудолюбие. Я не видел ленивого режиссера, этого не бывает.
Однажды американский кинематографический журнал затеял анкету как раз на эту самую тему: какими десятью данными должен обладать кинорежиссер? И один остроумный режиссер Голливуда ответил на эту рекламную анкету так: 1. Железным здоровьем. 2. Стальными нервами. 3. Неизменным оптимизмом. 4. Умением обращаться с самыми разнообразными людьми, от участника массовой сцены до директора студии включительно. 5. Воловьим терпением. Три последующих пункта я не помню, а два последних пункта были следующие: 9. Грамотностью в пределах трех классов низшей школы и 10. Если возможно – талантом (не обязательно).
В этом издевательском ответе есть, однако, зерно истины: режиссеры бывают такими же разными, как вообще люди. В зависимости от характера своей одаренности они находят в режиссерской профессии ту точку опоры, которую искал Архимед, чтобы перевернуть мир.
У Эйзенштейна был свой рычаг, которым он приводил в движение всю систему режиссуры, у Пудовкина – другой рычаг, у Довженко – третий, у Эрмлера – четвертый, у Герасимова – пятый и так далее.
Вопрос: Можно ли стать кинорежиссером, не окончив специального учебного заведения?
Можно. Большинство режиссеров мира, в том числе режиссеры нашего старшего поколения, кинематографического учебного заведения не кончали. Эйзенштейн пришел в кинематограф из театра, Пудовкин – в прошлом актер, Довженко – живописец и педагог, Пырьев – актер, Александров – актер, Юткевич – художник, Райзман – ассистент режиссера без специального образования, Эрмлер до кинематографа был фронтовым политработником, я – скульптор.
Ныне у нас в Советском Союзе режиссеры обучаются во ВГИКе. Но это – уникальное учебное заведение, нигде в мире подобных нет. Программа ВГИКа, созданная Эйзенштейном, – единственная в своем роде. Существуют кинематографические школы, например в Италии, Франции, но там это чисто практические школы. Не случайно к нам во ВГИК тянутся молодые люди из многих стран земного шара.
Сейчас кинематограф стал настолько сложным, а профессия режиссера в связи с этим требует такого количества знаний, что специальное высшее образование стало у нас почти непременным требованием для режиссерской деятельности. И тем не менее даже у нас, даже сейчас время от времени появляются режиссеры, не имеющие специального образования. Они приходят либо из театра, либо из смежных профессий. Так, например, поставил первую свою картину – «Судьба человека» – актер Бондарчук, поставил две картины – «Мексиканец» и «Капитанская дочка» – художник Каплуновский. Нет правила без исключения. Разумеется, ВГИК закладывает наиболее прочные основы режиссерской профессии, но к ней можно подготовиться и другими способами.
Вопрос: Как вы сами стали режиссером?
Я уже говорил, что по образованию я скульптор. Но кроме того я занимался литературой, художественными переводами, журналистикой. Пробовал свои силы в художественной прозе. Примерно в году 1928-м я решил посвятить себя кинодраматургии и для этого избрал своеобразный способ изучения кинематографа: я поступил бесплатным внештатным сотрудником в кинокомиссию Института методов внешкольной работы (было такое учреждение). Обязанности мои заключались в том, что я изучал реакцию на кинокартины детей от десяти до четырнадцати лет. Я записывал, сколько раз и как они смеялись, шевелились, вскрикивали и т. п. Я регистрировал это, а другие люди делали научные выводы из моих записей.
За эту работу я получил право держать в руках, разглядывать на монтажном столе и сколько угодно просматривать на маленьком экранчике любые картины, которые институт брал напрокат.
Я решил заучивать картины наизусть, наивно полагая, что если я буду знать, из чего картина состоит, то уж наверняка смогу написать и сценарий ее.
Так я выучил наизусть десять картин: пять советских и пять зарубежных. Я знал, сколько в них кадров, знал длину каждого кадра, его содержание, примерную композицию. Память у меня была хорошая, молодая, и я здорово испортил ее этой зубрежкой, но, во всяком случае, картины я помнил так, что меня можно было ночью разбудить и спросить: «Картина „Потомок Чингисхана“, кадр № 19», – и я бы немедленно ответил: «Кадр № 19, в кадре то-то и то-то, длина такая-то, сзади видно то-то, в следующем кадре то-то».
Когда я решил, что хорошо знаю, из чего склеены картины, я стал пробиваться на производство со своими сценариями. Первые несколько были отвергнуты, но, очевидно, у меня были какие-то способности, потому что меня все-таки заметили, и в 1930 году я был уже профессиональным кинодраматургом.
Мне сразу же не понравилось, как режиссеры ставили мои сценарии, я все представлял себе не так, все видел иначе. Просмотр поставленных по моим сценариям картин не доставлял мне ничего, кроме страданий.
Чтобы изучить практику режиссуры, я пошел ассистентом к режиссеру А. В. Мачерету на картину «Дела и люди».
Пройдя ассистентом одну картину, я пошел в монтажный отдел студии в качестве «надписера» (то есть человека, который редактирует надписи в немых картинах). Эта работа пополнила мои знания в монтаже.
В 1933 году мне было предложено поставить небольшую немую картину. Я выбрал новеллу Мопассана «Пышка». С тех пор я кинорежиссер.
Я прошу не считать мой метод единственно целесообразным. Все это произошло случайно. Каждый выбирает себе ту дорогу, которая наиболее органична для него. Я полагаю, что больше всего пользы принесла мне ассистентура у А. В. Мачерета. «Дела и люди» была картина звуковая. Звуковое кино только рождалось, опыта не было, и нам приходилось очень многое как бы изобретать впервые. Именно этот экспериментальный характер картины и дал мне возможность опробовать и испытать многое из профессии кинорежиссера с особенной легкостью: картина-то была чужая, и я ничем не рисковал. А. В. Мачерет, превосходный человек и необыкновенно терпеливый руководитель, поставил меня в очень хорошие условия, и я бесконечно благодарен ему за то, что он помог мне на первых моих шагах.
Вопрос: Правда ли, что кинорежиссеры очень зазнаются?
Есть грех. Вспоминается острота С. М. Эйзенштейна. Как-то его попросили уступить просмотровую кабину одному мосфильмовскому режиссеру.
– С удовольствием, – сказал Сергей Михайлович, – он у нас единственный талантливый.
– А все остальные?
– Все остальные – гении, – отрезал Сергей Михайлович.
Ну, разумеется, это острота. Среди кинорежиссеров есть такие же скромные люди, как среди работников любой другой профессии, но, между нами говоря, болезнь зазнайства все-таки существует.
Вот, например, кончает ВГИК обыкновенный скромный студент, и, наконец, он получает первую картину. В тот же момент на голове у него появляется берет, а во рту трубка, хотя до этого он ходил в кепке и курил нормальные папиросы. Трубка и берет кажутся ему непременными признаками этакого лица свободной профессии, художника-индивидуалиста, человека особенного, не похожего на простых смертных.
Но нужно сказать, что уже через десять-пятнадцать съемочных дней, испытав на своей шкуре первые порции кинематографических затруднений, он забывает дома и берет и трубку и начинает вести себя как самый обыкновенный, несколько растерявшийся и испуганный работник. К концу картины обычно он выглядит скромнее скромного.
Но вот картина выходит на экран, а если на нее напишут еще рецензию или не дай бог пошлют на международный фестиваль – снова появляются берет и печать гениальности на лице.
Нужно вам сказать, что крупные режиссеры советской кинематографии, такие, например, как те же самые Эйзенштейн, Пудовкин, Эрмлер и многие, многие другие, – это скромные труженики, независимо от масштабов их дарования.
Так что, если вы задумали стать режиссером, приготовьтесь к огромному труду. Нет области искусства, которая требовала бы такого упорного труда, какого требует кинематограф, именно потому, что это искусство новое, потому, что его надо строить, и потому, что это армия разнообразных работников, и потому, что работа в нем черная, сложная, напряженная, подчас мучительная и неблагодарная. К этому тоже приготовьтесь.
Беседа вторая
Великий немой
Трудно сейчас найти в нашей стране, да и во всем мире, молодого человека, который мог бы представить себе жизнь без кинематографа. Кинематограф стал неотъемлемой частью человеческой культуры. Во всем мире эстетическое и моральное формирование молодежи происходит под влиянием кинематографа – столь же сильным, как влияние литературы. А между тем люди моего возраста еще помнят первое появление в России так называемых электротеатров или иллюзионов, которые именовались тогда «чудом XX века».
Кинематограф был изобретен Люмьером во Франции в конце XIX столетия. Для того чтобы это изобретение могло появиться на свет, потребовалось очень много открытий, сделанных человечеством за последнее столетие.
Первые кадры, которые сняли бр. Люмьеры, стали сенсацией своего времени – человек был потрясен явлением движущейся фотографии.
Первые кадры кинематографа были документальными. В них сразу же обнаружились многие могучие свойства нашего искусства, и прежде всего – необыкновенная сила в передаче явлений жизни. Но, к сожалению, эффект, который произвел кинематограф, немедленно привлек к нему внимание дельцов и коммерсантов. Кинематограф тотчас же был превращен в вульгарное средство наживы.
Для этого самым простым оказалось снимать простейшие сюжетики, которые разыгрывались второсортными актерами. Кинематограф был превращен в ярмарочный аттракцион, в балаган, и первые его сеансы ничего общего с искусством не имели. В семью древних, устоявшихся, величественных и благородных искусств, таких как поэзия и музыка, театр и живопись, скульптура и архитектура, вдруг вторгся так называемый «иллюзион» – от слова иллюзия. В душных маленьких комнатках, насквозь проплеванных, уставленных обыкновенными стульями, вешался на стене экран, сшитый из простынь; под экраном ставилось разбитое пианино и так называемый тапер бренчал что-то, чтобы зрители меньше слышали раздражающий треск аппарата. Было несколько знаменитых вальсов, которые сопровождали любовные сцены, галопов для более возбужденных сцен, для вида моря подбирались быстрые пассажи, а в общем, этот несчастный парень без света, в темноте, целый вечер должен был играть что-то неопределенное, отдаленно напоминающее музыку. А на экране в это время проходило немое зрелище.
Первые картины вообще не были игровыми: идет поезд, люди играют в карты, идут рабочие на завод и так далее. Но очень скоро появились и первые игровые картины. Содержание их было примитивным.
Вспомните, что в это время существовали у нас такие писатели и поэты, как Горький и Чехов, как Александр Блок, что живопись достигла необыкновенной высоты, что в театре работали Станиславский и Гордон Крэг.
И в это время появились такие картины: человек бежит и сталкивается с кем-то лбом, тот, рассердившись, гонится за ним, они бегут, происходит еще столкновение, в погоню включаются еще люди, сшибают с ног старушку, рассыпали яблоки, сшибли толстого человека, побежал и он, наконец – куча-мала. Вот и все содержание картины. Конечно, это казалось не искусством, а чудовищной профанацией искусства.
В канун Первой мировой войны, когда получили распространение игровые картины низкого пошиба, тогда еще молодой критик Корней Чуковский написал громовую статью, требуя запрещения кинематографа как явления совершенно безнравственного, опошляющего само представление об искусстве, как аттракциона, который растит хулиганов и портит нервы.
Убожество первых кинокартин не мешало стремительному движению кинематографа вперед. Кинопредприятия росли как грибы, их было колоссальное количество, боюсь, что больше, чем сейчас. Правда, они были очень маленькие. В любой комнате любого дома, где можно было поставить несколько рядов стульев и натянуть полотно, уже возникал электротеатр. Программа состояла из 3–5 картин. Большая драма длилась 10 минут. Я помню до сих пор огромный аншлаг, что идет какая-то картина и в скобках: 800 метров. Это казалось огромной картиной, а сейчас это три части, то есть то, что ныне является короткометражкой.
Огромное развитие сразу же получила комедия, причем самого грубейшего, я бы сказал, пошлейшего толка.
Вот содержание одной из таких «комедий», которую я видел в детстве.
Бородатый граф приходит на почту. У одного из окошечек он видит горничную. Горничная отправляет добрую сотню писем. Она облизывает языком марки и быстро наклеивает их. Сладострастно оглянувшись, граф хватает горничную и целует ее. Но губы и язык горничной стали такими клейкими от множества марок, что граф не может от нее отклеиться. Появляется жена графа, бьет его. В драку вмешиваются почтовые работники. Происходит общее побоище. Вот и все.
А вот другая комедия с участием знаменитого в те времена Макса Линдера.
Макс Линдер – боксер, он должен принять участие в матче с женщиной. На его глазах эта здоровенная, толстая дама нокаутирует одного за другим двух мускулистых противников. Макс Линдер выходит на ринг. Колени его дрожат от страха, женщина-боксер бросается на него. Тогда Макс Линдер применяет известный боксерский прием (клинч), он крепко обнимает даму-боксера и неожиданно целует ее. От поцелуя дама раскисает, и тогда Макс Линдер изо всех сил бьет ее в челюсть. Разъярившись, дама бросается на него. Макс Линдер снова сжимает ее в объятьях. Дама раскисает. Он снова ударяет ее в челюсть. И так до тех пор, пока дама не нокаутирована.
Или, например, комедия «Блоха». Макс Линдер – жених, он является в дом к невесте, где происходит помолвка. Масса гостей. В это время в брюки Макса Линдера забралась блоха, которую он пытается незаметно поймать. Так как блоха не дает ему покоя, он выходит на балкон, снимает брюки, хочет их вытрясти и роняет вниз. Чтобы вернуться, ему нужно что-то надеть. Он срывает занавеску, закутывается в нее и входит в гостиную. Все решают, что это шутка, разворачивают его, получается скандал. После этого возмущенный тесть подает на него в суд. Макс Линдер идет к старому собачнику, покупает фунт блох и выпускает их в суде. Судьи чешутся, присяжные чешутся, прокурор чешется, после чего Макса Линдера оправдывают.
А вот мелодрама.
Муж и жена на пляже. С ними маленькая девочка. Муж – солидный бородатый человек. Жена – молоденькая, легкомысленная – в шляпке. Появляется молодой человек с усиками, подмигивает дамочке. Та направляется к нему. Заметив исчезновение жены, муж в ярости подскакивает и бросается в погоню. Происходит бешеная сцена, мужчины отчаянно жестикулируют, дамочка демонически хохочет. Тем временем девочка входит в воду и исчезает в волнах. Следующий кадр: рыбак выносит мертвую девочку на берег. Отец и мать, опомнившись, бросаются к трупу и рыдают.
Рыдает с ними и весь зал. Сейчас трудно в это поверить. Сейчас эта картина не могла бы вызвать ничего, кроме веселого смеха. Но тогда зритель свято верил в правду происходящего на экране. Ведь это была фотография. Волны были настоящие, песок на пляже был настоящий, и поэтому все оплакивали девочку, как если бы увидели подлинную утопленницу.
Как ни чудовищен был по содержанию новый аттракцион, магия движущейся фотографии завоевывала человечество.
Очень скоро начали снимать кинокартины и в России. Они были не лучше заграничных.
Помню, в те времена в Москве, в Александровском сквере, рядом с Кутафьей башней, стоял вагончик. На вагончике было написано: «Электрическое путешествие по Швейцарии. Цена пять копеек». Мы подходили к кассе, покупали билет, очень похожий на железнодорожный, входили в вагончик. В нем стояли железнодорожные скамейки. Киноаппарат был скрыт, а передняя стенка превращена в экран. Раздавались три звонка, кто-то изображал гудок паровоза, свет в вагончике гас, и на экране появлялись виды Швейцарии, очевидно, как я сейчас понимаю, снятые с передней площадки паровоза. Перед вами проносились горы и пропасти, и это производило такое впечатление, что люди вскрикивали от страха и восторга. Между тем панорама эта, вероятно, была не очень искусно снята и сегодня вряд ли произвела бы какое-нибудь впечатление. И все же в этом электропутешествии по Швейцарии, пожалуй, было больше принципиальности в использовании нового аттракциона, чем в таких безвкусных площадных «комедиях» и мелодрамах, которыми кинопредприниматели кормили публику начала нашего века.
Постепенно, шаг за шагом, кинематографисты стали внимательнее присматриваться к делам рук своих, стали задумываться над тем, почему же этот грубый аттракцион так полюбился народу. Были открыты основные эстетические законы кинематографа. Один из них кажется мне особенно примечательным и важным: он заключается в том, что все живущие на экране естественной жизнью – животные, птицы, деревья, облака, морской прибой и, наконец, дети, которые ведут себя так же просто и безыскусственно, как животные, – все это выглядит на экране особенно убедительно. Великий закон правдолюбия кинематографа стал постепенно пробивать себе дорогу.
Кинематографисты стали понимать, что и человек на экране должен вести себя с такой же правдивостью, с какой ведет себя на экране ребенок. Поначалу актеры играли для экрана в высшей степени неестественно. И режиссерам и актерам казалось, что отсутствие слова можно заменить только преувеличенным движением. Вдобавок камера видит хуже, чем глаз, крупный план еще не был тогда известен, все снималось на самых общих планах, и люди были довольно плохо видны. Поэтому актеры кино изображали чувства крайне подчеркнуто, преувеличенно. Изображая отчаяние, актеры хватались за голову и рвали на себе волосы, в гневе подскакивали на месте и таращили глаза, в страхе отступали назад и простирали перед собой руки, в недоумении высоко поднимали плечи и брови.
Этот набор штампованных мимических средств был заимствован у дурного театра и преувеличен во много раз.
Но чем дальше развивался кинематограф, тем более сдержанной становилась актерская работа, пока, наконец, кинематографическая манера не стала синонимом мягкости и жизненной правдивости игры. Но для того чтобы актер получил возможность работать сдержанно, потребовались десятилетия, необходимо было сделать целый ряд открытий.
Эти открытия были сделаны кинематографической режиссурой. Это – крупный план, деталь, ракурс, монтаж, съемка с движения.
Все эти специфические элементы кинематографа, которые являются его могучим оружием и известны сейчас каждому зрителю, потребовали долгих лет поисков. Старики еще помнят времена, когда при появлении крупных планов зрители гоготали и кричали: «Где ноги?!» В самом деле, ведь видеть человека без ног поначалу было очень странно, так же как видеть кадр, снятый резко сверху или резко снизу, смотреть изложение событий не в непрерывном виде, а смонтированным из отдельных кусочков.
Но именно крупный план, именно деталь, именно своеобразные ракурсы позволили режиссеру добиться мягкости в актерской работе. В самом деле, не нужно таращить глаза, если аппарат может подойти к человеку так близко, чтобы глаза его оказались ясно видимыми на крупном плане. Не нужно в гневе подскакивать или размахивать руками, если можно показать руку, сжавшуюся в кулак.
Монтируя, то есть соединяя между собой отдельные элементы события, режиссеры немого кинематографа вместе с тем вели актеров ко все более и более точной и отвечающей жизненной правде работе. Театру стало трудно соперничать с кинематографом в тонкости передачи человеческих чувств.
На театре между актером и зрителем лежит огромное пространство, и актеру приходится поневоле форсировать и голос и мимические средства, чтобы донести мысль до последних рядов галерки. Самая интимная сцена, которая требует, по существу, шепота, тишины, величайшей сдержанности, изображается на театре так, чтобы ее ясно разобрал зритель последнего ряда, находящийся в двадцати-тридцати метрах от артиста, а то и дальше.
Можно ли представить себе в жизни интимное любовное объяснение, которое слышно на тридцать метров вокруг? Однако в театре мы привыкли к этой условности: молодые люди объясняются в любви и шепчутся так громко, как в жизни можно только яростно браниться.
Немой кинематограф, задолго до возникновения звукового, установил закон точного соответствия между игрой актера и подлинной мерой чувства. Как я уже говорил, это стало возможно благодаря открытию целого арсенала чисто кинематографического оружия. Но, применяя крупные планы, сложные ракурсы, применяя монтаж, кинорежиссеры делали зрелище все более условным. Мы еще будем подробно говорить об этом в главе о монтаже, но сейчас я хочу обратить внимание на одно важное обстоятельство.
В немом кинематографе именно благодаря применению специально кинематографических средств зритель смотрел картину по-особенному, для этого нужна была известная привычка, пристрастие к кинематографу, и, пожалуй, сейчас мы уже отучились так смотреть картины. Немая картина как бы ставила перед зрителем беспрерывный ряд загадок, ряд шарад, которые он должен был угадывать, прочитывать. О содержании сцены иной раз нужно было догадываться исходя из ряда отдельных, как бы разорванных ее элементов.
Когда вы смотрите спектакль, перед вами все время стоит общий план зрелища. Вы, конечно, вольны смотреть на того или другого актера, обратить внимание на какой-то предмет обстановки и вернуться вновь к актеру, но ваше сознание все время корректируется, направляется общим планом сцены, которую вы ясно видите и ощущаете.
В немом кинематографе последнего периода было не так. В картину включалось множество крупных или полукрупных планов. Поэтому характер события зритель восстанавливал сам, он, так сказать, конструировал событие исходя из показываемых ему деталей.
Раскрылась дверь, человек, сидевший в комнате, резко повернулся, чья-то рука поднимает пистолет; крупно: человек закрывает лицо руками; крупно: пуля попадает в стену.
Ни в одном из этих перечисленных мною кадров вы не видели двух противников вместе, вы не видели даже выстрела, но вы догадываетесь: злоумышленник вошел, выстрелил и промахнулся. По сути говоря, эта сцена возникла только в вашем сознании. На экране были только детали ее, частности. Никто ни в кого не стрелял. Эту сцену можно даже снять в разных помещениях – дверь и злоумышленника в одном месте, а человека, в которого стреляли, в другом месте. И, кстати, так иногда и поступали.
Деталь играла огромную роль, а расшифровка событий по детали доставляла зрителю специфическое наслаждение, потому что он чувствовал себя как бы соучастником творческого процесса, сотворцом. Все время догадываясь, сопоставляя, конструируя в сознании событие, он испытывал творческое наслаждение. Восприятие картины было активным.
Вот примеры таких деталей, которые рассчитаны на довоображение зрителя, из картины «Парижанка» Чарли Чаплина (это единственная из картин Чаплина, в которой он выступает только в роли сценариста и режиссера, а не актера). Картина эта имела огромный успех в Европе и, в частности, у нас, в Советском Союзе.
Молодой человек поссорился с отцом. Отец сидит в кресле и курит трубку. Он непоколебим. Молодой человек говорит что-то очень гневно, и вдруг лицо его меняется. Мы видим крупный план: дымящаяся трубка лежит на полу. Следующий кадр: безжизненно свесилась рука. Эти два кадра обозначали для зрителя: отец внезапно умер от апоплексического удара. И когда зритель по двум деталям догадывался об этом событии, по залу проносился гул волнения.
Другой пример. Девушка, героиня картины, живет у отца. Нужно сообщить зрителю, что у нее нет матери, что отец вдов. Ныне мы просто объяснили бы это в диалоге, но в те времена нужно было найти такой знак, такую деталь, по которой зритель сам догадался бы о вдовстве. У Чаплина это сделано так: девушка через окно убежала на свидание. Отец холодно закрывает окно, чтобы дочь не могла вернуться, выходит на лестницу и останавливается перед портретом в траурной рамке. Портрет укрупняется. Мы видим молодую женщину. То, что портрет вставлен в траурную рамку, то, что отец стоит перед ним, заставляет зрителя догадаться: очевидно, это его жена, очевидно, она умерла.
Третий пример: героиня убежала из дому, она должна встретиться на вокзале с молодым человеком. Они решили уехать в Париж. Но молодой человек не пришел, так как отец его внезапно умер. Мы видим крупный план девушки, стоящей на перроне. Она мрачно смотрит в пространство. Потом по ее лицу начинают в одном направлении мелькать свет и тени. Мы понимаем: подошел поезд, и это отблески вагонных окон бегут по ее лицу. Свет и тени на лице девушки останавливаются. Она делает шаг вперед. Мы понимаем: она решила уехать одна. Затемнение, и следующий кадр: она в Париже, через год. Вот эти кинематографические детали, куски пластического действия, которые требовали от зрителя расшифровки, требовали творческой активности для восприятия картины, они-то и составляли главную прелесть немого кинематографа.
Работа режиссера в немом кинематографе была сопряжена с большими трудностями именно в области пластического изобретательства. Представьте себе сегодня жизнь без слов. Представьте себе любую сцену, происходящую в гробовом молчании. Попробуйте донести до вашего собеседника содержание любого события, не прибегая к слову, и вы поймете, насколько трудно было добиться художественного эффекта в немой картине.
И тем не менее немой кинематограф к концу двадцатых годов в своей ограниченной черно-белой беззвучной сфере достиг больших высот совершенства. Недаром во всем мире его стали называть Великим немым. И то, что ныне кинематограф не называют «великим говорящим», или «великим цветным», или «великим широкоэкранным, стереофоничным», доказывает, что у немого кинематографа были завоевания, которые ставили его на совершенно особое место среди всех прочих искусств.
Ограничение подчас бывает очень полезно художнику. Именно там, где возникает ограничение, где возникают трудности, часто находится подлинно творческое решение. Обратите внимание, что книжная графика подчас бывает нисколько не менее выразительна, чем масляная живопись, а иногда дает гораздо более острые и интересные решения, хотя, казалось бы, она лишена цвета и ограничена размерами. То же самое происходило и с немым кинематографом. Отсутствие слова заставляло кинематографистов изощряться в изобретательстве, находить для любого действия точное пластическое выражение.
Ныне мы потеряли эту изощренность. Слово облегчает нам работу, но подчас оно лишает нас былой выразительности.
Сейчас, когда надо показать, что человек скуп, это делается просто – соседка говорит: «Ну и скупой же Иван Иванович, я еще не видывала человека скупее». Или первый приходящий посетитель заявляет хозяину: «Ты, брат, скуп, как Плюшкин». Коротко и просто, и зритель знает, что этот человек скуп, это объявлено вслух. А в былое время нужно было доказать зрителю, что данный персонаж скуп, доказать пластическим действием. И это не так легко, как кажется. Требовалось найти такое поведение, такую деталь, такие предметы обстановки, чтобы зритель сам сделал вывод, и вывод бесспорный: этот человек скуп, не беден, а именно скуп.
В поисках таких тонких характеристик кинематографисты подчас доходили до изощренности, граничащей с фокусом.
Вот, например, немецкий режиссер Мурнау поставил в двадцатых годах картину, которая шла у нас под названием «Человек и ливрея». В этой огромной картине не было ни одной надписи, как бы не произносилось ни одного слова. Ведь во времена немого кино все же некоторые реплики сообщались зрителю при помощи надписей. Правда, надписей было немного, обычно пятьдесят-шестьдесят на всю картину, значит, целая большая повесть имела право оперировать максимум этими репликами. Но Мурнау решил обойтись вовсе без реплик, вовсе без надписей. Между тем содержание его картины довольно сложное.
В большом отеле служит старый швейцар (эту роль играл актер Эмиль Янингс). Это почтенный человек. Он носит пышную ливрею, он провожает посетителей до автомобиля, он встречает их поклонами. Он пользуется уважением соседей. У него есть жена, взрослая дочь. Дочь выходит замуж. То, что отец ее служит в таком приличном отеле, на таком почетном месте, является для жениха одним из существенных доводов в пользу женитьбы.
Но вот происходит несчастье: швейцар стал, очевидно, староват, ноги уже отказываются ему служить, и хозяин отеля, заметив какую-то оплошность старика, переводит его на работу служителем в уборную. Тут уже не полагается пышной ливреи, и работа эта, разумеется, не может снискать уважения соседей. Старик скрывает свое несчастье от семьи. Он по-прежнему уходит на работу в отель, по-прежнему с утра надевает свою великолепную ливрею. Но, не доходя до отеля, он отдает ливрею в камеру хранения и является на службу в скромной курточке служителя уборной. А вечером, тайно от семьи, опять переодевается и играет дома роль почтенного человека. Все это ради дочери, ради того, чтобы состоялась свадьба.
Разворачивается глубокая душевная драма старика, раскрывается жестокость буржуазных условностей. Картина кончается трагически: обман раскрывается, не остается, казалось бы, никакого выхода. И тут впервые в картине появляется надпись. Надпись примерно такая: «Здесь должна была бы кончиться эта картина, но публика любит хорошие концы – так получайте хороший конец».
И мы видим второй конец картины: в уборной неожиданно умирает какой-то старичок, умирает на руках Янингса. Это американский миллионер, которого хватил удар. Оказывается, в кармане у него лежит завещание: он завещает все свое состояние тому человеку, на руках у которого он умрет. Янингс делается богатым, все в порядке.
Представьте себе сейчас драму этого человека, всю сложность обстоятельств его семейной жизни, его служебных отношений, все перипетии, которые сопровождают драматическую историю старого швейцара, представьте себе все это изложенным без единого слова. Такое изложение требовало и от режиссера, и от актеров, и от оператора очень большой изобретательности, широкого пользования кинематографической пластикой, выразительности отдельных кадров, деталей, мимики, внимательного рассмотрения события, поведения предметов и так далее. Все это чисто кинематографические средства.
Поэтому мы и считаем, что основой кинематографа, даже современного, говорящего, является все же немое кино. Если вы вдумаетесь, в чем кинематографическая специфика любого киноэпизода по сравнению, скажем, с аналогичной сценой на театре, то окажется, что эта специфика сплошь или почти сплошь лежит в области изобразительного решения эпизода, именно зрелищной его стороны.
Вопрос: Каких режиссеров немого кино вы считаете самыми лучшими?
– Самыми лучшими я считаю тех, кто двинул вперед искусство немого кинематографа. В Америке это Дэвид Уорк Гриффит. Я, кроме того, питаю особое пристрастие к Чарли Чаплину. Во Франции это группа «Авангард», выдвинувшаяся в двадцатых годах, в частности Ренэ Клер. У нас – это Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, Козинцев и Трауберг в области художественной кинематографии; Эсфирь Шуб и Дзига Вертов – в документальном кино.
Вопрос: Чем замечателен Гриффит?
Гриффита называют отцом американского кино. Его лучшие картины относятся к временам Первой империалистической войны и последующих за ней годов. Увидев картины Гриффита «Водопад жизни» и «Сломанная лилия», я впервые понял, что кинематограф может быть подлинным искусством, причем искусством и жизненно правдивым и психологически тонким.
Вопрос: А в чем особенности этих картин?
Прежде всего в том, что они ничем не похожи на обычную кинематографическую продукцию тех времен. Они глубоко гуманны, полны чистоты. Это настоящие, серьезные картины, быть может, немножко сентиментальные на наш сегодняшний взгляд. Но в них есть своеобразные характеры, образы, вылепленные при помощи чисто кинематографических средств с большой тонкостью. Гриффит первый принципиально использовал главное оружие немого кинематографа – монтаж и крупный план. До Гриффита монтаж был простой склейкой. Ставили камеру и крутили сцену. Кончалась сцена – переходили к следующей, две сцены склеивали вместе – и все тут; монтажа как искусства не было. Гриффит первый открыл возможности монтажа.
Не менее замечательна работа Гриффита с актерами. Именно он прославил таких выдающихся американских актеров, как Лилиан Гиш и Ричард Бартельмес. Гриффит добивался от актеров сдержанно-точной и вместе с тем острой, выразительной работы, добивался тонкого изощренного психологического рисунка в немом действии. В области психологической драмы заслуги Гриффита огромны. Этот жанр, пожалуй, следует вести от него.
Вообще американский кинематограф в начале двадцатых годов нашего века вышел на первое место. Были даже теоретики, которые объясняли это тем, что американский образ жизни особенно подходит для развития кинематографа, что кинематограф – типично городское искусство, связанное с бешеным темпом движения. Это, разумеется, оказалось неверным.
Вопрос: Кто у кого учился: Гриффит у Эйзенштейна или Эйзенштейн у Гриффита?
Эйзенштейн выступил на арене кинематографа значительно позже Гриффита. Первая его картина «Стачка» появилась в 1925 году, а «Броненосец „Потемкин“» в 1926 году. Но это вовсе не означает, что Эйзенштейн учился у Гриффита. Во всей истории кинематографа нельзя найти фигуру, равную по значению Эйзенштейну. Это был подлинный титан киноискусства. Он подверг решительной ломке все стороны кинематографа. Прежде всего он решительно перевернул представление о содержании кинокартины. В картинах Эйзенштейна действующим лицом стала масса, народ. Для того чтобы появился Эйзенштейн, нужна была Октябрьская революция. Картина Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“» прозвучала во всем мире, как громовой удар. На голландском судне «Семь провинций» после просмотра этой картины вспыхнуло восстание.
Однако сила Эйзенштейна не только в новом революционном содержании, не только в том, что он вывел на экран нового человека – человека революции, но и в том, что он нашел для нового содержания абсолютно новую революционную форму, сломав и перевернув все привычные представления о кинематографе.
Если Гриффит сделал первый шаг в отношении принципиального использования монтажа как выразительного оружия, то Эйзенштейн сделал монтажное искусство новым языком кинематографа, вскрыл такие возможности использования монтажа, о которых до него и не подозревали. Мы будем специально говорить об этом, когда дойдем до раздела режиссуры.
Такую же революцию Эйзенштейн произвел в вопросах композиции кадра, киномизансцены, в строении эпизода, в функции крупного плана, в использовании всех выразительных сторон кинозрелища.
Работы Эйзенштейна оказали огромное влияние на кинематографию всего мира и до сих пор (так же как работы другого великого режиссера – Пудовкина) служат предметом изучения и у нас и во всем мире.
Вопрос: Почему вы не упомянули Кулешова?
С удовольствием исправляю эту ошибку. Еще до Эйзенштейна Л. В. Кулешов сделал многое для развития советского кинематографа. Его первые картины очень выразительны и своеобразны. Кулешов был учителем Пудовкина. Деятельность Кулешова подготовила появление титанической фигуры Эйзенштейна, развитие великолепного таланта Пудовкина и многих других режиссеров.
Беседа третья
Что принесло с собой появление звука в кино
Появление звука резко изменило весь характер нашего искусства. Кинематограф получил новое могучее оружие – слово. Содержание кинокартин значительно обогатилось. Человек на экране получил возможность глубоко мыслить. Весь разнообразный мир звука вторгся в немую сферу кинематографа. Это была действительно революция, совершенно не похожая на появление цвета, стереофонии или широкого экрана.
И хотя, казалось бы, режиссерам сразу стало легче, казалось бы, сразу отпала самая большая трудность – трудность перевода всего содержания жизни в немое, беззвучное действие, на первых порах звуковой кинематограф, приобретая слово, потерял вместе с тем многое из былой выразительности.
Как только на экране появился говорящий актер, он властно потребовал места и времени для себя. Оказалось, что с диалогом нельзя обращаться так произвольно, так резать на кусочки, так монтировать, как мы резали на кусочки и монтировали немое действие. Логика развития речи стала диктовать построение сцены. Режиссер вынужден был уступить многие позиции актеру.
Что значит «уступить» многие свои позиции?
Дело в том, что немое кино выработало совершенно особенную фигуру режиссера – фигуру единовластного диктатора в фильме. Ведь строя немое действие из мельчайших частиц, из коротких однозначных кадров, он свободно распоряжался всем человеческим актерским материалом. Многие режиссеры даже не снимали актеров, они снимали так называемый «типаж», то есть просто людей своеобразной, примечательной внешности.
В коротком монтажном кусочке некоторых немых картин, где человеку надо было проделать какое-нибудь простейшее действие – пробежать, испугаться или удивиться, обрадоваться или отвернуться, – неповторимая натуральная внешность человека с улицы иногда оказывалась выразительнее, чем работа профессионального актера. Профессиональный театральный актер был поставлен в немом кино в трудные условия. Прежде всего он был лишен речи. Затем он был лишен возможности естественно и постепенно развивать свое действие в сцене. Он снимался в кратчайших кусочках, связь которых с соседними подчас с трудом понимал. Во времена немого кино актерам зачастую даже не давали сценария. Им примерно объясняли содержание ролей, а затем в каждом отдельном кадре актер выполнял то, что ему приказывал режиссер. Режиссер один строил всю картину.
Я до сих пор помню, как в конце двадцатых годов впервые присутствовал при беседе ассистента режиссера с актерами, приглашенными в студию для отбора на несколько эпизодов.
Ассистент обошел актеров, внимательно вглядываясь в них, потом остановился против одного и сказал:
– Вот вы приходите завтра, будете сниматься.
– Какая роль? – спросил актер.
– Рабочий.
– Положительный, отрицательный?
– Положительный.
– Сколько лет?
– Столько, сколько вам.
– Что нужно делать?
– Придете на съемку – узнаете.
Между нами говоря, я не очень убежден, что и сам ассистент точно знал, что предстоит делать актеру. Вероятно, режиссер сказал ему: пригласите-ка мне на завтра человек пять рабочих, настоящих пролетариев с хорошими лицами, двух помоложе, трех постарше.
Актер во времена немого кино часто оказывался в положении как бы марионетки в руках у кукловода. Известен, например, анекдот о том, как обманул хозяин частной фирмы (это было еще до революции) одного актера. С ним заключили договор на роль, а сняли, как впоследствии оказалось, в двух ролях. Актер думал, что его переодевают по смыслу картины, а выяснилось, что он снимался в двух разных картинах, играя двух разных героев.
Съемка картины короткими однозначными кусками и привела к распространению типажной теории. Насколько эта типажная теория была широко распространена, показывает хотя бы такой примечательный эпизод из практики самого Эйзенштейна.
В 1927 году Сергей Михайлович снимал картину «Октябрь». В картине известное место было уделено образу В. И. Ленина. Сергей Михайлович решил, что ни в коем случае не будет гримировать «под Ленина» актера, что это будет жизненно неправдиво, искусственно, что это будет театральщиной. Он решил найти двойника Владимира Ильича.
Режиссерские штабы в кинематографе тогда были большие. Разослали ассистентов по городам Советского Союза, и вскоре где-то на Урале, на одном из заводов, был обнаружен человек, до того поразительно похожий на Ленина, что не нужен был даже грим.
Его выучили «ленинским» жестам: он энергично простирал вперед руку, закладывал пальцы за проймы жилета, наклонял голову набок, ходил стремительной походкой, словом, внешне подражал Владимиру Ильичу. Так как он был невероятно похож, то казалось, что типажная теория полностью восторжествует. Но, к сожалению, человек, столь похожий на Ленина, был неталантлив, и это оказалось отчетливо видно на экране. Он исправно делал ленинские жесты, но тем не менее смотреть на него было неприятно.
Я привожу этот пример только для того, чтобы подчеркнуть, насколько далеко в те годы зашла уверенность некоторой части передовой режиссуры в том, что картина делается только режиссерскими средствами, что актер, по существу, не играет решающей роли.
Но, между нами говоря, режиссеры немого кино не только с актерами обращались так сурово. Режиссер был полновластным хозяином всех сторон картины, в том числе и сценария. Профессиональный сценарий тех лет представлял собой сугубо схематическую запись сюжета, не больше, а все наполнение сюжета конкретным материалом жизни, так сказать, обрастание скелета мясом, предоставлялось режиссеру. Даже текст надписей, то есть скрытый диалог немой картины, в сценарии только намечался.
Тогда считалось, что картина рождается на монтажном столе, что именно монтаж, соединение мельчайших кусочков, рождает в кинематографе произведение искусства. Считалось, что монтажом можно сделать все что угодно.
Поэтому я и говорю, что появление звука, появление на экране говорящего актера заставило режиссеров сдать многие свои позиции, отступить.
В самом деле, когда эпизод развивается в диалоге, с ним уже не поступишь так, как с немым эпизодом, его не порежешь на кусочки, не выбросишь половину, не перемешаешь с кусками соседнего эпизода, он должен быть осмыслен, целостен. Да и актер говорящий, то есть мыслящий и действующий в слове, не может работать бессмысленно, рефлекторно. Он должен понимать содержание всей сцены, должен полно выражать его – выражать в цельном едином куске.
Для того чтобы диалог не рассыпался, чтобы реплики соединялись одна с другой, актеры должны взаимодействовать, «общаться», как мы говорим.
Все это поставило перед режиссерами новые сложные задачи.
Поначалу в картинах сохранялся в основном прежний немой монтажный строй. Первые звуковые картины еще очень похожи на немые, большинство эпизодов развертывается в них без текста, и только время от времени появляются говорящие актеры. Обычно в те времена они появлялись на очень длинных планах. Ведь для того чтобы сообщить зрителю самую простую мысль, нужно много времени. Если в немой картине средняя длина кадра была два-три метра, то есть четыре-пять секунд, то в звуковой картине стали появляться планы говорящего актера длиной в десять-двенадцать и больше метров.
Эти длинные планы поначалу раздражали нас, режиссеров, привыкших к немому кинематографу, мы с трудом мирились с ними, но зрители с восторгом приняли заговорившего актера, они сразу признали его, они валом повалили на звуковые фильмы, и режиссерам пришлось отступать. Пришлось работать с актером, репетировать с ним, перестраивать монтажный строй картины. Под давлением диалога кадры стали постепенно удлиняться. Вот уже появились планы в тридцать, в сорок метров. Все большее развитие стали получать все виды съемок с движения, при которых можно было следить за актером и снимать картину длинными кусками.
При съемке короткими кусками актер и режиссер попадают в нынешнем звуковом кино в сложное подчас положение. Представьте себе, что мы снимаем какой-нибудь темпераментный монолог. Мы сняли его начало, но в момент, когда актер доходит до наивысшего накала и произносит какие-нибудь особенно яростные слова, в этот момент режиссеру требуется перейти на крупный план. Монолог прерывается, оператор начинает переставлять свет, а актер отправляется в буфет, выпивает чашку чаю, съедает пару бутербродов, а иной раз пропустит и кружку пива. Затем он возвращается в павильон благодушный, сытый, и вот на крупном плане, уже не имея перед собой партнеров, а видя только киноаппарат и обступившую его съемочную группу, он должен выкрикнуть вдруг, без всякой подготовки, самый темпераментный кусок. Это сделать нелегко. Чтобы дойти до нужной степени накала, актеру требуется непрерывность действия, а она нарушается монтажным методом съемки.
Вот почему режиссеры стали изобретать всевозможные способы, чтобы удлинить кадры, вот почему режиссеры стали жертвовать монтажным методом.
Если мы сравним лучшие немые картины конца двадцатых годов, то есть того времени, когда немой кинематограф достиг вершин своего развития, со многими звуковыми картинами, то ясно увидим, что кинематограф, приобретя с появлением звука новые огромные выразительные и смысловые возможности, вместе с тем многое и потерял. И одна из основных потерь заключается в том, что мы уже перестали ориентироваться на сознательное, активное сотворчество зрителя.
Вместо того чтобы строить немое действие, из которого зритель сам делал необходимые выводы, сам конструировал события (о чем мы говорили выше), мы просто сообщаем зрителю все необходимые обстоятельства, сообщаем их в диалоге, а если нам не хватает диалога, то вводим еще дикторский текст – голос автора или голос актера, который просто рассказывает зрителю смысл того, что перед ним происходит.
Авторский голос может быть использован очень интересно и очень принципиально, но мы сейчас пользуемся им хищнически: чуть картина не склеивается, эпизоды не вяжутся между собой, как мы вводим объяснения. За последнее время я видел целый ряд картин, которые начинаются с того, что чей-то голос говорит: в нашем городе, на одной из улиц живет такой-то человек. И дальше всюду, где картина не клеится, вставляется голос, который, более или менее бесхитростно, поясняет все, что необходимо.
Характер восприятия картины сегодняшним зрителем резко отличается от характера восприятия зрителем немой картины. Зритель звукового кино пассивнее. Мы переживаем период излишнего увлечения словом, мы перестали экономить слова, действующие лица у нас стали болтливыми, и подчас картина вся целиком переносится в область разговоров. Это не кинематографический путь, это путь театра. Ведь театр не располагает таким могучим оружием, как натура, как крупный план, как внимательное наблюдение за человеком, как тысячи зрелищных приемов, которые свойственны кинематографу. Вся трудность работы театрального драматурга именно в том и заключается, что он вынужден все содержание жизни переводить в слово. В этом условность театра, в этом его беда. И то, что мы в кинематографе стали пользоваться тем же методом, демонстрирует наше отступление на своего рода полутеатральные позиции.
Проделайте следующий опыт: сидя дома перед своим телевизором или в кинотеатре на какой-нибудь современной разговорной картине, попробуйте закрыть глаза. Открывайте их только тогда, когда вы по содержанию реплик или по вступлению музыки почувствуете, что на экране меняется обстановка, что действие переброшено куда-то. Откройте теперь на несколько секунд глаза, чтобы отметить новую декорацию, и снова зажмурьтесь.
Я убежден, что вы вот так, закрыв глаза, легко поймете многие из сегодняшних картин. Между тем в кинематографе зрелищная часть должна быть не только так же сильна, как звуковая, но должна быть во много раз сильнее; должна нести не меньше смысла, не меньше содержания. Кинематограф – это зрелище, а не «слушалище». Само слово «кинематограф» в переводе на русский язык означает «изображающий движение». По-английски кинематограф называется «движущаяся картинка». Таким образом, движение и зрелище лежат в основе даже самого названия нашего искусства.
Глаз бесконечно более изощрен, чем ухо; слепота во много раз более тяжелое несчастье, чем глухота. Как ни разнообразен мир звуков, зримый мир в тысячи, в миллионы раз разнообразнее. Нет более сильного впечатления, чем впечатление глаза. Все могущество кинематографа заключено именно в зрелищности его, и все развитие кинематографа с первых его шагов идет по линии усиления зрелищной части (если мы исключим только одно изобретение – открытие звукового кинематографа).
Я говорю не только о таких открытиях, как широкий экран, синерама или циркорама, как цветное или стереоскопическое кино, я говорю о менее заметных открытиях в области операторского искусства в обычной черно-белой картине нормального формата. Сравнивая первые кинокартины, снятые лет шестьдесят тому назад, с картинами, снятыми тридцать лет тому назад, затем с картинами, снятыми десять-пятнадцать лет тому назад и, наконец, с современными картинами, вы увидите, как бесконечно двинулось вперед искусство изображения жизни в кинематографе, как усложнилось мастерство оператора в обращении с композицией кадра, со светом, насколько тоньше стали задачи, насколько они стали сложнее, насколько ярче, выразительнее стали методы съемки эпизодов фильма.
Картина «Летят журавли» – не широкоэкранная и не цветная – это обычная черно-белая картина. Но вглядитесь в операторскую работу Сергея Урусевского, посмотрите, сколько таланта, изобретательности вложено им в эту картину, как поразительно сняты некоторые кадры. Напомню хотя бы эпизод, когда Татьяна Самойлова прибегает на призывной пункт в надежде найти жениха среди уходящих на фронт солдат. Вспомните эту панораму через толпу – сколько поразительных лиц, какое гармоничное, стремительное и выразительное движение. Такая панорама еще десять-пятнадцать лет тому назад показалась бы невозможной, немыслимой. Или вспомните смерть Алексея, вспомните эпизод бомбежки. Операторская работа в этих эпизодах достигает подлинного совершенства.
Вот это и есть главная, могучая сила кинематографа. В этих сценах звук и изображение сочетаются органически, причем изображение играет решающую роль. Зрелищная природа кинематографа заключается не только в том, что мы можем вводить в него натуру, грандиозные батальные сцены, массовые народные движения, море, горы, великолепные дворцы или сдавленные домами узкие, мрачные улицы; зрелищность кинематографа не только в эффектных и масштабных эпизодах, она проявляется в самых интимных, в самых камерных сценах.
Возьмем любой эпизод: два человека разговаривают, сидя в комнате. Предположим, это сцена из «Анны Карениной» – сцена объяснения в любви Кити и Левина у ломберного стола. Сцена эта заключается в том, что ни Кити, ни Левин почти ничего не говорят, они объясняются при помощи букв, которые пишут на зеленом сукне стола. Можно ли представить себе такую сцену, сыгранной в театре? Разумеется, нет. Для этого пришлось бы прочитывать вслух буквы, а если их прочитывать вслух, то какой смысл писать их мелом на столе? Ведь в том-то и дело, что объяснение в любви происходит скрытно, что стеснительный Левин прибегает к мелку и отдельным буквам, чтобы побороть свою робость, свое смятение.
В кинематографе эта сцена может быть решена множеством способов. Можно придумать десятки выразительнейших решений этой сцены, не нарушая авторского замысла.
Мне можно возразить, что я взял сцену, в которой актеры говорят мало, в которой действие не выражено ни в слове, ни в движении. Возьмем, наоборот, сцену, которая сплошь построена на диалоге, ну, например, сцену Каренина с адвокатом. Такая сцена, разумеется, может быть поставлена и в театре. Она и фигурирует в театральной инсценировке «Анны Карениной». В чем будет заключаться разница между театральным и кинематографическим решением этой сцены? Разница будет заключаться в том, как, в какой системе кадров вы снимете ее. Будут ли видны все время оба партнера или аппарат будет брать то одного, то другого? Будут ли введены такие детали, как длинные тонкие пальцы Каренина, суставами которых он любит хрустеть, и короткие волосатые пальцы адвоката?
Эту сцену на театре вы видите все время как бы в одном кадре, на общем плане. Если вы так снимете ее в кино, она окажется невыносимо скучной, плоской, даже обессмысленной. В кинематографе вам придется многое изменить и, в первую голову, разумеется, вам придется изменить не текст, а именно зрительную сторону. В кинематографе нельзя бесконечно держать в одном кадре двух разговаривающих людей, это будет невыносимо плохо, и вся изобретательность кинорежиссера будет направлена на то, как зрелищно сделать эту сцену более осмысленной, как выделением деталей, крупных планов лиц, отдельных мимических движений подчеркнуть смысл происходящего.
Таким образом, зрелищность кинематографа проявляется даже в сценах, где перед вами простая комната, письменный стол и два человека.
Вот почему мы говорили в предыдущей беседе о том, что немой кинематограф, то есть пластическое развитие действия, является основой киноискусства. Как бы ни была выразительна, разнообразна и изощренна звуковая часть, опирается кинематограф на изображение.
Вопрос: У меня такое впечатление, что вы – за немой кинематограф. Верно ли я вас понял?
Нет, вы поняли меня неверно. Я за движение, я – за рост. К. Чуковский написал прекрасную книгу «От двух до пяти». Любая мать знает, как очаровательны дети в этом возрасте. Но какая мать согласится оставить своего ребенка в пятилетием возрасте, оставить его младенцем? Ребенок растет, появляются новые сложности, подчас портится характер, он делается сложнее, иногда грубее, а в общем – умнее, взрослее. То же самое происходит и с кинематографом. Появление звука двинуло его вперед. Кинематограф стал в чем-то грубее, но зато гораздо содержательнее и умнее. Тонкость, изощренность работы «немых» режиссеров исчезла, зато появилась новая могучая сила – слово.
Я за то, чтобы мы не останавливались в развитии, надо двигаться дальше.
Вопрос: Вы говорили, что важнейшим свойством немого кинематографа была монтажностъ. Но разве в звуковом кинематографе нет монтажа?
Разумеется, и в звуковом кинематографе есть монтаж, но он изменился. Один из характернейших признаков его изменения – это то, что мы стараемся сейчас монтировать как можно незаметнее. Даже там, где сцена склеивается из целого ряда планов, мы сейчас, развивая единое звучащее действие, стараемся сделать переходы с кадра на кадр как можно более «мягкими», незаметными, плавными. А в немом кино, наоборот, ритм картины создавался именно монтажом, и поэтому переходы с кадра на кадр делались подчеркнуто резко, контрастно, остро.
Вопрос: Каких режиссеров звукового периода вы считаете самыми великими?
Великие люди в искусстве появляются очень редко, иной раз проходит полстолетия, пока в литературе или в живописи возникнет действительно великий человек, настоящий гений. Русская литература XIX века, по моему глубочайшему убеждению, является первейшей в мире литературой. Ни один народ не обладает таким великолепным наследием, как мы, и тем не менее я лично считаю только трех писателей XIX века поистине гениальными – Пушкина, Гоголя и Толстого. Впрочем, это мое личное мнение. Поэтому со словом «великий» я обращался бы с большей осторожностью.
У нас много хороших, профессионально сильных режиссеров. Я, например, очень люблю Сергея Герасимова, хотя сам работаю совсем в другой манере. Я ценю Герасимова за то, что это человек принципиальный, что он создал свой собственный стиль, выработал собственную яркую, индивидуальную манеру. Я ценю его также за то, что он умеет пропагандировать эту свою манеру, учить ей других, что он оказывает заметное влияние на многих молодых режиссеров.
Я люблю и очень многих других моих современников-режиссеров: например бр. Васильевых, Калатозова, Козинцева, Райзмана и многих других. Я очень люблю итальянских режиссеров; я считаю такие картины, как «Похитители велосипедов» Витторио де Сика, «Машинист» Пьетро Джерми, «Рим в и часов» Де Сантиса, просто шедеврами. Но вместе с тем ни одного из итальянских режиссеров в отдельности великими назвать не могу, хотя все направление итальянского неореализма, с моей точки зрения, великолепно и прогрессивно. Из живущих ныне зарубежных режиссеров я высоко ценю французского режиссера Рене Клера, американцев Уайлера и Джона Форда. Все это превосходнейшие режиссеры, но среди ныне живущих только одного я считаю подлинным гением, это Чарли Чаплина, хотя его картина «Король в Нью-Йорке» неудачна. Но пусть она даже совсем плоха, – человек, создавший «Малыша», «Новые времена», «Огни большого города», «Великого диктатора», наконец, создавший образ Чарли, – этот человек имеет право на любые неудачи.
Вопрос: Что легче снимать – немую картину или звуковую?
– Снять по-настоящему хорошую звуковую картину так же трудно, как по-настоящему хорошую немую; снять посредственную или плохую звуковую картину не труднее, чем посредственную немую картину.
Вопрос: Широкоэкранное кино усложняет работу режиссера или облегчает ее?
Отвечу точно так же: если мы не ставим перед собой высокопринципиальных задач, то широкий экран даже облегчает работу, потому что автоматически создает дополнительный эффект – шикарнее выглядит натура, массовые сцены приобретают дополнительную мощь без всяких усилий режиссера, на зрителя действует сам широкоэкранный эффект. А если пользоваться широким экраном принципиально, если добиваться от каждого кадра точной, широкоэкранной выразительности, специальной широкоэкранной композиции, если использовать его во всю силу и принципиально, то, по-видимому, это очень трудно.
Беседа четвертая
Что такое кадр
Картина состоит из кадров. Кстати, слово «кадр» имеет несколько значений. Кадром мы называем отрезок пленки, снятый с одной точки или в едином движении камеры – от склейки до склейки. Кадр может быть и длинным и коротким.
Кадром мы называем также композицию изображения, установленную при помощи камеры. Режиссер говорит оператору: «Поставьте кадр» или «Возьмите в кадр вот это дерево». Это значит, что оператор должен поставить камеру так, чтобы в композицию изображения вошло данное дерево.
И, наконец, кусочек пленки длиною в четыре перфорации – единица движущейся ленты – тоже называется кадром или кадриком.
Сейчас мы будем говорить о кадре как о куске сцены, снятой с единой точки (движущейся или неподвижной).
Предположим, я снимаю сцену так: видна вся комната, в глубине в дверь входит человек. Подходит к столу. Берет в руки книгу. Вслед за тем показывается крупно обложка книги. На ней написано: «Л. Толстой. „Война и мир“».
Эта сцена склеена из двух кадров. Сначала был снят общий план комнаты, аппарат стоял в самом конце ее – видны были и стены, и дверь, и стол. Когда человек подошел к столу и взял в руки книгу, режиссер сказал: «Стоп», – оператор передвинул камеру к самому столу. Режиссер установил руку и книгу так, чтобы можно было крупно прочесть заглавие. И был снят второй кадр: крупно – книга.
Сцена в кинематографе состоит из ряда кадров различной крупности. Кадры могут быть сняты неподвижной камерой или же движущейся. Так, например, ту же сцену можно было снять не в двух неподвижных кадрах, а в одном движущемся. Для этого нужно было поставить камеру на тележку так, чтобы в объективе была видна дверь. При входе человека камера должна отъезжать от него, чтобы человек, идя к столу, все время находился в кадре. При подходе человека к столу камера должна повернуться и подъехать так близко к книге, чтобы можно было прочитать заглавие. В первом случае мы изложили действие в двух статических кадрах, во втором случае – в одном кадре «с движения».
Кадры с движения, как правило, могут быть значительно длиннее неподвижных кадров, потому что аппарат может отъезжать перед актером, ехать вслед за ним, поворачиваться, пересекать комнату в любых направлениях – словом, может следить за актерами.
Но как бы длинны ни были съемки с движения или «панорамные» съемки, все равно невозможно не только всю картину, но даже большую сцену снять в одном кадре, какие бы изощренные движения ни проделывала камера. Картина непременно состоит из ряда отдельных кадров.
Это «кусочное», как бы мозаичное строение кинокартины принципиально для кинематографа вообще. Ведь и само движение на экране, по существу, не непрерывно, а состоит из ряда мельчайших фаз, в каждой из которых изображение неподвижно. Всякий, кто держал в руках пленку, знает это. Ряд неподвижных изображений появляется на экране. Глаз человека устроен таким образом, что зрительный нерв на долю секунды удерживает в памяти появившееся изображение, и поэтому отдельные неподвижные картинки как бы сливаются в одну движущуюся.
Таким образом, то, что мы воспринимаем как непрерывное, плавное движение, вовсе не является ни непрерывным, ни плавным. Любое движение в кинематографе скачкообразно. Но скачки не воспринимаются нами именно благодаря свойству памяти продлевать впечатление.
Тот же самый закон, который в первичном, простейшем виде действует при прохождении пленки, мы обнаруживаем и в более крупном масштабе при соединении отдельных кадров, то есть при монтаже. Впечатление от появившегося кадра остается в нашем сознании, задерживается в нем, когда мы монтажным путем переходим на следующее изображение.
Представьте себе, что человек, подошедший к столу и взявший в руки книгу, вдруг поворачивается, услышав что-то, и делает от стола шаг. Вслед за тем мы видим, что в окно, ну, скажем, влезла кошка. Кошку, которая лезет в окно, мы сняли отдельным кадром. Но впечатление двинувшегося от стола человека продолжает работать в нашем сознании, пока кошка лезет в окно, и в следующем, третьем по счету, кадре мы можем показать человека уже прямо около окна. Зритель воспримет это не как скачок, а как прямое следствие прохода человека: ведь он в предыдущем кадре начал движение от стола, и зритель мысленно продолжает это движение, пока следит за лезущей в окно кошкой.
Любой кинозритель видел сцены рубки шашками в конном бою, и многие поклянутся, что видели, как шашка опустилась на голову человека. На самом деле этого, разумеется, не было. Любителей подставить голову под шашку вы не найдете, да и охрана труда не допустит такой рубки. Снимается кадр всадника, который взмахнул шашкой. Затем любой перебивочный кадр, например, лошадь встает на дыбы. В следующем кадре «зарубленный» падает с коня. Но зритель мысленно продолжает движение шашки, и ему кажется, что он ясно видел, как шашка опустилась на голову.
Мы будем еще разбирать этот эффект зрительского продолжения действия в главе о монтаже. Пока нам нужно только установить это правило, для того чтобы стал ясен характер связи кадров между собой. Каждый кадр картины – это не изолированное явление, а лишь звено в цепи явлений. Подобно тому, как отдельный кадрик кинематографической пленки длиной в четыре перфорации ничего собой не представляет, кроме фотографии, а соединенный с соседними кадрами образует звено единого движения, точно так же каждый кадр картины является звеном в цепи развивающихся событий и может быть понят и до конца почувствован только в связи со всеми соседними кадрами.
Режиссер, строя кадр, должен учитывать, какое место он занимает в картине, в какой цепи, которым по счету звеном он является.
Кадр – это мельчайшая доля картины, и режиссер всегда работает над этой мельчайшей единицей.
В съемочных группах обычно на стене вешается большая доска, на которой записано триста, четыреста, пятьсот номеров. Это кадры будущего фильма.
Вот режиссер пришел в павильон. Снят первый кадр. И соответствующий номерок на табличке зачеркивается. Мне всегда казалось, что эта сухая таблица с номерами очень точно передает особенность нашего искусства. По мере работы над картиной все больше зачеркнутых номеров видим мы на таблице. Вот уже половина всех номеров перечеркнута, а картины пока еще нет. И если собрать в этот момент все снятое, то зритель еще ничего понять не сможет – перед ним будут кусочки, отрывочки, не складывающиеся в цельное действие, в цельный сюжет.
Для того чтобы нам впоследствии легче было понимать друг друга, давайте договоримся прежде всего о том, что такое «крупность» кадра. Кинематограф оперирует самыми разнообразными масштабами. Можно снять весь зрительный зал Большого театра целиком, для чего поставить аппарат на сцене и направить его в зал, а можно подойти с аппаратом к одному из зрителей так близко, что будет видно только его лицо, или даже еще ближе – только рука и кольцо на пальце. Для того чтобы впоследствии ясно понимать, о какой крупности идет речь, мы введем следующую терминологию для определения кадров:
1. Дальний план или самый общий план. Это значит, что в кадре взято очень большое помещение целиком или такой просторный пейзаж, что он читается очень далеко. Фигура человека на таком дальнем или самом общем плане будет еле различима. Если, скажем, это толпа людей, например, в момент штурма Зимнего дворца, то отдельные фигуры на таком плане сольются в общую движущуюся массу.
2. Общий план. Это целиком взятое помещение, но не столь масштабное, или на натуре участок улицы, или кусок природы, не столь далеко видимый. Разница между общим и дальним планом, как видите, не очень-то принципиальная. Когда мы пишем «самый общий» или «дальний план», мы хотим просто подчеркнуть масштаб зрелища. Но и в общем плане человек будет маленьким. Доминировать будет либо архитектура помещения, либо природа, улица.
3. Средний план. Это часть помещения, часть улицы, уголок природы. Если мы снимаем в театре, то это будет две-три ложи или какая-то часть партера, часть сцены. На среднем плане люди видны яснее. Архитектура или природа уже не подавляют человека, человек различим более отчетливо. Скажем, если «Крестный ход» Репина – это самый общий план, то «Иван Грозный убивает сына» – это средний план.
4. Следующий по крупности план мы назовем групповым планом. Это план, в котором доминируют люди, а помещение или натурный объект чувствуются меньше. Групповым планом можно назвать картину Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».
Следующие крупности не требуют особых пояснений:
5. По колени.
6. По пояс.
7. Портретный (голова и часть груди).
8. Крупно (одна голова).
Во всех этих крупностях человек приобретает все более решающее значение, а обстановка, среда чувствуются все меньше. В крупных планах она почти неощутима.
И, наконец, самая большая крупность.
9. Деталь. Деталь может быть мертвая, например, очки, коробка папирос во весь экран; деталь может быть и живая: кулак, глаза.
Когда мы работаем над режиссерским сценарием, то перед каждым кадром мы непременно обозначим его крупность, правда, не по столь подробной шкале. Обычно в сценарии различаются планы дальний, общий, средний, крупный и деталь.
Теперь представим себе работу режиссера, оператора и всей съемочной группы по установке кадра. Скажем, снимается картина «Анна Каренина», сцена обеда у Степана Аркадьевича, разговор Кити и Левина. Съемка эпизода началась еще позавчера. Часть сцены снята, и сейчас режиссеру предстоит продолжать ее.
Он входит в павильон. В декорации, изображающей столовую князя Облонского, стоит стол, накрытый скатертью, на столе – посуда, вино, кушанья, смятые салфетки. Гости рассаживаются.
Прежде всего режиссер должен вспомнить, чем кончился предыдущий кадр, если он уже снят. Иногда бывает и так, что предыдущий кадр (например, план старого князя Щербацкого) еще не снят. Сцена снимается не в порядке действия, а в произвольном порядке, обычно так, как это удобно оператору. Ведь для того чтобы снять кадр, скажем, на правом конце стола, следует весь свет, стоящий в павильоне, повернуть именно в этом направлении. Если же после этого снимать кадр на левой стороне стола, то в глубине этого кадра окажутся видны все осветительные приборы. Их придется вытащить, переставить, перевернуть весь свет наоборот. Это большая работа.
В данном случае во время обеда разговор перебрасывается все время с одного конца стола на другой. И если режиссер и оператор каждый раз будут переставлять весь свет, то это займет слишком много времени и потребует больших усилий. Поэтому режиссер сначала снимает все общие планы – из начала сцены, из ее середины и конца. Затем он снимает все средние планы в направлении, предположим, справа налево, затем крупные планы в том же направлении. После этого весь свет перекидывается для съемки в направлении слева направо. Опять снимаются все кадры в этом направлении и крупные планы к ним.
Но ведь есть еще и обратная точка, кинематографическая декорация имеет все четыре стены. Когда сняты три генеральных направления, под самый конец снимаются обратные точки. Куски действия в этих обратных точках тоже могут относиться и к началу действия, и к середине его, и к концу.
Итак, в первый день режиссер отснял общие и средние планы в главном направлении. Затем перебросился на правое направление и сегодня продолжает эту работу. Прежде всего он устанавливает объект кадра. Скажем, в данном случае это Левин и сидящая рядом с ним Кити. Обычно оператор уже заранее знает, что ему предстоит начинать съемку с этого плана, и устанавливает камеру. Но режиссер должен помнить не только то, что ему нужны сейчас Левин и Кити, а должен установить еще и крупность плана в соответствии с тем, какие кадры идут до этого и после этого. Если перед этим кадром довольно крупно был снят Степан Аркадьевич, то вряд ли переходом камеры на Левина и Кити режиссер скомпонует средний план. Он постарается, чтобы крупности соседних планов отвечали друг другу. Таким образом, прежде всего он устанавливает с оператором, кого в каком направлении и в какой крупности нужно взять в кадр.
Установив композицию кадра и крупность его, оператор начинает устанавливать на кадр свет. Этот свет должен хорошо сочетаться со светом, который был на предыдущем кадре. Темное и светлое в нем должны быть распределены так, чтобы два соседних кадра, склеившись впоследствии, не вызвали ощущения резкого контраста.
Итак, мы с вами установили уже три элемента, которые учитывает режиссер (и оператор) при установке кадра: содержание, крупность, свет.
Но ведь кадры соединяются с соседними не только с учетом света, но и с учетом композиции. Если в предыдущем кадре на переднем плане были крупно видны бокалы, фужеры, бутылки, за ними лицо Степана Аркадьевича, в глубине неслышно движущаяся фигура лакея и стены комнаты уже слегка расплывались в дымке, то примерно аналогичный характер нужно придать и соседним кадрам. В то же самое время нужно найти черты отличия одного кадра от другого. Нехорошо будет, например, если в предыдущем кадре в правом углу стояла крупно на первом плане бутылка и в следующем опять в том же правом углу и столь же крупно окажется поставленная бутылка. Характер построения кадров в эпизодах должен быть аналогичен, кадры должны отвечать друг другу, но в то же время точное повторение композиции вызовет ощущение нарочитости или будет раздражать. Значит, четвертый элемент, который учитывает режиссер, строя кадр, – это элемент композиции.
В предыдущих кадрах за столом шел оживленный разговор. Предположим, изображается уже конец обеда, когда все порядочно выпили, лица покраснели и голоса стали достаточно громкими. Поведение Кити и Левина в этом кадре должно сливаться с поведением всех сидящих за столом или наоборот контрастировать с этим поведением, в зависимости от замысла режиссера. Но во всяком случае, общий характер состояния обедающих должен режиссером учитываться. А между тем, может быть, финал обеда еще и не снимался и будет сниматься только тогда, когда камеру перебросят на другую сторону, то есть завтра или послезавтра. В этом случае режиссер должен, работая с актерами, учитывать то, что он будет снимать, сообразовывать поведение актеров в данном кадре с теми кадрами обедающих, которые еще не сняты. Вот вам пятый элемент того, что должен учитывать режиссер.
Позади стола все время снуют лакеи. Они уже проходили в одном, в другом, в третьем кадре. Нужно учитывать и это движение заднего, второго плана, темп его. Если, например, в предыдущем кадре лакей, долив бокал, быстро вышел из кадра, то будет плохо, если в следующий кадр он войдет медленно и повторит ту же работу. А если он только пройдет сзади и пройдет быстро – это будет правильно. Поведение лакеев на втором плане должно слиться в какое-то единое стройное действие. Режиссер должен учитывать и движение на втором плане.
Если картина цветная, возникают особые обстоятельства. Скажем, столовая у Степана Аркадьевича темная, стены обшиты дубом. Единственным светлым пятном является стол с белоснежной скатертью, хрусталем, посудой. Таким образом, сочетание темных, коричневых стен и светлого стола окажется основным акцентом в общем плане. Но вот вы выделили поясным или портретным планом Кити, а Кити сидит в розовом платье. На общем плане это розовое пятнышко было еле различимо. Но когда вы взяли Кити крупно, во весь экран, то в кадре возникло большое количество розового цвета над белой скатертью. Это будет нарушать стройность, подействует неприятно, ибо в пределах одной сцены цветовое решение, также как и решение света, должно строго выдерживаться в едином замысле. Оператору и режиссеру придется приглушить свет на платье Кити, может быть, перекрыть чем-то или не брать ее столь крупно. Вот еще один элемент, который учитывается режиссером при организации кадра.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63661467) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
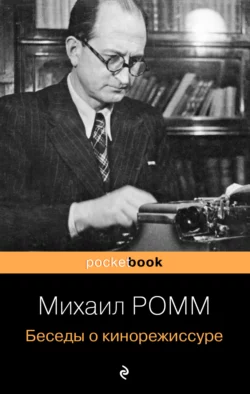
Михаил Ромм
Тип: электронная книга
Жанр: Публицистика
Язык: на русском языке
Издательство: Эксмо
Дата публикации: 30.07.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Михаил Ильич Ромм (1901 – 1971) – выдающийся советский кинорежиссер, снявший такие фильмы как: «Обыкновенный фашизм», «Девять дней одного года», «Пышка», «Ленин в Октябре». Ромм был не только практиком кино, но и великолпеным теоретиком, мыслителем. Ромм преподавал во ВГИКе, был профессором, среди его учников – Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Резо Чхеидзе и многие другие. В книге «Беседы о кинорежиссуре» собраны размышления Ромма о кино, не потерявшие своей актуальности в наше время. «Беседы» Ромма будут интересны всем, кто любит, смотрит или делает кино!