Барнаул-517
Барнаул-517
Сергей К. Данилов
Более ста лет назад в Барнауле случился пожар, уничтоживший всю его центральную часть и оставивший без крыши над головой более 20 тысяч человек. Официальной причиной пожара в советские времена было признано неосторожное обращение с огнем начальника пожарной части города при смолении им лодки у себя во дворе. Однако свидетельские показания местных жителей на суде, состоявшемся в двадцатые годы прошлого века, на которые власти постарались не обращать внимания, называют другие причины катастрофы. Книга содержит нецензурную брань.
Барнаул-517
Сергей К. Данилов
© Сергей К. Данилов, 2021
ISBN 978-5-0051-6967-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
БАРНАУЛ-517
Глава 1
«Милая, добрая, чудесная моя Анастасия!», – прочла она первую строку письма, вспыхнув ярким румянцем гимназистки, получившей первое признание в любви, инстинктивно оглянулась по сторонам: не увидел ли кто, не дай бог, как некто приблизился и внезапно объял ее столь горячими и нежными словами!
Никого рядом не было: на крыльце сельской школы Анастасия Павловна стояла одна, верховой объездчик, передавший ей письмо, лихо пришпорив коня, ускакал по песчаной дороге, не вполне еще просохшей от недавно сошедших сугробов.
Письмо было не от мамы – слишком красив и каллиграфичен почерк… на какое-то мгновение мелькнула нечаянной искрой догадка, что написано оно рукой преподавателя русского языка их женской гимназии Николая Феоктистовича Шубина…
Хорошие почерки все одинаковы – ибо ставятся с единого для учебных заведений империи образца на уроках чистописания.
И одновременно сделалось ей вдруг предельно ясно, как недалеко она ушла от прежней гимназистки Настеньки за год, проведенный в ипостаси взрослого человека – учительницы сельской школы Анастасии Павловны, хотя где-то в глубине души по-прежнему оставалась все той же гимназисткой Барнаульской казенной женской гимназии, здание которой двухпалубным кораблем вознеслось на пересечении улицы Пушкинской и Соборного переулка, и в стенах которой было проведено ни много ни мало – восемь незабвенных лет, и где Николай Феоктистович пребывал не только строгим наставником, а еще и душой гимназического общества, заведуя проведением вечеров с танцами, играми, а также постановкой спектаклей силами учениц 6 и 7 классов. В довершение всего он по-отечески заботился о дальнейшей судьбе выпускниц старшего педагогического класса гимназии, искал для особо нуждающихся места службы, чтобы не слишком далеко уезжать от родительского дома. И для Насти в новой Власихинской сельской школе нашлось место не без его участия, за что она безмерно благодарна своему учителю.
Так от кого же тогда письмо?
По немецкой фамилии адресата и штемпелю барнаульского лагеря №161 для военнопленных австрийцев и германцев она не без труда, но все же припомнила человека, от кого могло прийти нежданное послание: человека по имени Пауль, вроде давно забытого, неинтересного, пустопорожнего прилипалы, с которым случайно встречалась пару раз на дороге, и который при этом оказывал ей шуточные знаки внимания, нижайше кланяясь в пояс, и, сняв треух, махал им так широко, что начерпал много снега с верхушек сугробов, но, как ни странно, чувство восторженной благодарности вызванное необычным обращением отнюдь не растаяло, а в некоторой степени перекинулось на образ низкорослого, почтительно-глуповатого пленного австрийца в сером заячьем треухе, потрепанной иноземной шинели да валенках не по размеру, но с заворотом, который пытался этой зимой идти рядом по узкой тропинке и постоянно проваливался в сугроб, громко хохотал, тараща и без того круглые навыкат оловянные, неприятные, будто замороженные, рыбьи глаза.
Вернувшись в классное помещение, Анастасия Павловна продолжила чтение нежданного послания от невзрачного австрияка, виденного у хутора колониста Визе, и который в ту зимнюю пору, провожая ее вдоль заснеженной реки, безуспешно пытался взять под руку. По какому праву смел вести себя подобным образом? Она не давала к тому ни малейшего повода! Впрочем, нынешняя благодарность за чудесные слова из письма, которых до сей поры ей никто не говорил и не писал, значительно превысила строгие вопросы. На юном лице учительницы рдела смущенная улыбка.
Занятия уже окончились, немногочисленные учащиеся разошлись по домам, одна только Верочка Маслова замешкалась, глядя в окно, – поджидала старшего брата, который сегодня что-то не спешил забирать ее. Верочка и сама бы прекрасно добралась до дому, чай не злая метель на дворе, но Михайла настаивал, чтобы она дождалась его, он обязательно придет, и сестра догадывалась почему…
Причиной тому была их учительница Анастасия Павловна – высокая, стройная девушка, в белой блузке с черным строгим бантом и черной длинной юбке, которая стояла сейчас с письмом в руке возле классной доски, увлеченно его перечитывая.
Слова «чудесная моя» удивляли и радовали вновь и вновь необыкновенной, первозданной невесть откуда взявшейся силой открывшихся внутри ее самой чувств – хотелось перечитывать их сто тысяч раз подряд, ощущая чувство невесомого полета, снившееся в детских снах. В них была скрыта первозданная тайна жизни: действительно, почему почти незнакомый доселе человек произнес их вдруг, вернее написал, спустя два месяца после их случайной встречи? И отчего они так сильно воздействуют, вызывая прилив эйфории? Не означает ли это, что все прошедшее время тот незнакомец лелеял в глубине души воспоминания, непрестанно думая о ней, и вот чувство… любви переполнило его и он решился наконец излить его письменно? Значит существует все-таки в божьем мире человек, который думает о ней каждый божий день, носит ее образ в своем сердце, непрестанно видит перед собой… а значит… любит? Кто-то еще, кроме мамы…
Нет, совершенно другое это было чувство, нежели то, что Верочка испытывала прежде к гимназическому преподавателю Николаю Феоктистовичу, даже когда в седьмом классе считала, что влюблена безмерно, а вспоминала – непременно с восхищением. Теперь ей очевидно – то была благодарность. Ведь именно Николай Феоктистович убедил маму, что дочь ее обязана продолжить образование в восьмом педагогическом классе, дабы приобрести профессию учителя. Говорил о святой миссии и долге перед народом, уверяя, что Анастасия обладает всеми необходимыми качествами и талантами нести доброе и вечное. Вопрос упирался в деньги, необходимые для оплаты – требовалось найти уже восемьдесят рублей месячной оплаты для обучения в педагогическом классе, против семидесяти рублей в седьмом классе. У них в семье таких денег не было: после смерти отца в 1912 году, плату за обучение Насти вплоть до 7 класса вносила владелица барнаульского пароходства Евдокия Ивановна Мельникова, кроме этого она выплачивала вплоть до весемнадцатилетия Насти половину отцовского жалования, которое тот получал в пароходстве, служа коммерческим агентом, сопровождая торговые грузы, перевозимые на судах по Оби, Бии, Томи от порта погрузки до склада пункта назначения.
Шубин лично поднёс госпоже Мельниковой прошение с просьбой оплатить и дополнительный педагогический класс, после которого Анастасия получит соответствующий диплом, позволяющий претендовать на вакансии учителя начальных школ министерства образования или даже подготовительных классов гимназий, тем самым сможет обеспечить и себя, и престарелую мать.
Они ходили к Евдокии Ивановне вместе с Шубиным, и когда тот подал прошение, Мельникова, посмотрев на Настю долгим испытующим взглядом, спросила не у нее, а у матери, нет ли на примете достойного жениха, желающего вступить в брак с выпускницей гимназии, где ее за семь лет учебы в достаточной мере должны были обучить не только латинскому языку и арифметике с тригонометрией, но и ведению домашнего хозяйства. И что она бы предпочла в память о заслугах папеньки Анастасии, который на протяжении многих лет являл собою безупречный образец ответственности для всех прочих служащих пароходства «Мельникова и сыновья», дать ей приданое рублей пятьсот, чем за те же деньги пускать ее по опасному пути «синего чулка», что в пору французских веяний на Россию может привести ее в лагерь феминизма и прочей социальной ереси, коими забивают головы молодых людей, дабы отвлечь от главного – создания семейного очага.
При этих словах Николай Феоктистович потупился, покраснел, но сдержался, не молвив слова против.
– Да что вы, сударыня Евдокия Ивановна, ей еще только шестнадцать, – сказала матушка, – и нет у нас никаких женихов пока на примете…
– А сама ты, милая, что скажешь?
– Я хотела бы стать учительницей начальных классов, детей грамоте обучать, а замуж пока не хочу, не думала еще…
– Думать о сём, голубушка моя, обязаны в первую голову родители, да ну ладно, из уважения к покойному вашему батюшке, сумму на обучение выделяю. Но, поверьте, с большим бы желанием дала приданое, видит бог, шестнадцать лет для девушки – замуж в самый раз, ежели, конечно, за хорошего и разумного человека…
И вот, милостью божией, все, о чем мечтала Настенька и мать ее, при поддержке добрых людей – учителя Шубина и госпожи Мельниковой, сбылось: она учительница, кормилица своего небольшого семейства, проработала без единого срыва целый учебный год в новой сельской школе, где вела два класса. Хотя и здесь не обошлось без помощи добрых людей, например, Верочкиного брата…
Всем им она благодарна: и Николаю Афанасьевичу, ему больше всех, с его поистине отцовской заботой, и строгой благодетельнице Евдокии Ивановне, взявшей с нее обязательство иметь высочайшие баллы по обучению и непременно похвальное поведение, в противном случае оплата за образование производиться не станет… но ничто теперь не в состоянии сравниться с простыми словами: «Милая, добрая, чудесная моя Анастасия!». Так что же теперь получается, что судьба ее… решена?
Совсем недавно, кстати, пришло письмо от Николая Феоктистовича с приглашением «… посетить в конце мая месяца, 31 числа, праздник, посвященный 40-летию Барнаульской женской гимназии, которую Вы имели честь окончить в 1916 году с Похвальным листом», и письмо сие начиналось совсем по-другому: «Милостливая сударыня, Анастасия Павловна!»
Первоклассница Верочка смотрела через стекло на дорогу, по которой уехал объездчик и должен был прийти старший брат Михаил, добровольный помощник учительницы, по зимнему времени школьный истопник и дворник. По лицу ее быстро-быстро катились слезы.
– Анастасия Павловна, я в школу ходить больше не буду…
– Отчего вдруг? Посевную начинаете?
– Тятя сказал: «Читать – считать научилась, и хватит для девки. Дома будешь главную науку проходить: шерсть прясть, варежки с носками вязать, лён ткать, да щи варить, а еще огород садить-полоть, за младшими детьми смотреть»… На поля все завтра выезжают, я дома с младшими за няньку остаюсь…
– Не расстраивайся, Верочка, в оставшееся время ничего нового изучать больше не будем, а в начале следующего учебного года обязательно приду к вам домой, и уговорю твоего отца, чтобы отпустил тебя учиться дальше, обещаю! Ведь писать-считать – слишком мало для современного человека. Конечно, летом у вас работы много, на то и каникулы предоставлены, а на зиму отпустит тебя тятя в школу, вот увидишь!
– Правда?
– Конечно, не плачь раньше времени, вот и брат пришел за тобой, а ну, вытри-ка слезки… да беги к нему навстречу.
Верочка, улыбнувшись, вышла из класса на школьное крыльцо, а Настя продолжила чтение письма.
«Помню, как мы гуляли по берегу реки, моя рука коснулась Вашей – и душа запела песню любви…»
«Экий, право, выдумщик!»
Провожать от хутора колониста Визе, где она три раза в неделю занималась с детьми хозяина русским, французским и латынью, для подготовки к поступлению в городскую гимназию, действительно провожал… но никакой «песни любви» не было в помине… тогда… а вот теперь от письма, от слов «чудесная моя», просмотренного десять раз кряду… и от раза к разу все более притягательных… вдруг… Она быстро дочитала письмо, в конце нахмурилась и снова вышла подышать на свежий воздух.
В течение долгой сибирской зимы основными внеклассными работами учительницы оказались отнюдь не проверка тетрадей с домашним заданием, как ей думалось прежде, но чистка снега на школьном дворе, топка школьной печи, уборка классных помещений. С утра пораньше, много прежде начала занятий, зимней ночью, по кромешной темноте, следовало наколоть дров, успеть растопить печь, дабы учащиеся пришли заниматься в теплое помещение, натаскать ведрами в бадейку воды из колодца, а по окончании пяти уроков, выгрести золу и закрыть печные вьюшки, чтобы школу к утру не выстудило совершенно, произвести влажную уборку всех помещений школы, приготовить пособия к следующему дню занятий…
Зарплату учительнице платил учебный округ, ставки же истопника и уборщика в школьной ведомости почему-то отсутствовали. По мнению министерства просвещения, дрова для отопления сельской школы обязаны были поставлять крестьяне села, чьи дети ходят в школу, они же должны исполнять прочую черную работу, как некий образовательный крестьянский оброк.
Заставлять учащихся самих топить печи, таскать воду, мыть полы, чистить двор от снега, то бишь эксплуатировать детей, казалось Анастасии Павловне делом совершенно невозможным. Ее обращение к сельскому старосте окончилось ничем, тот уехал в конце сентября в Барнаул на ярмарку и застрял там со своей торговлей надолго, потому учительнице самой пришлось мести полы в классах, а по холодам и топить печь, испросив детей приносить с собой каждому по полену.
Когда с Покрова наступили уже серьезные холода, незадачу с дровами и печью самовольно решил неприметный с виду деревенский парень Михаил, брат одной из учениц: однажды вдруг подвез на дровнях к школьному двору целый воз березы, в тот же день испилил стволы на чурки, а затем и вовсе удивительно, – начал каждое утро приходить с утра пораньше колоть дрова и затапливать печь, натаскивал в бочку воды из колодца для умывальника и питья. Сказал, что у него есть на это поручение сельского схода. Полов, правда не мыл и сор не мёл, золу тоже не всегда выгребал, лишь только когда приходил забирать сестру по сильному морозу или метели.
Прочие дела, не относящиеся к топке печи, у Настеньки и самой получались неплохо, ведь в Барнауле они жили вдвоем с матерью в своем домике на небольшое пособие за умершего отца, прислугу нанимать было не на что, все приходилось делать самим и по дому, и по огороду, но помощь Михаила она приняла с великой благодарностью.
Ей только одно странным казалось – вот он так лихо колет березовые чурки: раз – два и нате вам, пожалуйста, набралась большая куча сахарно-белых поленьев. Мог бы за час по хорошей погоде днем наколоть большую поленницу про запас, которой ей хватило бы на месяц с избытком топить самой – чай не барыня, и в таком случае ему не обязательно бегать в школу каждое утро – дети сами прекрасно добирались по хорошо наезженной зимней дороге, когда не было сильной метели.
Она не однажды пробовала объяснить добровольному помощнику про ту очевидную экономию времени, которая могла при том для него образоваться, однако Михаил лишь отмахивался: нет у него сейчас времени лишнего, вы, барышня, хотя бы золу выгребайте сами, и на том спасибо, руки только не обожгите, а растапливать печь – это с неумения можно пожар устроить запросто, и школу спалить, не дай бог… снег он тоже расчистит возле школы и дорожку разгребет для ребятишек от дороги к крыльцу. К колодцу – само собой. На том их разделение труда и состоялось: на две неравные, но справедливые части.
Когда Михаил находил время прийти за сестрой к концу уроков, он частенько задерживался долее, садился на крылечке, пока она мыла полы в классных комнатах, ждал, потом запирал дверь на большой амбарный замок, прятал ключ в условленное место. Брал сестру Веру за руку, и они уходили в одну сторону, Анастасия Павловна – в другую. Она жила неподалеку на квартире у одинокой бабушки.
По ранней осени еще, в сентябре месяце, с завершением хлебной жатвы, Михаил высказал осторожное любопытство:
– А почему вы, Анастасия Павловна, на сельские вечёрки никогда не ходите?
– Я учительница, мне надо вечером к завтрашним занятиям подготовиться, потому и некогда плясать на лугах, – ответила она.
– Это конечно, – согласился он как-то сразу, без сопротивления, будто ждал подобного ответа и даже надеялся на него. – Я тоже в последнее время не хожу. К чему? Все равно скоро в армию идти, зачем на фронте лишние переживания? От дела только отрывать будут…
Сегодня брат с сестрой тоже задержались во дворе школы, явно дожидаясь учительницу попрощаться.
Разумеется, Анастасия прекрасно понимала изначальную причину всех этих добрых дел, никем не называемую, по какой Михаил вызвался быть школьным помощником и делал все, что от него требовалось, и много свыше того с веселым задором быстро и споро: чтобы в школе было тепло, топил печь с раннего утра, торил детям дорогу на легкой кошевке, занесенную за ночь, а в большой мороз собирал их по домам, укрывая большим тулупом и привозил «в учебу», передавая с рук на руки Анастасии Павловне.
Понимала, была благодарна, но несколько досадовала про себя по той причине, что крестьянский сын Мишка Маслов не мог быть героем ее романа. Анастасия Павловна воспитана была на книгах из бесплатной городской библиотеки и частенько грезила образом прекрасного рыцаря настолько сильно, что отвергла партию, предложенную ей по окончании гимназии приказчиком ближней скобяной лавки, вполне приличным молодым человеком, всегда хорошо и чисто одетым, тоже частым посетителем библиотеки и чайной при ней, игравшего даже спектакли в самодеятельной труппе Народного дома.
У них был тогда долгий разговор с маменькой, которая в конце концов приняла сторону дочери – «раз не нравится, нечего и свататься». Можно было полагать, что кто-то спрашивал маменьку, можно ли заслать сватов, не будет ли «от ворот поворот», как говорится, что считалось позорным для жениха. Маменька после их разговора с дочерью кому-то сообщила их совместный отрицательный ответ и сватов не прислали.
В постскриптуме удивительного послания адресат сообщал, что никто кроме нее не сможет вызволить его из беды, в какую он попал, молил о помощи, так как знакомых у него в Барнауле и всей Сибири нет, одна надежда на доброту и милость бесценной Анастасии Павловны. Перепад от первых радостно-воздушных строк к завершающим трагическим так ее тронул и взволновал, что юная учительница тут же решила срочно ехать в Барнаул, спасать человека, нет, не любимого, но во-первых, столь в ней нуждающегося, и во-вторых, столь сильно ее любящего. Тем более, что учебный год завершался на следующей неделе, всю программу и в первом, и во втором классе они прошли.
Перед наступлением нынешней ранней весны, а стало быть неурочной посевной, оба класса ее с каждым новым днем сильно сокращались в численном составе. Вон и Верочка завтра не придет… Анастасия Павловна еще раз перечитала письмо, неожиданно для себя решив окончить учебный год сегодняшним днем, а самой выехать в Барнаул как можно скорей – надобно выручать человека из каталажки, куда его закрыли власти за пение песен в ночное время. А если душа поет, то что? Сразу в тюрьму?
– Здравствуйте, Михаил!
– Будьте здоровы, Настасья Павловна!
– Верочка сказала, что скоро на поля выезжаете?
– А что? Земля готова, погода хорошая, я там уже и времянку подправил – за зиму все ветшает быстро, у печки трубу переложил, протопил, как следует, чтобы стены просушить, палати подлатал… Школьной-то работы у меня боле нет: снег на дворе стаял, солнышко пригревает, будто лето настало… печку топить не надо… А что у вас настроение невеселое? Пострелы, небось, баловались? Или из дома вести плохие, – он кивнул на конверт, лежавший на столе, и письмо, которое учительница по-прежнему держала в руках, а при словах Михаила убрала за спину.
– Да… неважные… Михаил, мне надо срочно уехать в город по семейным обстоятельствам. Вы не оповестите всех учеников, что школа до осени закрыта?
– Раз надо, так надо. Не сомневайтесь, объявим. Только вы уж осенью-то к нам опять приезжайте, будем ждать. Вы в Барнаул прямо сегодня хотите уехать?
– Хорошо бы прямо сейчас… вещи только соберу… их у меня немного… и хозяйку предупрежу.
– Наш сосед, Фрол Никитич, в кооперативный магазин собирался за семенами, я сейчас сбегаю к нему, попрошу, чтобы за вами заехал, хорошо?
– Хорошо бы, Михаил…
– У него кобылка резвая, дрожки на резиновом ходу, скоро доставит, ладно, мы тогда бегом побежим, а то вдруг не успеем перехватить… Если не получится с ним договориться, я к вам приду – про то скажу.
Михаил с Верочкой наперегонки кинулись бегом в свою сторону. Анастасия Павловна пошла собирать вещи. Удача способствовала ей, скоро она уже выезжала в дрожках за околицу.
Сопровождавший отъезд Михаил все порывался что-то важное досказать на прощание, несколько раз обращался громко, с торжественным выражением: «Анастасия Павловна!», но тушевался и скоропалительно принимался излагать обыденные вещи, чтобы она не беспокоилась насчет дров: к осени он заготовит хорошую поленницу, и наколет заранее, как она просила… Топить будет каждый божий день без пропусков, и снег грести обязательно, и воду носить, и все, что надо по школе сделать… в лучшем виде…
– Ладно, прощевай, Мишка, – возница хлестнул лошадь, дрожки легко покатили по ровной песчаной дороге.
Провожатый заспешил следом уже легкой трусцой, на лице его застыло выражение крайней растерянности.
– До свидания! – выкрикнул он вдогонку так громко, будто они отъехали слишком далеко, сам продолжая мчаться за бричкой быстрыми прыжками. – Осенью ждать будем, Анастасия Павловна, вы приезжайте обязательно, мы дров для школы много заготовим… до свидания! – наконец, остановился и пропал позади.
– Так бы до города и доскакал иноходью, помощник выискался… – Фрол Никитич усмехнулся в пышные усы, однако, глянув на расстроенное лицо учительницы, решительно сменил тему. – Хочу сегодня успеть на базаре семян сортовых взять, урожайных, там где-то кооперация свой магазин, говорят, открыла, попробуем по агрономии работать. Может, и успею еще, вас куда надо будет доставить, на какую улицу отвезти?
– Полковую знаете? В Марьиной роще…
– Куда покажете, учительша, туда и довезем, прямо до крылечка доставим. Дорога, смотри-ка, здорово подсохла, и ветер с юга горячий надувает… пора, пора пришла сеять… почем, интересно, сортовая пшеница у кооператоров и так ли хороша, как пишут? Сроду не брал… своей обходился али базарной… а тут в газете кооперативной объявление почитал, что в их магазин ныне поступили семена большой урожайности, очень сделалось мне интересно… взять надобно на пробу, посеять делянку, посмотреть, что получится? Порфирий Казанский ту статью написал, знаете такого? Он раньше в Барнауле газетчиком был, «Жизнь Алтая» выпускал, а теперь организацией крестьянской кооперации занялся, говорят, его за это даже гласным Думы избрали. Судя по статьям о ведении хозяйства, – умнейший человек тот Порфирий…
Учительница сидела, сжавшись, держа руку на корзине с вещами, уставленную на сиденье промеж ею и возницей. Почти сверху, под платками, лежало письмо, так круто и вдруг переменившее ее жизнь. Она будто бы внимала соображениям крестьянина по поводу кооперации, успехи которого были особенно велики в маслоделии, благодаря железной дороге и вагонам-морозильникам, поставлявшим сливочное масло и сыр в центр России и даже за границу… кивала, иногда говорила «да, конечно», а сама слушала, как бьется собственное сердце и с огромной радостью понимала, что ее настигла любовь.
Одно лишь непонятным оставалось – чувство зажгло небольшое письмо, лежавшее в корзинке, которого теперь она касалась пальцами: прежде к человеку, написавшему его, она была абсолютно равнодушна. Да что там, толком не помнила даже. И помнить не желала. И эта гигантская разница меж тем, кто провожал ее по утоптанной в снегу тропке, и тем, кто сказал, будто вслух, «чудесная моя», была огромной, непреодолимой, в то время, как им являлся вроде бы один и тот же человек… А вдруг не тот? Может быть, она ошибается? Что произойдет, когда они встретятся? Исчезнет ли жар в груди, от которого приятно кружится голова, как от букета сирени, брошенного в раскрытое окно… или станет еще сильнее? Ей бросали уже, но то совсем другое, а тут все сильней и непреодолимей, как будто судьба говорит свою речь… А приятное кружение со слезами радости бывало и от прочитанного романа со счастливым концом… Маменька возражала против ее увлечения романами, взятыми в библиотеке Народного дома… и, конечно, не отпустит ее идти вызволять Штихеля из кутузки, куда беднягу посадили за громкое пение немецких песен посередь ночи в спящем городе Барнауле… нет, ей надобно сразу ехать в лагерь, не заезжая домой… маменька или не пустит, или поедет с ней, а это неправильно… девушка должна сама спасти возлюбленного: так пишется в романах и даже сказках Ганса Христиана Андерсена! А в русских – нет, там наоборот.
И почему ее умнейшая родительница выступает против чтения любовных романов? Особенно ополчилась после случая с одноклассницей Насти по гимназии, красавицей Марией Лисовской, дочерью городского головы и статского советника Лисовского, что исчезла из города, не завершив образования. На переменах гимназистки старших классов обсуждали шепотом, что не просто так скрылась Марыська, – папаша увез ее от молвы подальше в какую-то деревеньку рожать. А виною сему обстоятельству является библиотекарь Общества попечения народного образования – маленький тщедушный Иоганн Фогель, по прозвищу Мокрица, с блеклыми глазами навыкат, всегда потными ладонями, худой морщинистой кожей, все время ломающий пальцы от трагического переизбытка чувств. Он действительно входил в труппу самодеятельного театра Общественного собрания. Любил рекомендовать гимназисткам и прочим дамам книги фривольного содержания, и давая тихие рекомендации с многозначительными намеками, приближал губы к женскому ушку, шептал, слегка придерживая за талию… али плечики.
Переводные издания Мопассана, Золя и прочих менее известных в плане литературного мастерства, зато с более изощерёнными в подробностях любовных сцен, до чего тароваты французы, не были утверждены для чтения в городских библиотеках, но библиотекарь снабжал ими молоденьких дам из-под прилавка.
«Милая моя дочь, знание из книг полезны в области наук, – наставляла маменька, – а в области чувств должна сохраняться сокровенная тайна и первозданная чистота. Для счастливого брака жена должна быть первой женщиной у мужа, а он должен быть первым мужчиной в ее жизни. А то представь себе: девушка читает роман и, хочешь не хочешь, проникается думами, ощущениями и любовями героинь, вместе с ними постигая таинство любви, и раз и два и три, становясь тем самым… душевно пресыщенной дамой в совсем юном возрасте. Она тогда и в замужнем состоянии будет сравнивать мужа с романными героями, с которыми пережила первый душевный трепет, от того герои будут казаться ей лучше, ибо все, впервые прочувствованное оставляет более глубокий след в душе, что же тогда будет с ее замужеством? С семьей? С детьми? Все станет ей постыло… Словесный блуд самый худший, ибо в начале было слово… и в начале любого греха, и в начале добродетели… и, поверь, дурное слово, напечатанное и растлевающее душу – есть самое ужасное из нынешних пороков, уж я за жизнь свою того навидалась достаточно, хоть в гимназиях не училась. Отсюда следует, что девушка – изначально невинное дитя, – прочитав десяток-другой любовных романов, как бы пережила любовные связи, выпавшие на долю героинь, с десятком мужчин, и, развращаясь умом, бессознательно становится почти падшей женщиной, все время думая о греховном, начинает сама горячиться бессознательной страстью раньше времени… к любому случайному встречному-поперечному. Нет, дитя мое, прошу для блага твоего и моего: не бери эти книги ни в библиотеке, ни из-под полы… ни за деньги, ни бесплатно Знаю я, что ныне многие подрабатывают распространением запрещенной литературы…
Но откуда вам знать – про что книга написана, не прочитав ее, добрая маменька? Только от библиотечного просветителя господина Фогеля, то бишь, Мокрицы.
Нет, не пустит родительница на дело освобождения невесть какого пленного Штихеля, стало быть надобно ехать в Дунькину рощу сразу, не заезжая в родительский дом…
– А вы знаете, Настасья Павловна, что не первым учителем у нас во Власихе числитесь, до вас был человек – собирался школу строить на общественные деньги, давно, лет сорок тому назад. Слыхали. Нет? А вон, поглядите, видите земля пустая стоит – вербой заросла – она Штилькиной пустошью обзывается. Лет сорок тому назад один немец барнаульский по фамилии Штилька, говорили даже что дворянского он звания, в нашей Власихе истребовал эту землю под хозяйство, а чтобы местное общество к себе расположить, обещал, что школу для крестьянских детей здесь откроет и будет учить их всем наукам. Землю ту Штилька, конечно, получил, но из всех прочих начинаний один урон для местных жителей да пшик получился.
– Правильно – Штильке надо говорить, – подсказала Анастасия. – Господин Штильке в городе Барнауле организовал Общество попечения начального образования и заведовал им вплоть до своей смерти. Две школы Общество построило и Народный дом для проведения спектаклей, лекций и музыкальных концертов с библиотекой. Он был даже избран депутатом Государственной думы, но умер лет десять тому назад.
– Про то мы весьма наслышаны, матушка моя. А начинал все же Штилька здесь, у нас, я тогда пареньком был лет десяти – двенадцати, его видел и помню – уж очень большой конфуз произошел. Заезжие городские купцы рассказывали старикам нашим, будто батюшка евонный состоял казначеем всего Барнаульского округа, и сына своего в Томскую гимназию учиться отправил, а после гимназии прямиком в Петербург в университет на врача обучение проходить. Но тот высшего заведения не закончил, обратно вернулся. Толи денег не хватило оплатить у казначея округа на обучение сына, то ли с революционерами спутался и его выслали из столицы обратно к родственникам под надзор – доподлинно неизвестно, разное в народе говорили, но сам он, Штилька наш, по приезде во всеуслышание объявил, что, дескать, вместе с народом хочет жить пахать и сеять, сельским хозяйством заниматься. Что твой граф Лев Толстой. Земляной этот надел ему бесплатно из казенных земель сверху выделили без промедления, как вроде переселенцу. А какой он переселенец из столичных студентов во Власихинские крестьяне-огородники? Да никакой, естественно. Это же надо с малолетства науку крестьянскую познавать, к ней привыкать, от отца с матерью перенимать, ее в университетах не дают. О земле-то особый вопрос. Сказывают, когда в 63-ем году вышло освобождение приписных рабочих и казенных крестьян от заводской кабалы на серебряном Барнаульском заводе да рудниках, царь им дарственным указом отписал из казенных земель частные наделы близ Барнаула. Но тем землеустройством занимался не сам царь-батюшка, а кабинетные чиновники его величества, что сплошь и рядом из немцев состоят. Да и в округе нашем начальство сплошь немецкое, и стали они не казенным крестьянам землю нарезать, а своим колонистам немецким, которые либо здесь по разным ведомствам служили, и бесплатно хотели на земельке нажиться, либо из Петербурга прибежали за своей партией «Земля и воля», то бишь хождение в народ устроили вроде нашего Штильки, а настоящим крестьянам – шиш без масла достался. В Павловске так сильно переселенцев обманули с землей той обещанной и не даденой, что целое восстание поднялось, войска вызывали подавлять, много кого и в холодную тогда упекли…
Ну, вот. Стало быть, приехал из Петербурга наш Штилька-студент неудачный и говорит: «Я теперь крестьянствовать буду на своей земле!». Бауэром каким-то назвался. То бишь по-ихнему – знатным хозяином. Но с хозяйствованием у бауэра нашего нового не очень заладилось: ни коня сам запрячь толком не умел, ни за плугом пойти, известное дело – городской дворянин, казначеев сынок к тому же. И в наем к нему никто не пошел – платит мало. Немец – он всегда ведь хочет, чтобы русский на него за так работал, и желательно, чтобы на цепи сидел, видит в нас по-прежнему приписных казенных крестьян, только не к заводу царскому, а к своей собственной персоне. Господский народ немцы – ох, господский. Уразумел все же Штилька – ничего у него не получается с хозяйствованием. «Ладно, – говорит, – вы тут народ совсем темный, неграмотный, давайте хоть для детей ваших школу организуем, деньги на строительство соберем, шапку по кругу пустим, я со своей стороны купцов городских подниму на благотворительное дело, и разрешение от министерских властей вытребую на открытие сельской школы. Построим и будем детей учить письму и счету, и закону божьему, а выучатся они сим наукам, то потом хорошую работу в городе найдут и не станут горе мыкать, как вы мыкаете».
Мужики лбы почесали, бороды в кулаки сгребли да и решили, что школа – дело хорошее, надо сброситься на него, кто сколько сможет, леса купить да всем миром здание выстроить. Штилька шапку тогда на сходе о земь кинул – эх, была не была – свою землю под школу отдать вызвался: «Да на святое дело народного образования мне ничего не жалко, последнюю рубаху сниму». Видя такое истовое благочестие, мужики на сходе определили его казначеем школьным, ведь семейство благородное, дворянское, и папенька был казначей, и руку никогда в казну не запускал, раз сына не смог выучить на врача – вроде как денег не хватило. А если бы выучил – все равно приехал к нам младший Штилька и лечил бы всех бесплатно. Так все говорили друг другу. Ладно, год собирали взносы. Торгующие крестьяне – те помногу давали, кто и пять даже рублей, а то и червонец выкладывал, чтобы только дети – внуки грамотные были. Кто же о том не мечтает из нашего брата? Что бы спину всю жизнь не гнули на чужом заводе или в оброчном ярме? Набрали уже за полторы тысячи рублей. Штилька на каждом сходе по бумажке отчитывался складно, кто сколько сдал, и общую сумму называл, что раз от разу здорово подрастала. Пришла пора уже план архитектору заказывать, как вдруг обокрали нашего Штильку в дороге и, вроде как, его собственные деньги тоже отняли лихие люди, и всю школьную кассу заграбастали, которую он, как назло вез тот раз в Барнаул – в банк положить. Полиция искала разбойников по его описанию, да никого, само собой, не нашла. А ему шибко, видно, неудобно было перед обществом, что он больше после этого к нам во Власиху ни разу не приехал, будто зарок дал – ни ногой. Вот эта земля и стоит с тех пор сорок лет, Штилькиной пустошью зовётся, пребывая в его собственном владении. А он в Барнауле быстро женился на какой-то своей немке, в приданое взял пребольшущий дом. Ну, там тоже дело темное: кто говорит, что на приданное жены купил, другие бают, что на школьные, дескать, деньги – утаил их, а после недвижимое имущество приобрел, выдав его за приданое. И в доме том открыл для городских детей платную школу. Следом Общество свое организовал, купцов стал подбивать в его Общество деньги вносить на великое дело просвещения. И даже стал землеустройством заниматься для переселенцев. Но все время нелады случались по земельным вопросам в нашем округе, до бунтов дело не раз доходило. А когда мы новую, вашу, то есть, школу задумали в селе снова строить, обратились загодя к штилькам, наследникам его, царствие ему небесное, насчет участка – не отдадите ли на общественное благо под школу, как завещал ваш благородный папенька на общественном сходе сорок лет назад, тому и запись сохранилась у старосты? «Нет, – ответили те ходокам, – эта земля есть наше законное наследство. Ежели цену хорошую назначите – извольте, так и быть, уступим». Сами-то назначили в три раза дороже городской, ну общество от них и отстало. А ведь депутатом в Государственную думу был от нашего округа в свое время, из-за благородной своей репутации пекущегося о благе народном и денно и нощно, когда в Петербург переехал, аж в Кабинете царском работал по землеустройству. Но ни земли, ни школы от Штильки деревня так и не дождалась, а деньги общественные на нем большие потеряла, наше поколение неграмотным выросло в результате и дети наши тоже, такие вот дела со штилькиной пустошью, но, может, теперь внуки у вас, Анастасия Павловна, счету и грамматикам научатся.
Въезжая на Соборный переулок, Фрол Никитич обеспокоился: «Как бы кооперация не закрылась, может, сначала на Старый базара заедем?»
Но и Анастасия Павловна спешила по своим благодетельным делам, потому предпочла отпустить Фрола Никитича, поблагодарив, взяла извозчика на Конюшенной бирже и поехала вверх по Московскому проспекту к Лагерю, что за Дунькиной рощей расположен, где попросила охрану препроводить ее к начальству, скоро попав под ясные очи вахмистра Шарова. И с ходу устроила ему крепкий разнос, которого тот от миловидной девушки вовсе не ожидал: почему они, изверги такие, держат в темном холодном каземате военнопленного Штихеля, который всего лишь пел песни ночью? Ну да, свои немецкие песни! Что с того? Это, может быть, их народные песни! Человек в плену находится, и так скучает по родине, по отцу-матери! Он несчастный, слабый, больной человек! После свержения царского самодержавия никто не имеет права бросать человека в сырые застенки и темные казематы! Не для того монархию свергли, чтобы людей ни за что снова в карцеры бросать!
– Как зовут?
– Кого? Штихеля?… Пауль!!!
– Вас!
– Анастасия Павловна Долгополова, учительница…
– Откуда вам известен военнопленный австриец Штихель?
– Какая разница откуда?
– Извольте отвечать!
– Он… видите ли… я учительствую в селе и являюсь домашней учительницей на хуторе Визе… а он там работал у колониста Визе на строительных работах…
– Кем вам доводится военнопленный Штихель?
– …знакомый!
– Вы состоите с пленным австрийцем Штихелем в запрещенной переписке?
– Нет, конечно! Но по какому праву…
– Ясно. Дежурный, препроводите девицу в камеру заключения до выяснения вопроса и решения начальника лагеря.
Так учительница сельской школы и барнаульская мещанская дочь Анастасия Павловна Долгополова оказалась заключена в лагере военнопленных, проведя там ужасные вечер, ночь, день, опять вечер, и (о, боже!) еще ночь и половину следующего дня, в то время, как вышеупомянутый австрийский военнопленный лейтенант Штихель, которого она так героически мчалась спасать, давно был отпущен с гауптвахты специальным указом начальника лагеря, полковника русской армии, курляндским бароном фон Штауфе и жил-поживал в вольном граде Барнауле, Немецкой слободе, сразу за Аптекарским мостом, на квартире у аптекаря Майера, по соседству с тремя его дочками, такими озорницами, что доннер веттер! Аптекарь тот, несмотря на сухой российский закон, тайно приторговывал в своем заведении пивом, возя его аж от томского пивовара немца Крюгера. Для любимого квартиранта девицы Адель и Минна таскали пиво совершенно бесплатно прямо тому в комнату. Так что жил Пауль с пивом, девицами на полном аптекарском обеспечении, имея все жизненные удовольствия вдоволь, и пребывая, ровно как у Христа за пазухой.
Глава 2
Закинув одну премиленькую ножку на другую, тоже весьма недурную, обнаженная барышня восседала на низком подоконнике у раскрытого оконца, выходящего во двор, рядом с горшком цветущей герани, с блаженством покуривая. Время от времени она небрежным щелчком стряхивала сизый пепел в цветок, попадая то на мохнатенькие листики, то прямо на аленькие лепестки.
Ясное барнаульское утро выдалось по-летнему солнечным, теплым и тихим, а календарь, висевший в чистенькой комнатке на выбеленной перед Пасхой стенке, указывал апрель 1917 года.
Лицо барышни имело мечтательное, слегка сонное выражение. Сощуренные в узенькую щелочку глазки, свидетельствовали о полном удовлетворении прожитой ночью, рыжие, мелкие, как баранья смушка, кудряшки, за часы, проведенные на узкой скрипучей кровати, развились совершенно, и торчали ныне смешными рожками во все стороны.
Выпустив замысловатую струйку дыма, она коснулась снисходительным взором своего кавалера, который валялся на сбитой в комья постели, чрезмерно умаявшись за бурную ночь, похрапывая широко отворенным ртом, где блестели, отражая утренний лучик солнца, два вставных зуба.
Произведенный осмотр документов подтвердил, что прошлым вечером в электро-театре «Триумф», что расположен в пассаже Смирнова на Московском проспекте, при наличии зала более чем на триста мест, а так же, буфета с кофе, чаем, шоколадом, другими контрабандными товарами и напитками, продаваемыми Шпунтовичем совершенно открыто в своем барнаульском заведении, и, соответственно, среди самой разношерстной публики, она совершенно верно вычислила и смогла подцепить в привычном для себя безупречном стиле того, кто был ей нужен по делу чрезвычайной революционной важности, не вызвав при этом ни малейшего подозрения у окружающих. Высмотрела за три минуты образцово-показательного водевиля, среди множества австрийских масляных полупьяных морд, успевая вскидывать ножки на положенную высоту.
На сей раз нужным оказался бывший лейтенант 82-го пехотного полка австрийской армии, ныне военнопленный барнаульского лагеря номер 161, Фриц Краузе – тридцатилетний блондинистый немчура, имевший будто обожженную гладкую розоватую кожу на лице, испещренную давними отметинами оспы и уже наметившуюся на затылке плешью размером с детское блюдце. Белесая щеточка редких, истертых усов под узким, перебитым носом, короткая шея и развитая мускулатура плечевого пояса довершали видимую ей с подоконника картинку. Из невидимого: рост весьма и весьма средний, глаза выпуклые, серые, блеклого оттенка.
По вышеперечисленным приметам Дунька «сфотографировала» австрийца в «Триумфе», предварительно отмахав ногами на сцене перед началом сеанса кордебалет в виде рекламы летнего театра Общественного собрания, где их труппа с началом сезона готовилась ставить фарсы революционного сатирико-порнографического содержания про Распутина и фрейлен царского двора, недавно свергнутого самодержца Николая Второго, а также общую любовницу всея царской династии Матильду Кшесинскую. Сцена та находилась на пересечении улицы Томской и Соборного переулка. С мая месяца театр приступал к работе, о чём сообщал плакат, развернутый прошлым вечером в «Триумфе», и каждый вечер из оставшегося времени здесь, на сцене, перед началом сеансов, благодаря знакомству с владельцем электро-театра мил-другом гражданином Шпунтовичем, бывшим уголовным арестантом, а ныне даже и городским головой узловой станции Тайга, проходила рекламная предсезонная акция.
Коротконогий немец – явно любитель авантюр подобного толка – весьма легко на нее повёлся. «А что, пожалуй, сей бонвиан сгодится на уготованную ему роль в преддверии грядущих событий. Пожалуй, она готова поставить на него, как на «красное».
Докурив папироску, дамочка щелчком отослала окурок в куст смородины, росший у забора, и задорно тряхнула кудряшками.
По непривычно жаркой для апреля погоде, снег в Барнауле давно сошел, ручьи сбежали, горячее солнце основательно прогрело песчаную землю, и, хотя куст находился в вечной заборной тени, почки на смородиновых ветках давно раскрылись в чудно пахнущие листочки.
– Просыпайся, товарищ, – усмехнулась она, радуясь весеннему настроению природы и своим мыслям.
Встала с низкого подоконника, ухмыльнулась простовато, будто играя на сцене деревенскую дурочку в красном сарафане, которая скоро этот сарафан весьма выигрышно потеряет, чем вызовет бешеный восторг мужской публики летнего театра, потянулась недурно сложенным телом навстречу солнышку, раскрыв светилу бритые подмышки, потом рявкнула фельдфебельским басом:
– Штей ауф, комрад, ляха муха!
Во сне Краузе почудилось, что он у себя в австрийском городе Линце, казарме учебного полка, вроде как удрыхся в неположенное время, возможно даже прикорнул на караульном посту.
– Что? – вырвалось все же по-русски.
Фриц злобно выпучил оловянные зенки на невесть откуда взявшуюся гостью.
– Что-что, – передразнила девица, соблазнительно качнув бёдрами. – Пора, говорю, барин, расчет производить. С вас, господин хороший, причитается два рублика за оказанные услуги. Но если возжелаете чего дополнительно… могу еще разок прилечь… на посошок.
И доверчиво заморгала наивно вытаращенными глазёнками по углам скромно обставленный старушечьей комнатки с иконой и лампадкой.
Тоже оглянувшись по сторонам, Краузе не без сожаления осознал, что находится отнюдь не в Линце, и даже не галицийской хате, где дрых сурком накануне пленения, и уж, конечно, не в казарме сибирского лагеря 161 для военнопленных, но в комнате с отдельным входом, которую снял буквально вчера же у некой бабули на окраине сибирского города Барнаула под весьма секретную акцию на проведение которой, наконец, решилось местное немецкое командование в лице полковника фон Штауфе.
Вот только девицу эту легкого поведения за каким чёртом сюда приволок? Да еще распил с ней бутылку? Не сболтнул ли чего лишнего ночью? Откуда только взялась эта рыжая стерва?
Что стерва – совершенно очевидно. А насколько опасна в данной ситуации, необходимо прояснить как можно скорей. Краузе наморщил перебитый в драчливой юности нос, всегда первым чуявший неприятности, который ему совсем недавно подправили в деревне местные парни, и осмысленно заговорил на русском языке без всякого акцента, ибо по рождению являлся подданным российской империи, проведшим детство в Баку, где папа – истый немецкий националист, а дядя – немецкий социалист инженерили на нефтепромыслах Нобиля, фирму которого держал под контролем известный в местных кругах грузин по кличке Коба. Согласно происхождению, Фрицу самой судьбой предназначено было стать наследственным национал-социалистом, и он, как многие другие, давно стал им, то бишь, социализм Краузе полагал сделать государственной религией исключительно для немцев, и блага для народного немецкого социализма должны быть получаемы за счет прочих неарийских, а стало быть, неполноценных народов.
– Ты… кто такая?
– А Дунька мы, всем в Барнауле известная, – с веселой нагловатостью отвечала девица, жеманно поводя плечиками. – Дуня-Дуняша, радость ваша, аль забыли, господин хороший? Сами, небось, пригласили, да прямо с извозчика в постелю доставили прямым ходом на ручках. А таперича вспомнить не могут… мужчина неблагодарный, с утра пораньше с допросами пристает: как да кто? Дед Пихто и бабка Никто…
– Верно, как же… проститутка вчерашняя, припоминаю… Да и прежде… как-то… имел честь… встречаться. Нет? Ладно, барышня. не обижайся…. Я, видишь ли, сам люблю того… «кто не хочет иметь слишком много добродетелей». Так сказал однажды великий гений германского духа Ницше. Кофе есть?
– Кофия, сахарный мой, нету, могу сигаретку предложить. Али вам здесь квартирная хозяйка кофе варит?
– Нет, самоваром в сенцах можно пользоваться… Не вскипятишь ли чайку, прелестная фрейлен?
Однако барышня только мило улыбнулась, и вновь устроилась на подоконнике, потягиваясь с грацией ленивой кошки…
– Насчет чая с кофе скажу тебе, мил друг, следующее: понравился ты мне, немчура белобрысая… по женской нашей слабости… Вот как стану твоей фрау в Вене, а лучше даже Берлине, тогда… изволь… буду с утра слать служанку на… кухню… варить кофеёк… а пока… держи-ка папиросу… товарищ Краузе…
Раскурив, небрежно и точно кинула прямо в лицо. Краузе сигаретку успел словить, озадаченно затянулся, хмурясь от холодящего кровь ощущения, что где-то все же сболтнул лишнее… что было на него совсем не похоже. Вот не помнит он, что называл свою фамилию ночью… и вообще… зачем? В его нынешнем положении это особенно ни к чему.
– Дунька, значит… ну-ну…
– Не нукай, паря, не запряг ишшо… а хоть и Дунькой Беспортошной кликай, коли хошь… главное – чтобы нравилась безумно… Неужто и вправду имени не смог запомнить? Али не пожелали, господин хороший? Быстро у вас, муж-чин, я гляжу, память отшибает, за одну ночь, экий право… легкомысленный молодой человек оказались… но, конечно, весьма приятный… чего не отнять, того не отнять. В «Триумфе», не далее как вчера вечерком, вместе синематограф смотрели… обнявшись… душа в душу… и чего только мне на ушко не шептал в темноте, чего только не обещал… змий подколодный… Так это, миленький, как все же насчет оплаты? Обещания выполнять полагается, ваши благородия… а то сколько можно дурак-дураком валяться на чужих постелях, да расспросы производить, будто в полицейском участке? А ну гони-ка два рубля по-быстрому или квартального Гаврилу Степаныча кликнуть? Он тебе, немчура плешивая, враз объяснит диспозицию на местности…
Австрийский военнопленный флегматично затянулся слабенькой дамской папироской, лежал, не отвечая. Вдруг рассмеялся, указав на угол с иконой.
– Боженьку своего, зачем мордой к стенке отвернула? Чтобы лишнего не увидел?
– Само собой разумеется, а как иначе? Небось, накажет за грехи наши тяжкие… я есть девушка скромная, богобоязненная…
– Старая песня… можешь зря не хныкать. Постой-ка… богобоязненная… а Дунькину рощу, случаем, не в твою ли честь назвали? Ха-ха-ха! Там ведь, говорят, до войны публичный дом был?
Дунька презрительно сплюнула.
– А хотя бы и так, что с того? В доме том, на Волчьей Гриве, поблизости от полковых солдатских казарм я уже в «мамках» над девками состояла. А вот в Питере, гостинице «Европа» – да, накурулесила вдосталь, приятно вспомнить, товарищ! Да что сердце напрасно рвать – прикрыли в начале войны барнаульские гласные, черт бы их побрал всех разом, наш доходный домик в роще имени меня, красивой такой, чтобы мы, русские девушки, не достались врагу, то бишь, вам, австро-германским пленным басурманам ни за какие деньги, за два рубля так особенно… Пострадали мы из-за вас, гадов недобитых, в материальном плане страшно… Нынче в доме нашем театральная коммуна организовалась, номера сдаем заезжим, самовар кипятим за пятачок, а я, стало быть, тоже теперь… актриса…
– Актриса погорелого театра? Ха-ха-ха… – немец загоготал гортанно, раскрывая пасть даже шире, чем при храпе. – Вот уморила! А ну, брысь с подоконника, хозяйка со двора может увидеть, мне эту комнату сдали с условием девиц не водить… еще не хватало из-за тебя… Шнель, шнель, шортова девка!
– Слышь, ты, кобелина помойная, а ну, гони по-быстрому два рубля, не то кликну Гаврилу Степаныча! Он тебе рога-то в раз обломает!
– … ха-ха-ха! Не смеши, Беспортошная… разве ночью карманы не обшарила? Нет денег, последнюю ассигнацию вчера с утра отдал за комнату с бельем, мебелью и самоваром, а последний гривенник на извозчика спалил. Гаврилой своим не козыряй, мы хоть и пленные, но люди западом просвещенные: нет больше в вашем городе квартальных, всех вымели поганой метлой, вместе с царским самодержавием, стало быть, никто тебя не защитит, по причине революции, одевайся и вали на все четыре стороны, пока пинков не надавал!
– Есть, дяденька, новая городская милиция! – горячечно воскликнула Дунька тоненьким восторженным голоском, глядя через распахнутое окно в сторону уличной калитки, будто видя за ней свое спасение и поджидая его с минуты на минуту. – И еще у меня в народной милиции Совета солдатских депутатов хо-о-ро-шенький знакомый имеется!
– С прошлой ночи считай уже два знакомых, ежели со мной посчитать… Знаешь ли ты, дурная девка, с кем связалась? Я есть коммунист и напрочь отрицаю деньги! Я есть Фриц Краузе! Как честный немецкий пролетарий-интернационалист вступил в революционную народную милицию Совета солдатских депутатов и охраняю теперь город Барнаул от бандитов-уголовников, что с каторги едут, освобожденные Временным правительством. То есть, я – полицай здесь теперь и городовой, и околоточный, и коммунист. Поняла? Мы, коммунисты, считаем, что женщина должна любить мужчину свободным волеизъявлением, так Карл Маркс сказал в своем «Манифесте». Я есть немецкий коммунист, а ты русская женщина! Люби! Бесплатно! Исполнила свой природный революционный долг? Вали на все четыре стороны, не то – пристрелю контрреволюционную гидру и в аптеке заспиртую в качестве медицинского пособия для изучения!
– Размечтался, кобелина! Последний раз по-хорошему прошу: «Деньги гони!»
– Воистину прав великий Ницше: «Если идешь к женщине, не забудь плетку!»
– Могём и плёткой обработать, дяденька! Денюжку только давай – мигом разделаю под орех в лучшем виде.
– Молчать, дешёвка двухрублёвая!
Дунькины глазки полыхнули окаянными огнями.
– Слышь, ты, недобиток пленённый, а между прочим подружка твоего разлюбезного Ницше, Саломея Лу, тоже из Петербурга была, знаешь хоть про то? И жили они втроем, поживали: Саломея, Пауль Ре и Ницше. Надо сказать, драла она их плёткой по вашим немецким праздникам весьма неделикатно, но с полным знанием дела, как заведено в борделях твоего родного Линца! А младшая сеструха Ницше, то бишь, кляйне Лизхен, называла Саломею «проклятой русской бабой, захватившей в рабство бедных немецких мальчиков». Ошибалась, однако… Саломея такая же русская, как сама Лизхен – китаянка, ибо Лу – сокращенно от Луиза. А папаша ее был истый немец, генерал русского царя, фон Саломе…
Пожалуй, никто в лагере военнопленных №161 да и во всем 82 полку не ставил философа Ницше выше, чем Фриц Краузе, который даже на фронт в окопы книжку его «Так говорил Заратустра» прихватил и читал солдатом для воспитания национального немецкого духа, наравне с книгой Людвига Вельзера «Происхождение немцев», подаренной папашей на совершеннолетие. Разумеется, в его присутствии никому не позволялось говорить плохо о Ницше. А тут при нем – немецком офицере – национального гения пачкают грязью, и кто – заштатная русская шлюха!
– Ты кто тут такая? Пошла вон, дрянь!
– Да-да, та самая чёртова Саломея, продиктовавшая учение о сверхчеловеке, в то время, как дефективный Ницше еле-еле успевал за ней записывать… Под конец не выдержал – сошел с ума от чужой премудрости и в дурдоме околел. Засим и ты определяйся: либо замуж меня берешь на всю последующую, распрекрасную жизнь, с кофе по утрам, в чине генерал-губернатора завоеванной красной Сибири, или расстанемся по-честному: два рубля на бочку и я ухожу?
Краузе сильно передёрнуло: сразу и щеку, и глаз… Кого это он по дурости привез на конспиративную квартиру, снятую под складскую базу для проведения майской общегородской диверсии? То бишь, с треском провалил задание фон Штауфе и Миллера…
Осторожный, как старый хромой лис, бывший заместитель начальника Степного края генерала Шмита полковник Миллер, который в германской иерархии поныне числился немецким гауляйтером края, долго думать не любит, прикажет на всякий случай пристрелить, труп ночью сбросят в Обь, а начальник барнаульского лагеря военнопленных номер 161 полковник фон Штауфе вымарает его имя из всех списков. Вот и нет вам австрийского военнопленного лейтенанта Фрица Краузе, и что самое противное – не было никогда. Доннер веттер! Девочку захотел с пьяных глаз! Тоже мне, девочка… клеймо ставить некуда. И вечно у нас, дойче зольдатн, из-за этих бл… ей проблемы! И у сверх-философа Фридриха Ницше и у супер-диверсанта Фрица Краузе! Как только умудрилась к нему приклеиться с этакой конопатой рожей? Тёмная история…
На днях он вернулся в Барнаул из немецких алтайских колоний, где под видом сельскохозяйственных работ его инженерное подразделение всю зиму устанавливало и запускало небольшие нефтеперегонные заводики. После бакинской юности, проведенной на нефтепромыслах, отец отправил Фрица учиться на инженера-нефтяника в Германию. Два года тот отучился в технологическом институте, затем принял собственное решение: закончил артиллерийскую школу и стал настоящим немецким зольдат. К весне шесть заводиков, доставленных через Китай с грузами от Красного Креста, заработали на полную мощь: из ворованной на станциях нефти производили бензин и керосин для автотранспорта и прочих весьма необходимых нужд.
Прибыв после такой тяжелой и грязной командировки в лагерь военнопленных, Краузе решил первым делом хорошенечко надраться, но фон Штауфе приказал ему снять в городе квартиру под склад, что довольно скоро удалось сделать, после чего Фриц отправился на сеанс синематографа. В России, конечно, сухой закон, но в городских ресторанах да буфетах электро-театров для приличных господ немецких офицеров всегда имеется и вино, и коньяк, и водка.
С большим трудом припомнилось ему, как подсел на свободное место, рядом с молоденькой симпатичной барышней, и вдруг, до начала сеанса, на сцену перед полотняным экраном выпорхнули три девицы в цветастых цыганских юбках, устроив кордебалет с забрасыванием обнаженных ног на необыкновенную высоту, от которой его германский дух захватило и бросило в самые недра адской похоти.
Сидевшая по другую сторону от юной соседки пожилая барнаульская матрона, высказав громкое возмущение, подхватила под руку дочку-мадемуазель, спешно покинула зал, а мужская часть зрительного зала, которую составляли в основном военнопленные австрийцы, громкими рукоплесканиями выразила полнейшее восхищение ножками без трусиков: бордель, настоящий венский бордель во глубине сибирской Азии!
Свет потух, закрутили фильм под музыку тапера. Вдруг Краузе ощутил толчок в бок разгоряченного танцем, сладко пахнущего податливого женского тела, тотчас бесцеремонно к нему прилипшего, которое теперь оказалось в снятой квартире, да, то самое: с пышным задом и несносно-ехидной физиономией… Напоследок память добавила, что ножки в постели, как и на сцене, задирались весьма высоко, хотя цыганской пышной многослойной юбки на них уже не было. С какой стороны ни смотри, все одно дурно выходит: нет, не он Дуньку снял, а она его!
Засада, доннер веттер! Определенно русская засада!
На место генерал-губернатора Сибири после победы германского оружия Краузе отнюдь не претендует, это было бы весьма глупо в его положении, пусть его займут хоть престарелый лиса-Миллер, хоть лощеный пузатенький полковник фон Штауфе, не расстававшийся со своим стеком, когда прогуливался по лагерю №161, и обожавший пороть им дежурную смену поваров-хохлов за истинную или мнимую недокладку мяса в суп, согласно нормам суточного потребления. Фрицу Краузе абсолютно все равно. Немецким восстанием военнопленных и будущей партизанской войной здесь, по приказу Фатерлянда, руководят те, кому положено Берлином, им и карты в руки.
Мы есть зольдатн! Честно исполняем солдатский долг перед Фатерляндом, проводя диверсии в тылу России, чтобы кровью искупить плен, ну и немножко пограбить. Дамочка наступила на больное место, давая понять, что ей многое известно. Неужто и про саму будущую Немецкую республику в центре России? Идея, которая недавно затлела в самых огнедышащих недрах германского генштаба, но всегда жила в сердцах «обрусевших» немцев, взять хоть его папахена-нациста, хоть дядю-социалиста.
Форс-мажор! Немедленно ликвидировать, не-мед-лен-но! Промедление смерти подобно! Эта база провалена, но то горе – не беда, он еще успеет выполнить задание фон Штауфе – снять другую квартиру с отдельным входом на окраине у какой-нибудь тетки Варвары. Пусть десять рублей казённых денег пропадут, возьмет из своих, так это ещё дёшево отделается!
Срочно придушить артистку-проститутку, или кто там она есть на самом деле? Так-так… а что? Определенно выход. Спихнуть в комнатное подполье, присыпать там песочком. И тихо уйти. Найдут не скоро, кто знает, что была с ним здесь? А через три дня и от домика, и от подполья мало что останется, уж он лично постарается внести адрес в план мероприятия!
– Развлечёмся напоследок! На посошок… – глянул откровенно на тонкое дамское горлышко. – Поди сюда, милая Дуняша! Два рубля последние отдаю, вот те крест!
Простушка хихикнула:
– Не два, а три!
– Три, три, конечно три… за милую душу совсем не жалко… дорогая фрейлен…
– Три мало, пятёрку гони! Разве я не хороша?
– Хороша… моя душа… приляг… немножко…
– Ах, врёшь, чертов бош, нет ведь у тебя таких денег. Ладно, чего там, сдеру с твоей квартирной хозяйки, а Фрица Краузе все равно сделаю генерал губернатором Красной Сибири… Метёт сегодня с утра!
– Чего?
– Пароль, бестолочь немецкая, тебе говорю русским языком: «Метёт сегодня с утра». Бестолковый пароль у болвана Штауфе, просрочен не по сезону. Отзыв давай!
Краузе заморгал, вспоминая:
– Завтра ожидают большой мороз!
– Во, боши, дураки отборные, была бы моя воля – заставила снять штаны и перестреляла всех из рогатки! Слухай сюда, придурок, разъясняю для умственно-отсталых: квартира эта ненадежная. Плохую квартиру снял лейтенант, раз дети есть в доме, это я, твой личный Обер-контролер от Берлина и Комиссар партии Ленина говорю. Собирайся, едем на другую, к нам, в Дунькину рощу… Будешь, милый друг, жить там… эх, у меня за пазухой… Чего вылупился? Одевайся, шнель, шнель! Ё-карный бабайка! Или решил придушить и в подполье сбросить? Не получится, мил-друг яхонтовый! Дунька и без того подпольщица с младых ногтей, знаю эти ваши штуки…. Родной мамой Соней клянусь, оженюсь на тебе в скором времени революционным браком – станешь ты мне кофе таскать по утрам в постель, будучи генерал-губернатором всея Сибирской красной губернии!
Проститутка безбоязненно громко расхохоталась, не обращая внимания на распахнутое во двор окно.
– Чего ушами хлопаешь, как ишак на муху? Я ист большевичка, твой партайгеноссе. Любительские игрушки в коммунистов окончились, аллес. Дела начинаются серьезные: Людендорф с Лениным заключили официальный договор о военно-революционном сотрудничестве на территории всей России между германским Генштабом и РСДРП (б). Не слышал? Скоро начальство объявит вам о том под секретным грифом, услышишь, что все вы становитесь бойцами местного коммунистического красного фронта. Зиг хайль – рот фронт! Это приказ Фатерлянда, иначе не мечтай попасть домой, ясно? Раз Ильич кровью расписался – стало быть, теперь вместе жестко работаем на русскую социалистическую революцию, даже когда спим в этой кровати в обнимку. Интернациональный долг, понял? Я твой большевистский комиссар, ты мой немецкий командир. Измена – смерть! Рот фронт, дойче зольдатн!
Пыхтя и потея, Краузе начал одеваться.
– Значит, тебя не Дунькой зовут? – переспросил он.
– Дурачина ты беспросветная, простофиля! – расхохоталась девица. – Дуньки детей родят, да репу в огороде растят. Дунька – моя революционная кличка, пока в Барнауле живу. Уеду – и Дунька тут же скончается от чего-нибудь скоропостижно, а какая-нибудь Парашка будет в другом месте перманентную, нескончаемую мировую революцию делать, работа у нас такая партийная. Но для тебя и всех сегодня я – Дунька Беспортошная. Понял, немец из Линца?
– Значит, теперь от партии к нам личных комиссаров приставят? Вроде тебя? Гут. Немецкому зольдатн нужен фронтовой бордель, без него никак, Дунька… – соратник по партии и революции… неожиданно… но приятно.
– Это ты новый член… моей многочисленной партии, а вообще я дочь киевского купца 1-ой гильдии Роза Кауфман, по совместительству актриса, революционерка, проститутка, коммунистка и большевичка, агент «Искры», но звать меня будешь Дунькой, по-прежнему. Эх, помню, лет этак десять назад, имела я бешеный карьерный взлет – разливала пиво на Лондонском съезде РСДРП, что проходил в нашей еврейской общественной столовой. Что за времена были расчудесные! Макс Горький ставил бочку пива каждый вечер участникам съезда, а его сожительница Манька-Феномен собственноручно делала бутерброды. Но давали мы с ней… угощенье наше исключительно большевикам. Меж нами, девочками, Манька Феномен – большая специалистка была по… бутербродам, даже Старику-Ленину понравилось с нами столоваться без Инески. Меньшевики, а Мартов тот особенно, помнится, страшно злились, когда их за дверь выставляли после заседаний, криков и споров, не солоно хлебавши, ха-ха-ха! С тех пор меж ними кошка чёрная пробежала, ссорятся постоянно, вернее сказать две кошары сразу: я да Манька-Феномен.
– Попала бы ты со своей Манькой под начало нашей полковой Железной Кобыле, небось форс скоро сошел. В прифронтовом батальонном борделе план на каждую проститутку был 50 солдат в день обслужить и десять офицеров. О, где ты, наша дорогая прусская Железная Лошадь, простая и понятная, как дорожный трактир со шнапсом, сосисками и капустой?
– Как придорожный сортир, дурья твоя башка! Ваша Лошара мне в подмётки не годится! Не сравнивай божий дар с яичницей! Спец-агент «Искры» выполняет самые ответственные задания партии, вроде скоординировать усилия по выводу трудовых масс на демонстрацию, направить на погром… винных погребов, напоить пролетариат, чтобы хрюкать начал и устроить в городе дебош, восстание, а иногда чего погорячее… Не смотри, как бык на красную тряпку… Антисемит, что ли?
– Я – ницшеанец, национал-социалист и в основе своей чистый ариец. Арийская раса превыше всех, находится на вершине человеческих рас, и уж на тебе Дунька я не женюсь ни в коем случае, будь ты хоть славянкой, хоть семиткой, это в принципе исключено. Можешь даже не надеяться, тут и кофе в постель не поможет.
– Это еще почему не поможет? Очень даже поможет.
– Славяне перемешались с турками, русские с татарами, монголами и мордвой, евреи вообще со всем миром. Нет, у семитов были достижения в прошлом: создание единобожия, но теперь они в самом низу лестницы народов. Нечистые народы не могут осознать себя великой нацией, не могут создать своего государства, и пример с евреями в этом отношении особо назидателен, а российскую империю создали норманны, то бишь мы, германцы. Фридрих Шлегель нашел в индийских сказаниях упоминание о далеких северных землях, север для индийцев – сакральная часть света. Изучая индийский язык и философию, Шлегель предложил термин «арии» – непобедимые завоеватели, спустившиеся с Гималаев, дабы колонизировать и цивилизовать Европу. Об арийцах говорил еще Геродот, но Шлегель усилил корень «ари», который он провозгласил родственным со немецким словом «Ehre», что значит «честь». Отсюда возникает в мировой философии представление об аристократической расе господ, на деле управляющих миром и строящих в нем свою высшую цивилизацию! Уже сто лет назад во французских ученых кругах времен Наполеона говорили о «длительной борьбе между семитскими и индогерманскими мирами». Граф де Гобино, друг Вагнера, в своем «Опыте о неравенстве человеческих рас» писал, что нордическая арийская раса находится на высшей ступени лестницы народов, потому что она и только она обладает культурно-творческим потенциалом. Именно неравенство рас есть основополагающий принцип развития человеческого общества.
– М-да? А мы, марксисты, считаем основным двигателем истории классовую борьбу… И что? Кто прав? Только практика построения нового общества даст ответ! Кто кого победит? Коммунисты или национал-социалисты?
– Вот что я тебе скажу, Дунька: из опыта истории прекрасно видно, что расовое смешение приводит к вырождению цивилизации. Это видно на примере Римской империи, Египта и всех прочих древних империй.
– Ну да, конечно, римляне стали набирать в свои легионы диких пьяниц германцев, те приучили пить всех неразбавленное вино, империя спилась и развалилась. Как я ненавижу эту доморощенную немецкую философию, где теории строят из любого волдыря, вскочившего у них на носу, или где похуже!
– Дуньке просто завидно. Хьюстон Чемберлен говорил верно, что в настоящее время эти две силы – евреи и арийцы остаются друг против друга, как вечные противники. Ничто не является более убедительным, чем самосознание нации. Человек, принадлежащий чистой нации, никогда не потеряет этого чувства. Раса поднимает человека над собой, наделяет его необычайной, почти сверхъестественной энергией. И еще он говорил, заметь, не вполне чистый ариец, что ариец есть созидатель и носитель культуры, еврей же – негативная расовая сила, паразит на теле цивилизации, ее раковая опухоль.
– А я могу привести другие еще более убедительные исторические примеры: еврей Карл Маркс, сын прусского адвоката, выдающийся мыслитель, издатель и политический деятель не только Европы, но и всего мира, был женат на прусской аристократке, баронессе Женни фон Вестфаллен, ее брат Фердинанд фон Вестфаллен был министром внутренних дел Пруссии. Далее, лучший друг Карла Маркса – Фридрих Энгельс – крупнейший немецкий философ. И таких примеров яркого взаимодействия, как ты их называешь рас, смогу привести тебе массу…
– Они лишь исключения из правила, которые еще сильнее его подтверждают. К тому же Маркс всю жизнь тянул деньги из Энгельса на пропитание собственной семьи. Это ли не паразитизм?
– Нет, это содружество двух мыслителей, один из которых написал теорию создания капитала в современном мире, а другой осуществил это создание на практике. Вот и вся разница. Главное у них – связующая нить: и тот и другой ненавидели всем своим существом славянский базар и создали инструмент его разложения: коммунистическую теорию диктатуры пролетариата. Более того, они создали Интернационал, за которым будущее всей Европы и мира. Партия большевиков и пленные немцы в России тоже ведь объединяются на время: будем дружить и вести совместную борьбу, пока не уничтожим государство русских – Россию. А уничтожив, будем строить на этом месте свои государства: вы немецкое, мы еврейское, не переживай, места много, на всех хватит.
– И где вы вознамерились строиться? Не в Крыму ли? Запомни, там издревле жили германские племена вестготов. Поэтому Крым – наш!
– Дорогой комрад Фриц… вот давай не будем делить шкуру неубитого пока русского медведя! Вбей себе в башку главное на сегодняшний день: ты коммунист, иностранный член РСДРП-бэ, член военного отряда партии. Эх-ма! В столицах империи работать намного проще было в пятом году, чем здесь и сейчас. Наши партийные бонзы совершенно не понимают, в чем отличие Барнаула от Питера. Здесь даже в самый солнечный Первомай мещанские массы будут копать свои огороды, никто не сидит в кабаках, не ездит на пикники-маевки с выпивоном, и стало быть, некого звать на баррикады. Придумали дурацкую поговорку: весенний день год кормит! В этом году мы им даже 1 мая перенесли на 18 апреля, чтобы по европейскому стилю взбунтоваться, заодно, так сказать, со всей Европой, все равно не помогло. Не идут, собаки паршивые. С начала войны бордели городские прикрыли, ну разве не сволочи? Бардак полный, азиа-с, Барнаул-с, как работать, с кем? Непонятно. Одно остается, – вздохнула печально, – выжечь сию азиатскую заразу до основания. Чего мух ртом ловишь, черт плешивый, по своей Железной Кобылке соскучился? Поскакать хочешь? Скоро поскачешь, давай, давай по-быстрому в свой австрийский мундир влезай…
– И все-таки пример с Марксом неудачный, назови хоть один случай, где был бы плодотворный союз жены-еврейки и немца-мужа, приведший его к вершине власти.
– Проще некуда. Премьер-министр Российской империи Сергей Витте – он немец из курляндского дворянства, в молодости изучал сельское хозяйство в Пруссии, жена Матильда Исааковна Нурок – еврейка, принявшая православие. Поженились в 1891 году, а уже в 1892 году Витте стал министром финансов, на посту продержался 11 лет, после чего, в 1903 занял пост Председателя Комитета министров, достаточно?
– Это тот самый идиот, что устроил в свой медовый месяц России авантюру со строительством Китайско-Восточной железной дороги? Полагая, что дорога будет способствовать «мирному захвату» Манчжурии? А в результате получили боксерское восстание крестьян, выступавших против захвата их земель под дорогу, и войну с Японией, которую Россия проиграла вчистую? И после, на мирных переговорах в Портсмуте с японцами хотел отдать им весь Сахалин целиком, а царь ему не разрешил?
– Да, тот самый немец-идиот! Но все равно отдал – половину Сахалина. И расписал это лично своим величайшим достижением. За что идиот Николашка произвел его в графское достоинство, а шутники впоследствии называли Витте не иначе, как «графом Полусахалинским». Однако заметь, вся эта сверхудачная для Витте карьера выстроена была при Матильде и Матильдой, представь, сколько ею затрачено сил для проталкивания идиота наверх!
– Да, да, несомненно, много чего она выдумывала! Я читал, помню, французский посол в России, совсем недавно, в 1915 году, так высказал соболезнование Николаю Второму на смерть Витте: «большой очаг интриг погас вместе с ним», а Николай согласился и добавил: «Смерть графа Витте была для меня глубоким облегчением». Кстати, забыл спросить о главном: дети у графа Витте были?
– У Матильды дочь от предыдущего брака, он ее воспитывал, у Витте своих детей не было.
– И это ты называешь удачным союзом? Да она его просто использовала. И все. Запомни раз и навсегда, дура Беспортошная: арийцы – есть высшая чистая раса, у нас могут быть успешными исключительно свои, национальные браки, дающие полноценное арийское потомство. Дуньки-Розы тут совершенно ни причем.
Краузе зевнул притворно широко-широко… как вдруг проворной молнией Дунька взлетела на него сверху, сунув в распахнутую зубастую пасть пузатенький дамский револьвер-бульдог:
– Размечтался придушить меня, мразь, арийская морда? И в подпол скинуть? Запомни, дерьмовый недоносок, я все мыслишки твои сразу читаю по глазам, и тебя, антисемит паршивый насквозь вижу, и если еще раз когда подобная идея мелькнет в этой тупой башке, разнесу котелок в ту же секунду в дребезги! Понял? Моргни, если понял!
Дуло бульдога рассекло нёбо, ушло в глотку вызвав рвотный рефлекс. Краузе не столько видел, сколь чувствовал, как бледнеет палец психованной Дуньки на спусковом крючке, судорожно пробуя сжаться… вот сейчас, сей секунд мозги брызнут на подушку… только дёрнись. Рот запенился кровавыми пузырями: найн, найн, найн!
Старательно моргнул обоими глазами и раз, и два, и пять.
Дамочка не сразу, с видимой неохотой извлекла ствол из кавалера, тщательно отёрла кровь о наволочку.
«Психичка, при первом же удобном случае пристрелю», – мстительно решил про себя Краузе.
– Это мое тебе первое и последнее предупреждение, другого не будет. Никогда. Помянешь только Кобылу свою старую – сразу свинец в глаз. Жизнь в Линце – тоже. До меня ничего не было! А впереди у нас – светлое совместное коммунистическое будущее! Ты – зольдат. Тебе твой Генштаб приказывает со мной дружить. Выполнять команду! Понял? Я девушка из интеллигентной семьи, но рот, падва, держи на замке! И всегда меня слушай, твоего комиссара, и всегда бойся: и днем, и ночью, и зимой, и летом: я ценю, но не прощаю. На фон Штауфе с Миллером не надейся, они мятый пар, и очень скоро уйдут со сцены. Партии нужны свежие силы, такие как ты. На вашем собрании Штауфе с Контролером от Берлина утвердят тебя руководителем горячей акции, учти, сделают они это потому, что я лично за тебя поручусь. Оправдаешь доверие – будешь командовать красным полком, дивизией, со временем красным генералом заделаешься. Ты, а не старорежимный полковник фон Штауфе из обрусевших, тот давно о пенсии и жизни в Берлине мечтает, туда ему и дорога! Не справишься – пеняй на себя. Отныне и навсегда я твой комиссар, ну вроде как приставленный ствол к гландам. Со мной сможешь до маршальских верхов подняться! Я всегда рядом и всё вижу. От первого же сомнения умрешь. Понял? Одевайся, товарищ! Шнель, ляха муха!
«Нет, не пристрелю – вздёрну на первом попавшемся суку», – Фриц вперил бессмысленный взор в пол, и настроение его от этой мысли значительно улучшилось. Он с выпестованном в себе германским педантизмом всегда доводил принятое решение до исполнения.
– Уходим? Хозяйку предупреждать не будем?
– Во дурак! А десять рублей, что отдал за месяц вперед? И всего одну ночку пожил? Роза Кауфман себя уважать перестанет, когда не сдерёт с русской бабы все до последней копейки!
– Ясно, товарищ Дунька!
– Нравишься ты мне все больше и больше, и слово «товарищ» тоже, оно содержит в своем внутреннем смысле наш с тобой, немчура, союз. Общеевропейский многообещающий союз, ибо корень его ВААР – означает «товар» на старонемецком языке, а ТОВ – по-еврейски означает «хороший». Немецкие торгаши-евреи, осваивая Польшу с Малороссией, данное сочетание употребляли в качестве рекламы, ибо для них – всякий товар хорош, когда его кому-нибудь втюхивают. Мы с тобой будем втюхивать местным идиотам коммунистическую идею: ТОВАР-ДЕНЬГИ. Эх-ма! За нее первым делом Государственный банк к рукам приберем с золотым запасом России, а там посмотрим, как дело пойдет. Понял, тов-ваар-ищ, какая нас впереди судьба героическая ожидает? Устроим гражданскую войну на Руси святой с парой-другой миллионов трупов для всеобщего и полного устрашения, оккупируем, колонизируем, да как забогатеем в наших любимых Европах с Америками!
Она выглянула в окошко: мимо проходил мальчуган лет семи, тащивший на плече большую не по росту штыковую лопату.
– Аллё, поца, конфетку хочешь?
Мальчик увидел в окне бабушкиной комнатки раздетую до гола неизвестную женщину, разинул рот от изумления.
– Чего, поц, уставился? Не знаешь разве, что нехорошо за взрослыми подглядывать… Али хочешь чего? В школе церковно-приходской, небось, не учат вас этому, балбесов? Ничего, приходи в театральную коммуну на Волчьей Гриве, али в Народный наш дом, имени Штильке, я тебя, поца, мигом всему обучу! Оглянуться не успеешь как без штанов оставлю!
– Что такое, поца? – поинтересовался Краузе. – Не слышал такого слова. Марксистский термин?
Роза весело расхохоталась:
– В книжечке своей партийной со словарным русским запасом запиши: «поца» происходит от слова «поц»! Это мужской половой член по-нашему. Я местную малышню исключительно поцами обзываю, ввожу в новый коммунистический обиход такое самоназвание для малышни, пусть привыкают. Надо, чтобы эти идиоты сами друг друга стали поцами звать! Слабовато покуда приживаются… надобно приспособить, русифицировать… Слышь, товарищ Краузе, как лучше для уха русского будет: «пацак» или пацан?
– Пацан… для моего немецкого уха… пацак рифмуется с ишак.
– Ха, другого уха рядом нет, ладно поца, отныне будешь моим фрайером – пацаном, ландскнехтом Красной гвардии! Я тебя быстро обучу по нашей партийной фене ботать. У, харя твоя залетная! Нос-то тебе в каком борделе починили?
– Мама, мама, у нас дома тетка голая!
Глава 3
Военнопленный лейтенант Краузе не зря опасался сурового характера квартирной хозяйки Анны Степановны Киселевой, имевшей при разговоре о найме жилья вид насупленный и недовольный: вот будто не меблированную комнатку с отдельным входом, сменным бельем, кладовкой, керогазом и самоваром бабуля сдает, а целый город неприятелю оставляет под давлением тяжелейших фронтовых обстоятельств. Старушка Киселева – так звали ее на квартале соседи – жизнь и людей познала достаточно, нравом обладала решительным, и нутром чуя подвох в австрияке, уже получив деньги, разглядывала их подозрительно, будто чуя фальшивки, мяла в ладони, при том по-прежнему хмуровато зыркая из-под седых бровок на квартиранта, ни капли не смягчаясь от ломаного языка, коим Фриц хотел распотешить хозяйку. Отдельный вход в помещение и отдельный въезд во двор с высоким забором очень его привлек в сём домике.
Но и бабушке Киселевой деньги нужны – край, сильно поистратились за зиму, к тому же сена корове не хватило – пришлось в марте докупать возок, тем самым израсходовав накопленные три рубля – будущую майскую оплату пастуху на выпас коровы, потому Зорька и стоит пока в стайке, хотя пастух уже гоняет местное стадо на зазеленевшие пойменные луга Пивоварки. Зорька мычит, высунув голову в маленькое окошко из стойла, когда свежий весенний ветерок приносит с речки запах молодой зелени, жалуется.
А тут еще солдатское пособие за март месяц не выплатили. После февральского переворота, когда то ли царь сам от власти отрекся, или генералы собственные отрекли, только народ в Барнауле от радости с ума начал сходить: вполне солидные граждане носились мальчишками по улицам, шапки в воздух кидали, на всех перекрестках вроде сами собой возникали стихийные митинги, на которых местную власть организовали. Ново-базарную площадь срочно в площадь Свободы переименовали, учредили на ней Народный университет строить, а вот пособие солдаткам за март почему-то не выдали – вроде как ревизия в Петрограде случилась, ибо второпях учрежденное Временное правительство решило проверить, насколько сильно русский царь перед ними проворовался. А при царе-то государе, худо-бедно, по четыре рубля паёк российской солдатке за мужа-солдата шел ежемесячно, и по два рубля полагалось на ребенка. На каждого члена семьи демобилизованного, включая отца, мать, жену, детей полагалось в натуральном выражении муки – 1 пуд 28 фунтов, крупы – 10 фунтов, соли 4 фунта, постного масла – 1 фунт. На детей до пяти лет пособие выплачивалось в половинном размере. Итого их семейство в денежном выражении получало десять рублей в месяц. На Анну Степановну пособие не распространялось, потому как не матерью она солдату доводилась, а всего лишь тещей.
Немного для месячного семейного пропитания в городе Барнауле, гораздо меньше, чем хороший пимокат в мирное время своим трудом зарабатывал, но с огородом, коровой, курами да поросятами на еду хватало, слава богу, за три года войны ни разу не голодали. А вот как царя революционеры из Госдумы скинули, то свободы партий, политики, выборов депутатов разных мастей стало хоть отбавляй, опять же полицейских всех на фронт отправили, и потому хулиганов с воришками кругом вмиг расплодилось как мышей по осени, а денег на солдатские семьи почему-то не стало. И на школы тоже. Вроде и не совсем отказали в пособии, сказали подождать немного, пока де с финансами разберутся: что да как… Из городской казны местные депутаты сгоряча решили было выплачивать солдаткам, но городские деньги оказались настоль мизерными, что скоро окончились, и даже школы пришлось с апреля закрывать – нет денег на содержание. Март прошел, в апреле та же история – не платят солдаткам, дочь Анны Степановны Татьяна каждый день ходит стоять в большой очереди, не смотря на то, что на дверях управы постоянно висит табличка, извещающая, что нет денег. Даже на ночь не снимают. А народ все равно надеется: вдруг сегодня деньги пришлют?
Сколько предстоит трат дальше – подумать страшно, главная – собрать Андрейку в школу к осени, сапожки купить, пальто пошить, букварь с тетрадками, рубашку и штаны новые справить. Да и у Кости рубаха изветшала, штаны в заплатах – после старшего донашивает, на внучатах все как горит, потому плата десять рублей за комнату с отдельным входом и керогазом – очень хорошая подмога семейству, заменяющая пособие. Многие бы соседи согласились пустить даже и немца военнопленного за такие деньги, сдала и старушка Киселева свою комнату, перейдя жить на другую половину к дочери и внукам, на время, пока зять воюет на фронте с этими проклятыми германцами-австрийцами, в плену развеселыми дуралеями, заполонившими ныне Барнаул и все сибирские города говорливыми вороватыми толпами.
А сама всю прошлую ночь напролет глаз не сомкнула – думала правильно ли поступила, и со всех сторон выходило одно и тоже – нет, неправильно.
Нехорошо-то как, не по-людски получилось: зять на германском фронте кровь проливает, а теща, будь она неладна, на вражьи деньги польстилась, которые на содержание военнопленных то же самое Временное правительство выплачивает по военному ведомству своевременно, в отличие от солдатских семей. На германца в плену столько же выделяют средств, сколько на русского солдата на фронте, а сколько на офицера платят, коли им позволено частные квартиры снимать в городе и свободно по трактирам да ресторанам расхаживать, пить – гулять, песни немецкие по улицам орать среди ночи? Квартальных надзирателей не стало – совсем порядка в городе нет. Одни комитеты кругом, комиссары, да митинги непрестанные гудят, словно пчелиные семьи делятся и роятся.
Для семейства Анны Степановны край, как деньги нынче потребны… Самое время корову в стадо на выпаса отпустить, мычит Зорька в стайке, на луга просится. Поросенка на лето надобно прикупить на вырост, а лучше двух, чтобы зимой мясо было, а на какие, позвольте спросить, деньги? Только квартирантские, получается, выручат, других нет.
Шептала старушка Киселева втихомолку, не вставая, дабы не обеспокоить дочь и внуков, успокоительные молитвы:
«Господи, помоги – дом спаси и сохрани, от злых людей защити и огради. Пусть на моем пороге у ослушников Божьих отнимутся руки и ноги. Аминь. Аминь. Аминь».
Поднялась, как всегда, ни свет ни заря – завести блинную опару, когда еще яркий месяц висел на небе, в руку шепнула давнюю поговорку своей матушки:
Месяц, ты, месяц,
Золотые твои рожки,
Взгляни в окошко,
Подуй на опару.
Сделалось от работы ей немного легче. Оставив тесто доходить, отправилась сенца подбросить кормилице, напоить да подоить, и все шептала в темноту: «Копна, копна, полевая душина, береги душу от воровства, от поеда зайца, от молнии шальной, огневицы полевой, от скотины вольной, от пяти мужиков: старых, седых, крепких и молодых, от баб вороватых, от гуляк сохатых. Полевик, полевик, мой стог невелик. Встань задком, сбереги ладком. Тут ему стоять, тут хозяина ждать. Загребаю, загребаю, закрываю, закрываю на семь ключей, заговорных речей».
Когда села доить, по привычке сказывала вслух: «Как стоит святой собор, святая церковь, не шелохнется, крепко-накрепко, место по месту, камень на земле, так и ты, моя корова, стой о четырех ногах плотно-наплотно, крепко-накрепко. ножками чтобы не лягнула, головушкой не мотнула, рожками не боднула. Стояла бы ты сильной горой, доилась бы быстрой рекой. Отныне довеку будьте мои слова крепки и лепки, несокрушимы, неперечены».
Разделалась с парным молоком, пошла проведала курочек-несушек, собрала яички, потом только в огород заглянула, когда небо на восточном горизонте окрасилось слабым светом, с реки Барнаулки в спину задул ветерок и наступило свежее молодое весеннее безоблачное утро, обещавшее жаркий день.
«Дай, Бог, нам всего впрок. Возделываем землю руками, чтобы отблагодарила нас вкусными плодами! Расти землица, не плошай, пусть будет хороший урожай. Роди кормилица наша, роди больше, да роди лучше, да роди полезное. Пусть все, что родишь, к свету тянется, да растет скоро и крепко, нас радует и кормит. И ни мошка, ни тля, ни жуки, ни кроты, ни мля, никто помехой не станет урожаю нашему!»
По хорошей погоде лук-батун на грядках быстро шел в рост, ровненько на двух длинных грядках зеленея, уже можно дергать, да вязать пучки на продажу. Лука с укропом у бабушки Киселевой насажено много, это ведь первая зелень по весне с огорода, и в суп идет, и в квас с редькой, и просто на черный хлеб с солью, с лучком ребятишки в охотку едят. Чеснок подзимний тоже куда как хорошо взошел, зеленым лужком поднялся: «Язык режет, зато от болезней защищает и вкус пище придает, у нас в огороде густо растет. Кто слезы льет по луку, а кто по урожаю потерянному, а у нас в огороде лук растет всем на благо. Пойду в луга, где лук, возьму его силы на мои грядки. Слову моему быть, а луку моему не гнить. Господу поклонюсь, Господу помолюсь. Дай, Господи, урожая большого, чтобы лук рос, разрастался крупен и хорош был всем на удивленье. Мать святая луна, ты высока и сильна, сидишь высоко, видна ты далеко, светишь ты широко. Так бы необъятен и силен был урожай».
И самим тогда хватит и первую копейку какую-никакую по весне заработать можно, пока другого ничего нет. Нарвать сегодня большую сумку да снести на базар, но сперва приготовить, напечь блинчиков поболе…
«Сорняк от меня убегал, по тропам плутал, за ним я гналась, извести его клялась, так сорняк я поймала, клятву исполняла, я его извела, из огорода прогнала. Именно».
Скоро Анна Степановна пекла блины в сенцах на двух керогазах сразу, смазывая их растопленным сливочным маслом и укладывая высокой горкой в большую миску радостно и как всегда споро. Когда в ограде закричал Андрюшка, в голове блеснула молнией мысль, тревожившая всю ночь: «Ах, ты, боже мой, ясно дело немец кого-то привел, а еще слово супостат давал, вот точно супостатом оказался, как сердце предсказывало…»
Дочь Анны Степановны Татьяна тоже поднялась ни свет ни заря, в надежде до ежедневного похода в казначейство за пособием, успеть подготовить парники для помидорной рассады, а первым делом выставить внутренние зимние оконные рамы, чтобы накрыть ими парники. Рамы большущие, тяжелые и со стеклом надо быть осторожнее, работа эта прежде была не женская, потому мальчиков тоже подняла рано – помогать. Лишь меньшая трехлетняя Клава осталась почивать в своей кроватке.
«Рука Твоя, Господи, надежная, Заступи и укрой детей моих Андрея, Костю и Клавушку, – шептала солдатка Татьяна, с большим трудом вынимая набухшую за зиму от влаги тяжеленную раму из окна, – сохрани их, Господи, по Твоей воле, Укрась, Господи, их долголетием и многомудростью. Всякое зло отводи от них. Ангел-хранитель да пребудет с ними всегда и всюду. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.»
Работа с молитвой за деток подавалась ей всегда легче.
В огороде, однако, предстояло самое тяжелое дело: для новых парников землю следовало выбрать в глубину на два лопатных штыка, вниз заложить слой свежего навоза, поверху добавить перегноя с песком, пролить хорошенько парник крутым кипятком, закрыть сверху рамами, еще старыми половиками, чтобы парник за сутки прогрелся и навоз внизу «загорелся».
Через день можно будет высаживать в теплые влажные парники помидорную рассаду сорта «микадо», появившегося в Барнауле перед началом войны и дававшего урожай огромных розовато-красных плодов по фунту веса каждый. Андрейка с Костиком, как могли, старались: совместными усилиями перетащили шесть рам в огород, вынесли туда же ящики с рассадой, чтобы растения привыкали к свежему воздуху и солнышку. За месяц жизни на подоконниках те излишне вытянулись вверх. Андрейка пошел за лопатой…
Глядя на зеленые, ломкие ростки, Татьяна принялась вспоминать наговоры матери: «Иди, помидор из моего подола на грядку, расти, помидор для моего достатка. Дождем обмывайся, ветром обтирайся, в высоту и ширину разрастайся… Из одной миски один хлебай, здоровей расти, будь красен, будь вкусен, будь велик. Нет числа и счета верующему люду, ударам колокола церковного, муравьям в лесу, так бы не было счету помидорам на моих грядках. Вена алая, кровь красная, расти, ягода, сочная прекрасная. От солнца напитайся, от луны надувайся».
– Чего это, мама, шепчешь? – полюбопытствовал Костя.
– Вспоминаю наговор на помидоры. Вот когда будем высаживать в парник, а потом в грунт, троекратно повторю. Бабушке на базаре рассказали, как делать это надо – при посадке для хорошего урожая помидоров сначала пекут пару куриных яиц, кладут их в середину самого большого ящика с рассадой и выносят на огород. Сажают помидоры по одному растению, приговаривая: «Из одной миски один хлебай, здоровей расти, будь красен, будь вкусен, будь велик». Закончив высадку рассады и полив ее, следует съесть принесенные яйца, не уходя из огорода, скорлупу взять с собой, занести в дом и на трое суток положить на то место, где стояли ящики с рассадой. Затем мелко истолочь и посыпать на крайнюю грядку со словами: «Хорошо рассаду в землю спать положила, белым одеялом ее накрыла, хорошо уродится, сыты будем».
– Двух яиц нам всем маловато будет, – прикинул на глазок младший сын, – нас же трое работает, значит надо три яйца. Да еще Клавка своей доли потребует…
Заслышав крик Андрейки, Татьяна поспешила во двор, однако Анна Степановна успела к месту событий вперед дочери.
Одетый по форме, в застегнутом на все пуговицы австрийском мундире, Краузе небрежно отодвинул обнаженную фрейлен от окна, перегнулся через подоконник.
– Гутен морген, фрау!
– Вот что, любезный квартирант, мы вчера с тобой разве не договорились, чтобы никаких ночных мадам здесь не было? Договорились! А теперь, что получается? Голая проститутка у тебя в окно задницей перед малыми детьми вертит…
Краузе гордо выгнул красную жилистую шею.
– Дорогая фрау! Найн, найн! Я есть достопочтенный… достопочтимый квартирант. Я отшень люблю русский народ, и на фронте каждый божий день братался с русскими зольдатн, потому это очень карош народ, добрый, христианский люди есть. Вы тоже христианка, фрау, поэтому мы есть братья и сестры во Христе. Я вас хочу просить, очень просить. Не могли бы вы утром тоже говорить мне: «Гутен морген, герр лейтенант!», я привык к такому обращению, и тогда бы чувствовал себя, совсем как на родине в австрийском городе Линце. Мы все есть христиане, значит должны любить друг друга и обязательно уважать… всесторонне…
Татьяна вступила в разговор без предисловий:
– Здесь, слава богу, вам не Австрия, сударь, а русский город Барнаул, потому люди друг с другом по-русски здороваются. К тому же вы для нас человек чужой, еще недавно убивавший наших братьев на войне, может и в мужа моего Георгия Ивановича стреляли… На фронте вас в плен взяли, из христианской милости жизнь сохранили. Того – достаточно. Но, думаю, такой пленный, как вы, должен под лучшей охраной состоять, чтобы вреда какого не учинили. Зачем, мама, вы постояльца австрийского пустили на квартиру? Разве не говорила вам, что нельзя врага в дом пускать?
– Польстилась на десять рублей, прости господи старую, пальто, сапожки на осень надо Андрейке в школу? Одежду приличную необходимо справить, опять же за выпаса три рубля срочно требуется… Виновата, конечно… угораздило меня на старости лет… промашку дала старая…
В окно просунулись рыжие кудряшки мадам.
– В лаптях пусть ваш поца шлёндает, фуфайку какую накинет и навоз из-под коровы чистит, судьба у него такая, не хрен в школе штаны по лавкам зря протирать…
Краузе ушипнул ее за бок, мадам взвизгнула и мигом убралась.
– Нет, фрау, немецкий официр – всегда официр, извольте знать, или ваше благородие по-русски. Яволь! Извольте называть меня: «Ваше благородие, герр официр». Так вся Европа нам говорит! По-русски это много хуже звучит, но ничего, ничего… Мы, европейцы, привыкли в русском плену терпеть многое, отшень многое. Хотя терпение – национальная черта русских, но во имя дружбы-фройндшафт мы тоже согласны немношко потерпеть… Но не столько, как сейчас! Вы не смейт мне нит-чего заявляйт! Я платил десять рубель вперед!
– Нынче всех благородий отменили, голубчик. Революция на дворе… А кто там с вами? Тоже, небось, благородие? Кого в дом привели, а теперь по наглым мордам хлещете?
– Ах, да, революция случилась… Тогда зовите совсем просто, по-нашему, рабочему: тов-вар-исч Фриц. Я есть немецкий социал-демократ, недавно вступил в партию русских коммунистов – большевиков, состою в народной милиции комрада Сулима по охране городского порядка, у меня билет есть! Я из Совета зольдатн депутатов! А вы не зналь? Руссиш зольдатн и немецкий зольдатн – товар-исчи и братья, русский рабочий и немецкий пролетариат отныне рук об рук будут бить русский буржуй, официрен, купец и кулак-держиморда.
– Мещан тоже будем бить, – выкрикнула сзади Дунька, – а кулаков-мироедов, тех всех на смерть забьем во имя социалистической революции и счастья народного!
– Не надо здесь никого бить, господин хороший, большая просьба будет – сказать вашей барышне немедленно удалиться. Мы договаривались, что женщин водить не будете. Лети, бабочка ночная, одевайся и лети куда подальше отсюда!
– Я девушка молодая-красивая, зовут Дуняша. Я товарищ Фрица по партии, мы вместе работаем на дело освобождения рабочего класса…
– Сомнительно мне, что из рабочих будете…
– Происхождения, конечно, благородного, и что с того? Вождь мирового пролетариата товарищ Ленин из дворян, и что? По собственной воле я ушла из семьи на улицу гола-боса и жизнь посвятила делу освобождения рабочего класса… коммунистка, стало быть, с младых ногтей! Мне, может, надеть нечего, потому и хожу голая с утра, а ты, баба – мещанка. Писатель Горький вас, мещан, уличил и показал всему миру, и Европе, и Америке, в своих пьесах, весь ваш ничтожный, узкий, бесчеловечный мирок вывернул наружу. Кровососы вы бессовестные на народном теле! На моем – тоже! Кровь нашу бедняцкую пьете, проклятущие мещанские морды! Гения Горького не знаете? Темнота! Да и откуда знать? Книжки, небось, ни разу в жизни не открыли, одну библию только и чтят! Уткнутся в свои псалмы – и ну выть! Объясняю просто, как для клинических идиотов: мещане – душевные перерожденцы человечества, живущие без высоких идеалов, в сути своей мелкие, ничтожные, дрянные людишки, и в России вас преобладающее большинство: темных, диких, необразованных мракобесов… О, эта темная, дикая Россия, дикие крестьяне… вы то есть, не понимаете, что есть борьба за высшие идеалы, которой мы с Фрицом посвятили свои жизни целиком и полностью без остатка! Вам даже в голову не придет бороться за светлое будущее, к примеру, выйти на первомайскую демонстрацию! Вы хоть раз участвовали в демонстрации? Драли вас казаки нагайками? Нет!!! В то время как мы, лучшие из лучших, сгораем без остатка за народное счастье в революционной борьбе, ведь лучше погибнуть, чем медленно, как вы, тлеть многие года вонючим мерзким лапотным дымом…
– Простыню, случаем, не прожгли своими папиросками, что везде набросали? А мещане, сударыня, – это сословие городское российское, и нечего на сограждан, у которых дом имеется и дело собственное честное, напраслину возводить. Значит так, сударь немецкий военнопленный, слушай меня и прими к сведению: у нас здесь семейная фамильная усадьба, и проституток водить никому непозволительно, о чем предупреждалось заранее. Если не хотите понимать русского языка, попрошу не медля собрать вещички и покинуть нас навсегда.
Фриц вскричал возмущенно:
– Что за чушь вы несёйт! У местных жит-тель нет понят-тия о современной цивилизации. Весь цивилизованный мир понимает, что мужчине на ночь требуется женщина. Наши немецкие учёные давным-давно доказали это совершенно научно! А вы… дос-сих пор пребываете в ужасающем неведении. В ужасающем! Вот! Да! Что за темные предрассудки, фрау, почему у вас, русских, всегда такое мракобесие в ваших тупых головах? Дома терпимости существовали в просвещенной Европе веками! В России их совсем недавно ввели, и то под давлением цивилизованного мира, какие-то русские люди совсем нетерпимые к правам благородной личности! И вот снова закрыли! Действительно, вы здесь все поголовно мещане, как это по-русски будет… узколобые, которых срочно требуется цивилизовать. Комрад Дунька права – вы нам совсем не товарисч, с вами, мещанами да крестьянами, нужно разбираться особо, с вами нужно еще отшень много работать, перевоспитывать, исправлять немношко, немношко кормить как этто… березовой кашей! Ха-ха-х-ааа! И я разъясняю, это есть мой долг коммуниста-интернационалиста. Но у меня есть большие сомнения, а нужно ли долго разъяснять? Может сразу кашей? А?
Обернувшись к своей мадам Дуньке, пояснил:
– У некоторых человекообразных животных мыслительный аппарат напрочь отсутствует. Наш немецкий гроссе-ученый доктор Шмидт прав – славяне есть промежуточный этап развития хомо сапиенс. Боковая тупиковая ветвь на древе человечества. Я вам сочувствую, фрау-мещанка, но если вы катастрофически не понимайт своей денежной выгоды от майн здесь присутствия, то я умывайт руки. Да-с!
– Лицо не забудь ополоснуть и причешись хоть немного. Андрейка, сбегай, принеси квартиранту его деньги из коробочки. Собирайте вещи, граждане, и прощевайте вместе со своей мадам, ищите другое место для проживания. Дай бог не увидимся боле! А в приличный дом водить женщин нескромного поведения у нас непозволительно!
Роза раскраснелась от бешенства.
– Что значит нескромного? Слушай сюда, чертова баба! Я, бля, свободная женщина революции, а это мой поц, пацан короче, бля, да я привлеку тебя к нашему революционному суду за оскорбление! Ты у меня в тюрьме вонючей сгниешь! Революционной! Фриц, эта дура обозвала меня, твоего товарища по партии нескромной женщиной, бля, проституткой! Чертова неблагодарная мещанка! И за них мы идем на баррикады, за это поганое быдло на эшафот, за этих идиотов гибнем в царских застенках, на них тратим лучшие годы жизни! Обалдеть! Пороть их, пороть надо с утра до вечера! И в кандалы! И на плантацию! В коммуну! И с утра до вечера кормить березовой кашей! До отвала!
– Та-та-та, майн либен, я забирай свой вещь. Немедленно отдавай деньги, злой старух, пусть твои внуки бегают всегда бос-гол. Вот! О, майн гот! Придется возвращаться в лагерь, жить с вонючим румын-хохол в одном бараке, черт возьми, я буду жаловаться в Красный крест! В немецкий Красный крест, самой баронессе фон Гольц! Права военнопленных должны быть защищены на высшем европейском уровне. Мы так не договаривались ходить в плен, чтобы русский старух гнал нас вон из дома! Я буду жаловаться полковнику фон Штауфе!
– Извольте ваши деньги!
Однако протянутые бумажки выхватила Роза:
– Это мне причитается!
– А совести у тебя, дрянь продажная, ни на грош!
– Майн либен, с кем ты лясы точишь? С мещанским отребьем! Барн-аул, азиа-с! Послушай, эта старая стерва лишила нас крыши над головой! Выгнала на улицу, на жар-холод! Обозвала меня, стойкого борца за народное счастье, всеобще любимую народную артистку, дрянью! Видано ли такое? Ни минуты более здесь не останусь! Всё, ухожу! Да пропадите вы пропадом, чертовы бабы!
– Да, майн фройлен, такой прощать нельзя. Не будь я дойче официр и кавалер Железного креста. Мы вас покидайт! Так, оплату забраль в зад, вещи забраль, вот так бывает. Сегодня я лишился жилья, а завтра и ты, хозяйка, или как это, мещанка, о этот шипящий славянский язык, почти польский, и ты мещанка можешь лишиться крыши над головой. Да, пути господа неисповедимы, как говорится: бог не микишка – на лбу фонарь. О, этот дурной русский язык! Но нитчего, ми его переделайт в немецкий! И у тебя не станет крышки над головой, и у твоих детей и внуков! Тогда вспомнишь нас, добрых дойче зольдатн, и горько заплачешь, долго-долго будешь каяться, рвать на седой башке волос. Но поздно будет! Наказание вышних сил обрушится на ваши глупые головы! Это говорю я, Фриц Краузе!!! Как говорится, подтолкни падающего! Прав Ницше! Немношко надо… подтолкнуть русский дурной колосс на глиняных ногах! Так говорил великий Ленин. Он почти Карл Маркс, немного только лысый и бороденка жиже.
Немец с мадам вышли за ворота:
– Извозчик! Извозчик! Где тут извозчик? Шортова страна, медвежий угол, волчья грива!
Однако дремавший на козлах неподалеку извозчик в картузе и армяке поднял голову, натянул вожжи: «Но, милая!», подъехал к разъяренной паре.
– Извольте, господа хорошие, куда едем?
– В Дунькину рощу поезжай, театральную гостиницу.
Проводив глазами отъехавшие дрожки, мальчики переглянулись.
– Значит, не будет у тебя сапожек на осень в школу ходить, Андрюшка? – сообразил Костя.
– А у тебя, думаешь, будут?
Мать Татьяна не согласилась:
– Цыплят по осени считают. Заработаем денег за лето, время еще есть, было бы здоровье. Хорошо, отец перед фронтом валенок всем накатал на пять лет вперед, про зимнюю обувь никому думать не надо. Сейчас идем парники копать, землю подготавливать. А то скоро за пособием бежать надо, в очереди стоять, так что Андрей, днем ты остаешься за хозяина.
– Мама, отец с немцами воюет, турками или австрийцами? – спросил Костя.
– С германцами и австрийцами, с турками тоже, которые братьев наших – славян пять веков в рабстве держали. Россия освободила, так теперь немцы под себя подмять хотят, а Германия Россию покорить мечтает, Малороссию захватить. Вон Фриц – пленный немец из Австрии. Может, его наш папка победил, и в плен взял.
– А почему тогда Фриц этот здесь на извозчиках разъезжает? Ругается еще почем зря… Надо этого немца Фрица в тюрьму посадить, шибко он к нам злой, как бы чего дурного не натворил.
– Одного понять не могу: пособие им дают наравне с содержанием русского солдата, кормят-поят бесплатно, за счет города дома для проживания выстроили, Общество Штилькино у детей даже школу отняло под своих немцев, под жилье им отдали, Красный крест еще пособия платит за немецкие страдания в Сибири. На работу высокооплачиваемую по железнодорожной части в первую очередь немцев берут. Конечно, начальство там все сплошь немецкое, еще премьер-министр Витте насадил. Вроде за большие деньги служат, а других к забастовке зовут: баррикады строить… коммунисты. А попробуй туда русский бухгалтером устройся, когда Обер-кондуктор их главный – тоже немец. Пленный германец нашему российскому немцу-начальнику искони ближе, чем православный россиянин. Ладно, милые, идем в огород, парники строить…
Глава 4
Накормив внуков, Анна Степановна собралась в путь на ближний Новый базар – продать зелень, чтобы на вырученные деньги купить немного мяса на обеденный суп. Базар располагался недалече, занимал большой незастроенный пустырь на пересечении улицы Бердской и Третьего Прудского переулка. На мартовских митингах, по случаю февральской революции, Новый базар был торжественно переименован в Площадь Свободы, где проводились митинги и собирались строить народный Университет, на который тут же открылся сбор народных пожертвований, но покуда по большей части все же велась мелкая частная торговля. Так получилось в городе, что прежний базар у Барнаулки переименовался в Старый базар, а Нового не стало, просто торговать продолжили теперь уже на площади Свободы.
Нарвала Анна Степановна лука-укропа, намыла, уложила в большую сумку, уже к калитке пошла, ребятня вся за ней увязалась: мы с тобой, бабушка! С тобой, одни дома не останемся! Будем холодной водой торговать из колодца.
Андрейка с Костей быстро притащили бидон из кладовки, налили в него воды по самые края, все вместе вышли за калитку и восхитились буйно цветущей сиренью в палисаднике соседей Долгополовых:
– Как красиво цветет, и пахнет очень вкусно! – объявила Клава. – Цветочки, наверное, очень сладкие. Вот бы из них пирожков напечь, а бабушка?
Андрей восперечил:
– Нет, не сладкие, а горькие, – я пробовал, – но пахнут и правда вкусно. Цвет красивый. Бабушка, какой это цвет?
– Сиреневый. Какое солнечное утречко сегодня у нас, и день верно будет хороший. Слава богу!
– И растение сирень, и цвет сиреневый? Здорово совпало! А давайте тоже посадим у нас в палисаднике сирень? Вот здесь есть маленькое местечко незанятое.
– У нас черемуха в палисаднике, она еще вкуснее пахнет, сладко, аж голова кружится, неужто забыла? Недавно отцвела, но видите, ягодка завязалась, ох и вкусная будет, когда поспеет да почернеет. Зеленую не вздумайте пробовать, понос прохватит. Сирень, конечно, цветет дольше, возможно даже и красивей, но черемуха еще и ягодой одарит вкусной. Помните зимой пироги с черемухой пекла вам? У нас здесь молоденький пока кустик, но все равно осенью уже попробуете первый урожай, а через год-два так разрастется, что хватит поесть и на пироги останется. Идемте скорей, внучки, время дорого!
– Какой у нас красивый город, правда? Самый лучший в мире! Пешеходные дорожки у домов чистые, травой-муравой заросли, по ним идти ногам приятно, и тополя уже распустились, а давно ли везде лед был, да грязный снег таял в ручьи? Да ведь, Костик?
– Да, теперь хорошо, можно свободно босиком ходить.
Мальчики вдвоем понесли чересчур полный бидон, и когда не попадали в ногу, вода плескалась им на штаны, вызывая горячие споры, кто прав, кто виноват. Клава старательно семенила сзади.
Чтобы про нее совсем не позабыли и не оставили одну, время от времени она пробовала голос – кричала внезапно и пронзительно на всю улицу: «Есть вода, холодная вода! Кому воды колодезной вкусной? Подходите-берите, в мире лучшей не бывает!».
– Побереги голосок, – утихомиривала внучку бабушка, – здесь у всех своя вода колодезная под рукой, на базаре успеешь еще накричаться.
Андрюшка сердился всерьез:
– Да, не ори ты так под руку, а то мы ровно идти не можем от твоего воя. Всю воду уже расплескали.
– Смотрите, наши деревца, которые прошлой осенью гимназисты садили, а мы поливали, листики распустили зелененькие, будто шелковые! Красиво на улице стало!
– Тополя-дерева вырастут большие-пребольшие! До самого неба! А оно синее-пресинее сегодня. Ни облачка, ни ветерка, благодатная установилась погода.
– Скоро до неба тополя вырастут?
– Лет через тридцать – сорок дорастут, видела я в Омске-городе тополя, как огромные зеленые шатры стоят вдоль улицы, у ребятишек вверху целые города настроены…
– Мы по ним на небо залезем, на облаке посидим.
– Ваши детки будут по ним лазить, а вы к тому времени станете взрослыми, вам уже и неинтересно станет по деревьям лазить. Надо будет работу работать, своих деток малых кормить-поить, в люди выводить…
– Интересно, интересно! Тетенька, дяденька, пить хотите? Вода – копейка кружка! Холодненькая, колодезная!
– Не хотят они, сказано тебе русским языком – не кричать до базара! Бабушка, а давай мы Клавку в детский сад на сегодня сдадим, всего на один день, до вечера, для пробы, и без нее с Костиком на базар пойдем! Вон приходская школа, в ней гимназисты детсад организовали для солдатских детей. Клаву значит, тоже примут, она же солдатская дочь, нам некогда будет с ней по базару таскаться. Устанет быстро, начнет опять домой проситься… А в детском саду ее и накормят, и сказку расскажут. Я знаю, слышал, как две тетеньки разговаривали. А, бабушка? Ну давай сдадим Клавку на день до вечера?
– Не пойду в детский сад, с вами пойду на базар! Кричать буду, чтобы воду покупали!
– Правильно, Клавдя, нам всем вместе надо держаться. Ишь, что удумали, сестру сдать в чужие руки!
– Так детский сад же! Там гимназистки няньками работают бесплатно, помогают солдаткам с детьми. Туда многие тетеньки сдают своих маленьких детей, когда на работу уходят. За ними пригляд хороший, в саду в игры играют. Через скакалки прыгают и мячиком играют, я видел.
– Перестань, Андрюшка, глупости собирать: то для одиноких солдаток организовали помощь, кому совсем не с кем деток оставить, а няньку нанять не на что. Идемте скорей, у нас сегодня дел полон рот.
Внутрь базарных ворот Анна Степановна заходить не стала, за место на столах хоть небольшую, но оплату требуют. Половину того, что за зелень выручишь, за место отдашь: овчинка выделки не стоит. Встала бабушка в ряду с уличной стороны, среди таких же, как сама бабок, вынесших на продажу мелочевку по нужде, а не по промыслу: кто свеклы полмешка на своем горбу притащил да чеснока пять головок вдобавок, кто картошки пару ведер, в общем, торгуют всем подряд и кто на что горазд.
А дети в ворота прошли, влились в гущу утренней толпы базарной, договорившись с бабушкой по окончании торговли друг друга не ждать, потому что время дорого, возвращаться раздельно. «Вы сами с собой только не потеряйтесь. Держи Клава кружку, не выпускай, и воду сама черпай, прохожим не доверяй!»
Покупателей к девяти часам утра много меньше, чем было в семь: разговорчивые мещанки – сами себе хозяйки, проспавшая горничная прислуга, а скоро и поварская вторая смена из лагеря военнопленных объявились. Последние – завидные покупатели: помногу всего берут, расплачиваясь иной раз и новенькими хрустящими ассигнациями, таская их из карманов австрийских узких мышиного цвета брючек. По большей части Новый базар посещали галицийские денщики-хохлы, обслуга офицерская, да повара-румыны и венгры. Новый базар ближе к лагерю военнопленных, чем базар Старый, на нем и цены на зелень, солонину, вяленую рыбу и сало, да овощи обычно ниже. Нагловатые офицерские денщики шатаются по площади часто совсем без дела, за ними глаз да глаз: на пробу берут много, а еще больше таскают походя. Завидя галицийскую шантрапу, женщины с товаром настораживаются, загодя повышая голоса: «Чего уставился, проходи мимо, нечего не дам пробовать, знаем мы вас – пробовальщиков».
Вот и к луковичной сумке старушки Киселевой причалил усатый хохол гражданского вида: в грязновато-светлой вышиванке, потертой меховой безрукавке, местами облезлой смушковой папахе.
– Здоровеньки булы, почим, цикаво знати, бабка, твий лук?
– Будь здоров, мил человек. Пять копеек пучок с утра был.
– Може зменшив трохи?
– За так хочешь получить? Иди, иди себе дальше с богом… и руками грязными не трогай…
– О-це, кацапки до чего жадибни, а визьму пучок на пробу…
– Лук не пробуют – все знают, что горький, ты один не знаешь – дурнем прикидываешься.
– Скильки в сумци пучкив буде?
– Сколько будет – все наше…
– Це багата будеш…
И все-таки уволок пучок, зажевал, а через два шага выплюнул: «О, це горька пилюля, ей бо… даром не треба…».
Но за каких-нибудь полчаса весь лук разошелся. Наторговав мелочи, бабушка Киселева зашла на мясные базарные ряды, которые в начале марта, после объявления революции, вовсе сократили, выделив место для проведения митингов, но потом вернули обратно, приценилась к баранине, сторговала два фунта для супа к обеду, в рыбном ряду еще пять карасиков купила, заторопилась домой – обед готовить.
Галициец подошел к детям:
– А ну дайте хлопци людини води випитиь, дюже упарився з ранку, одну кружечку…
– Кружка – копейка…
– Ось же бисови дити, за воду гроши тягнуть, звидки мени стильки заробити, щоб и за воду платити, якщо я без того голодний-холодний полонений?
– Налей ему кружку, – сказал Костя Клаве. – Небось свой православный человек, немцы его воевать заставили против русских, а он не захотел и сдался… Правда, дядя?
– Це так верно, що прям за душу бере! Який гарний хлопец, яка гарна дивчина, ой, спаси вас бог, не дали померти бидному украинцеви далеко вид ридной сторони…
Галициец сдвинул на затылок облезлую папаху и пошел далее.
– Врет, что денег нет…
– Почему врет?
– А что ему на базаре делать без денег и без товара? Да еще так долго?
– Да мало ли… воровать к примеру…
– Ну и зачем мы вора напоили?
– Давай за ним походим, посмотрим, что он делает…
– А кто пить желает холодной воды колодезной, кружка – копейка!
Галициец однако ничего особенного не делал, в карманы чужие не лез, сильно не воровал, лишь нагловато торговался со всеми, пробуя все подряд. Походя выхватил из бочки соленый огурец, в миг сжевав на глазах возмущенной хозяйки: «на пробу тильки», зачерпнул из одного мешка пригоршню семечек, из другого кедровых орешек уволок, и так шел, посмеиваясь да поплевывая, да отругиваясь. Несколько минут возле рыбного ряда покрутился, цены расспрашивал, хороша ли рыбалка была, потом в угол базарный забрел, где торгуют ношенной одеждой, долго перепирался с мужиком, у которого выторговал сразу три старых, в конец изношенных полушубка, достал бумажные деньги, заплатил, сунул одежку в холщовый мешок, перекинул через плечо, зашагал далее.
– Лето впереди, а хохол замерз, полушубки накупает, – пересмеивались продавцы.
– Небось, турок валахский… что, брат, собрался в плену и следующую зиму сидеть? Мы к осени германцев побьем, домой поедешь…
– Який турок… що брешешь… Купуй сани влитку, – покрякивая и краснея отругивался тот, – а вони нехай будуть… черт его знае, скильки воевати буржуи будуть… Зима Сибирська дуже холодна, а у кожушку и валянках можна и гроши заробитиь… сниг кидати – добре платять, а без кожушка ни-ни, на смерть вмерзнешь…
– Видишь, есть у него деньги, раз полушубки мешками закупает.
– Какие там полушубки, одно название – старые, драные, все в заплатах, ношеные – переношенные… рухлядь…
– А все ж бумажки достал, рубля два отдал, а нам копейку пожалел…
– Бабушка говорила, что галичане народ прижимистый, на базар не покупать, а пробоваться ходят, так напробуются, что и обедать не надо! Она их часто ругает, что лапами своими грязными все захватают, перепробуют, ничего не купят, а когда наедятся, потом еще охают на всю округу, дескать товар плохой, вторые румыны, ей богу, а те, что твои цыгане – два сапога пара…
В это время галичанин вышел с базара и остановился возле большого, крытого фаэтона со скучающим возницей на козлах. Из фаэтона вылез прилично одетый человек, забрал у галичанина мешок с товаром, кинул внутрь, и принялся ругать, похоже за то, что дорого заплатил.
Хохол вскинул руки к небу, призывая бога в свидетели торговой сделки, что цены такие на базаре, потом бросил папаху оземь, и в полном расстройстве чувств уселся на нее сверху.
Андрейка вдруг признал в ругателе немца Фрица, которого бабушка заставила утром съехать с квартиры.
– А ну пойдем к ним ближе, послушаем, чего говорят…
Австриец указывал жестами галичанину немедленно встать и вернуться на базар, покупать что-то еще.
– Купить надо еще пять старых трепаных тулуп! Всего восемь, дурья твоя башка! И не дороже, чем шесть рублей за все! Ты почему так дорого купил: три за шесть рублей, дубина стоеросовая? Я не позволю воровать, хохляцкая твоя морда! – И резко, с разворота въехал галичанину в ухо, да сильно так, что тот завалился на бок.
Во мгновения ока галичанин вскочил, схватил папаху, отбежал на три шага, стал из-за кабриолета оправдываться:
– Будеьте ласкави, пане лейтенант, вси гроши виддав до останнього рубля, хай ему грец! Деруь, гадюки барнульские, три шкури, чертови христопродавци… можете обшукати – нема у меня ни копейки, щоб им ни дна ни покришки. Може на Старому базари спробуемо купити?
– Держи еще три рубля и иди, торгуйся, без пяти полушубков не возвращался. Шнель!!
Андрейка подошел ближе к говорящим.
– Дядя Фриц, воды хотите? Кружка – копейка…
– Есть вода, холодная вода, – запела Клавка пронзительно, – пейте ж воду, воду господа!
– Не господа мы, а товарищи, – громко поправил Краузе.
– А этого дяденьку не ругайте, у него правда копеек нет, мы ему даже воду бесплатно дали испить. А три полушубка он купил за два рубля, они ж все рваные, старые, ветхие, молью битые, только на пугала огородные годятся – ворон пугать…
Немец выпучил глаза, затем быстро схватил галичанина за шиворот, так что с него свалилась папаха и рассыпались бумажные рубли, наподдал коленкой под зад, забрасывая в фаэтон: вор, собака!
Затем развернулся к детям.
– Спасибо, мой честный мальчик. А за воду, которую у тебя выпил мой дурной денщик, я заплачу…
Вытащил из кармана кошелек, осмотрел его внутренности в поисках мелочи, ничего подходящего не обнаружил, и будто не веря в свою щедрость, дал какую-то бумажку Андрейке, а сам запрыгнув в экипаж, схватил вожжи:
– Но, залетная!
– Сколько?
Андрей разжал кулак:
– Целый рубль!
– Денег у этих пленных и впрямь – куры не клюют. Надо их почаще нашей колодезной водой поить… – обрадовалась Клава. – На глазах добреют. А откуда ты его знаешь?
– Он нашим квартирантом чуть не стал, одну ночь эту переночевал только – его бабка выгнала взашей вместе с его мадамкой.
– Жаль, я не видела. Знать, баловались шибко, вот она и рассердилась.
– Бабушка ругалась, что всю постель перемазали, будто месяц жили, а денег ни копейки не заплатили.
– Зато сейчас рубль дал. На один школьный сапог уже есть деньги! Удачно мы сегодня заработали!
– Он перепугался, когда его дядей Фрицом назвали. До нас хотел галичанина еще отправить за полушубками, а как нас увидел – того в коляску, нам рубль и уехал по-быстрому. Зачем ему столько старых шубеек? И почему испугался? Неужто совесть проснулась?
– Да потому, что мы его узнали. Хотел задобрить деньгами. Сразу рубль дал, потому как не было в кармане копеек. Он глазами поискал, но не нашел. Богатый очень.
– Есть вода! Холодная вода! Хрустальная, колодезная! Кому надо водицы испить, жажду утолить? Господин хороший, испейте водички! Кружка – копейка! – разносился над торговыми рядами Площади Свободы пронзительный голосок.
Мальчики медленно пробирались через густую толпу, таща бидон, а перед ними крутилась маленькая девочка, обладательница удивительного пронзительного голоса, от коего осанистый господин в летнем пальто при очках и шляпе, хитро прищурился:
– А точно ли колодезная? Не из канавы зачерпнули, братцы?
Мальчики поставили перед ним бидон.
– Как можно, гражданин хороший? Из дома принесли, с нашего дворового колодца.
– А где проживаете, молодые люди?
– На Бердской улице, недалече, осенью в первый класс иду… деньги на сапожки зарабатываю…
– Тогда извольте кружечку!… И правда холодная водица! – гражданин выпил, причмокнул, изобразив полнейшее удовольствие, расплатился с детьми пятачком и отправился далее вдоль базарных рядов своим путем, неся большую продуктовую уже полную товаром сумку, не столько приглядываясь, сколько прислушиваясь к разговорам овощных торговок с покупателями. То был новоизбранный Председатель городского Народного собрания Барнаула Порфирий Алексеевич Казанский, – подвижник крестьянской кооперации и редактор «Алтайского крестьянина», публицист газеты «Жизнь Алтая», печатавший свои фельетоны под псевдонимом Премудрая крыса Онуфрий. И в прежние газетные времена он любил потолкаться по базару, в поисках интересной темы для фельетона, теперь, оказавшись почти на вершине местной власти, народные вести его интересовали даже больше, чем прежде.
– Под Бийском люди видели, как аэропланы летают. Прилетели к немецкому колонисту, сели у него на утрамбованном поле, которое не засеивается, да не один, несколько, оттуда германские летчики вышли, их встретили бутербродами: хлеб с салом, а другие пленные в них сели и дальше полетели на фронт воевать. Отсюда летают наших бить…
– Не слишком ли далеко?
– Да разве самолету бывает далеко? Ему только керосином заправиться, он может до Японии долететь, не то, что до германского фронта….
– Где ж им здесь столько керосина набраться под Бийском?
– Везут издалека пленные немцы на грузовых автомобилях с бортами, а в них бочки – рядами стоят. Ох, и много их там, полк – не меньше.
– Бочек?
– Автомобилей и пленных австрийцев в них.
– А куда наше воинское начальство смотрит?
– Наше воинское начальство – тоже сплошь немчура. Вот был воинский начальник Степного края генерал Шмит, а выше его тоже немцы в Кабинете сидят, даже сама императрица – немка. В газете писали, что в переписке состояла с двоюродным братом Вильгельмом Вторым! И это во время войны между Германией и Россией! Потому и не боятся ничего колонисты эти, знают: наверху их всегда оправдают. Говорят же умные люди: ворон ворону глаз не выклюет.
– Ох, что-то слишком много нынче воронья развелось по лесам да по полям, никогда такого не было. Не к добру это. Смотрел-смотрел царь-батюшка на это безобразие и отрекся от власти.
– Не говори, не трави душу… Только на днях в газетах писали, что целый поезд с нефтью пропал, который из Баку шел в Барнаул, и то ли пятнадцать, то ли все двадцать товарных вагонов, как корова языком слизнула. Куда, спрашивается, девались? Какой карманник утащил?
– Известно куда. У колонистов автомобили грузовые, из Германии выписанные, между их хуторами так и снуют, так и снуют! Аэропланы так над головами и трещат с одного немецкого хутора на другой. И всем, небось, топливо подавай.
Сгибаясь под тяжестью сумок, Порфирий Казанский собирался взять извозчика, уже договорился с одним о цене, как прямо из-под носа экипаж увел верткий франт в армейской австрийской форме, блестящих сапожках, вскочил на подножку: «Гони, раззява, рупь плачу!», затем обернулся к Казанскому, ухмыльнулся и без акцента бросил:
– Извини, дядя, спешу!
Возница хлестнул лошадку, дрожки понеслись, чуть не сбив Порфирия Алексеевича с ног.
– Эка, развелось вас! – только и успел вскрикнуть Председатель Народного собрания Барнаула.
– Трудно жить стало, Порфирий Алексеевич? Австрияки треклятые, обнаглели сверх всякой меры, из-под носа экипажи воруют! Порядка никакого нет! – перед Казанским остановился крытый экипаж с кучером из которого выглянул, хитровато щурясь, бывший работодатель Казанского в бытность его редактором – издатель газеты «Жизнь Алтая» и владелец типографии Василий Михайлович Вершинин.
Широким жестом пригласил в кабриолет, помог втащить сумки.
– О, серьезно закупились сударь, серьезно! Рад видеть вас безмерно, дружище, дай обниму-то! А вообще стыдно, батенька, еще и кухаркой подрабатывать, вы ныне величина немалая на городском горизонте власти. Гласным в думе 800 рубликов в месяц получали, о коей сумме иной учитель в год не мечтает, теперь вообще городское Народное собрание возглавили, к тому же секретарь Комитета общественного порядка Барнаула. Не знаю какое содержание вам там назначено, боюсь даже вообразить, а меж тем лично по базарам с сумками бегаете, неужто экономите? Скупердяйство замучило, однако… Бросьте, голубчик, бросьте, наймите уже прислугу, экипаж… все как полагается приличному человеку…
– Когда из столицы, Василий Михайлович, какими судьбами? Тоже рад вас видеть! Извините Премудрую крысу, как был шелкопёром любопытным до всяческих известий, так им и останусь навсегда, а где еще новости городские узнавать, как не на базаре? Здравствуйте всем, граждане!
Внутри кабриолета разместился еще и владелец пароходства «Мельникова и сын», лицо Казанскому давно известное – солидный человек на пятом десятке лет в отличном европейском костюме и шляпе итальянского фасона, надвинутой до бровей, глядящий с дружелюбной улыбкой. Вершинин тут же не преминул вставить:
– Представлять друг другу вас не буду, ибо Крысу Премудрую Онуфрия, в миру гражданина Казанского, все в Барнауле знают, а судовладельца Мельникова Александра Виссарионовича, владельца судов, барж, верфей, пароходов, тем паче. Двигайтесь гражданин Мельников, двигайтесь, новая власть в лице самого секретаря Комитета общественного порядка славного града Барнаула к нам в коляску влезла. Это вам уже не какой-нибудь газетчик, это величина! Власти следует уважать. Кучер, гони сначала ко мне. Господа, есть важный разговор, Порфирий Алексеевич, вы не беспокойтесь, докладчиком буду не я, потому надолго не задержу, но без стопки коньку, извините, не отпущу, а после на этой же коляске доставим к дражайшей супруге в целости и сохранности. Вот у гражданина Мельникова есть к городским властям насущные вопросы… быть или не быть? А главное, други мои, новости поступили, не терпящие малейших отлагательства в их рассмотрении… Некий гость нашего города хочет сообщить необычайно важное известие для барнаульских властей, коими вы, Порфирий Алексеевич, в силу жизненных обстоятельств ныне являетесь. Сделать это он просит негласно. Впрочем, и у меня найдутся для вас интересные сообщения из столицы. Я же, господа, как вы знаете, состоял в Исполнительном Комитете Государственной Думы по созданию Временного правительства. Теперь являюсь комиссаром Временного Комитета Госдумы и Временного правительства одновременно. О, боже, в каких только комитетах ни состою! Мой дед, простой русский крестьянин из Вятской губернии, верно, перевернулся в могиле, кабы узнал о таких ужасных новостях. Счел государственным преступником, узурпатором власти и проклял. Прости мя, Господи, грешника! Формируем в столице новую власть вот этими самими руками, царскую семью перевозил из Ставки Главного командования в ссылку, вернее сказать, из Могилева в Царское село. Лично состоял при них сопровождающим, то бишь, ответственным конвоиром с комиссарскими полномочиями при побеге расстрелять. И это во время войны! От своей фракции трудовиков в министры юстиции друга Керенского пропихнули, а он далеко пойдет, черт его побери…
– Если городовой не остановит.
– В том-то и дело, что, слава богу, не остановит! Порешили мы полицию царскую расформировать и на фронт, в окопы, создаем народную милицию по всей нашей необъятной матушке России, и в новую милицию старым кадрам ход запрещен, только самым лучшим и то в виде исключения. Да вы ведь знаете… сами правители местные…
Видно было, что Вершинин несказанно рад встрече со старым приятелем, тормошил его и так, и этак, сдувал невидимые пылинки с пальто, беззастенчиво производил разбор продуктов в сумках: «Тэк-с, молока бутыль двухлитровая, сметана, творог… коровы стало быть не держим? Ну и ладно… а вот и яйца, ну как не стыдно, Порфирий Алексеевич, уж курочек держать в своем доме – это так просто. Выговор вам по хозяйственной части определяю, строгий выговор-с от комиссара Временного правительства! Нет, ну право, стыдно. А помните сами рассказывали, что даже ректор вашего любимого Томского университета держал своих куриц в подвале главного корпуса? Ха-ха-ха! А действительный статский советник был генерал, в вашем практически нынешнем звании, и ничего, не стыдился! Да-с, а начальник учебного округа тоже завел куриц, там же, в том же подвале и подвинул, так сказать, ректоров курятник на пару метров, и как они поссорились на этом деле, из-за курятников! Ха-ха-ха! Да, да, помню-помню, как вы показывали в лицах, точно, сначала кухарки их рассорились, а затем и генералы наши статские!
– Времени нет совершенно, ни на корову, ни на куриц, Василий Михайлович, да и места тоже.
– Так заведите, голубчик мой, кухарку, пусть она по хозяйству вашему все успевает, хотите, уступлю вам свою Авдотью?
– Спасибо, не нужно.
– Ну вот, здравствуйте вам, сразу и не надо ему ничего! Скупердяй! Чистый Плюшкин! Что значит не надо, когда, наоборот, очень даже надобно? Скажу по секрету: чудо-кухарка, другой такой во всем Барнауле не сыщешь! Цены ей нет! Все знает, где что лежит, и абсолютно все умеет и по домашнему хозяйству, и по огородному! Чего не спросишь приготовить, ей про то блюдо известно вплоть до приправ, и без всякого рецепта изготовит вам так, что пальчики оближете, хоть беф-строганоф с подливкой из белых грибов, хоть отварной картошечки на сливочном масле с укропчиком и лучком! Под белую рыбку в духовке запеченную. Ах, братцы, вот приедем, я обязательно ее попрошу что-нибудь этакое для нас по-быстрому устроить, я из ресторана в дом блюд никогда не заказываю, ресторан ваш против моей Авдотьи – тьфу просто – мокрое место! Наплевать и растереть!
– Василий Михайлович, к сожалению, мне надо домой, жена и дочка ждут с базара. Обед пора готовить.
– Удивительная история, – дорогой Порфирий Алексеевич. – Я бы даже сказал: удивительнейшая с нами произошла. Вот посмотрите, Александр Виссарионович, на нас, я до десятого года был обыкновенным купчиком, хозяином магазинчика головных уборов, абсолютно ничего не значащим, с двумя классами образования. Да, всего два, третьего осилить было не дано папенькой, пришлось в лавке сидеть. Но книг у нас имелось множество, скажу я вам, огромная библиотека папенькина, и вся в моем распоряжении. Феномен для простого крестьянина Вятской губернии? По чести скажем не совсем простого, а торгующего крестьянина. Сейчас я те книги уже в Питер отправил: все пять тысяч томов. Так вот, сидя в лавке, перечитал я в упоении всю папенькину библиотеку, и настолько проникся светлыми идеями народного образования, пользы книжной для человеческого развития, что стал участвовать в работе просветительского Общества Штильке. А потом, под руководством Константина Васильевича Штильке, замыслил свою собственную типографию создать, дабы газеты печатать, книги выпускать. И ведь все получилось и с типографией, и газетой «Жизнь Алтая». Стал я ее учредителем и владельцем, а Порфирий Алексеевич, с его Томским университетом, – главным редактором.
– Не сразу главным редактором, да вы и магазин за собой сохранили, Василий Михайлович… и даже прейскурант кратно расширили…
– Конечно, сохранил, как в наши дни прожить без магазина? И вы не сразу в редакторы выбились, главным редактором-то был писатель земли сибирской Гребенщиков, но он больше в разъездах пропадал по Алтаю, по Сибири, по всей стране разъезжал, зато какие блестящие очерки нам поставлял из Москвы и Питера о столичной народной жизни… Сейчас на германском фронте санитарным поездом руководит, рассказы пишет, а мы их публикуем! Реальные военные истории от нашего фронтового корреспондента! Да, не сразу Москва строилась, но всегда мы с демократических позиций к газетному делу подходили, как только могли, боролись с царским самодержавием, всесилием и самодурством чиновничества, бедностью и беззащитностью рабочего люда и крестьянства. И штрафовали газету не раз, и Порфирий Алексеевич не однажды сиживал двухнедельный срок в тюрьме за острый материал, и газета во все времена была убыточной, но что в результате? Ах, Порфиша, дай я тебя поцелую, ты, брат, такой у меня молодец!
– Право, не стоит.
– Нет, ты уж извини, поцелую недобритую морду! Ты, братец, благодаря своей блестящей публицистической критике, фельетонам, стихотворным воззваниям к свободе народной стал любимцем не только просвещенной местной публики, а и простых барнаульских мастеровых, шубников, пимокатов! Крестьяне тоже оценили твое знание сельскохозяйственной кооперации, журнал твой «Сибирский крестьянин» пользуется великим спросом на селе в виду очевидной пользы. Потому народ выбрал тебя в гласные Думы, далее глашатаем Февральской революции назвал, когда ты в Думе произнес свою знаменитую пламенную речь, объявив свержение царизма, а ныне стал гражданин Казанский народным предствителем во главе новой Думы – Народного собрания Барнаула. Учитывая пост секретаря исполнительной власти в Комитете общественного порядка, именно ты на сегодняшний день глава города. Окороков что? Он делец от кооперации, от него раздоры, от тебя – просветительство!
– Захвалил, Василий Михайлович! Был бы толк…
– Вот именно, а он есть! Я на Всероссийском уровне тоже принимал непосредственное участие в Февральской революции, помогал, как мог, своей Думской Трудовой фракции и нашему руководителю Александру Федоровичу Керенскому в тяжкую ночь сначала неповиновения царю, потом восстания солдатского, вошел во Временный комитет Госдумы по организации Временного правительства, являлся уполномоченным комиссаром его. Самого премьера князя Львова согласовывал и голосовал, хороши шутки!
Так что все не зря! Это замечательно, друг Порфирий, Премудрая ты моя Крыса, дай я тебя еще обниму от избытка чувств. Как многое сделано буквально за два месяца в России и здесь, в нашем родном Барнауле, и сколько еще предстоит сделать!
– Это верно, дел кругом – море-океан. А мы на берегу пока стоим, вроде малых детей, ни черта не зная, за что браться!
– Перво-наперво бегать по базарам брось, не боярское это дело. И дом тебе пора приобрести в центре, на Московском проспекте, поприличней, как истинному главе города. Ты пойми, гостей принимать придется в любом случае, от этого никуда не деться хоть при самодержавии, хоть при республике.
– Вполне у меня приличный дом.
– Ну да, в три окошка в улицу, с завалинкой и палисадником. Помню-с: трехсотрублевая трухлявая завалюшка, которую ты приобрел на мой кредит, для того, чтобы пройти имущественный ценз выборщиков в городскую думу. А до этого вообще скитался по квартирам. Стал домовладельцем, появилась возможность избирать и быть избранным, милости просим – в гласные Думы. Но теперь другой уровень, и дом должен быть другой. А ты знаешь, что? Ты, брат, купи мой особняк, дешево продам: возвращаться надобно в столицу, там я себе квартиру уже присмотрел прямо на Невском проспекте, тоже полагается иметь по статусу собственность.
– И не подумаю даже, меня и мою небольшую семью вполне устраивает наш домик. С завалинкой и палисадником. Без коровы, куриц, собаки, кухарки, кучера и дворника тоже без.
– Ну, ты, брат, скупердяй! Не ожидал, никак не ожидал! Боже мой, ни выезда своего, ни кухарки. Нет, я, конечно, подозревал прежде, но не представлял, до какой степени ты скупердяй, братец! Страхолюдное убожество, нищета и убожество при таких-то деньжищах. Скупой рыцарь, ей богу! Бери пример с меня: покупаю в центре столицы квартиру на весь этаж. Даже не буду говорить сколько комнат, приедешь в гости – увидишь. Остановишься у меня, и никаких гостиниц!
– Большому кораблю – большое плавание. Вы, Василий Михайлович, по сути, член правительства новой России. Вам верно положено иметь приемную, а у меня приемная на службе, в Думе… то бишь, Народном собрании. И к тому же сегодня я председатель, а завтра возьмут не выберут и все… обратно извольте шелкоперить!
– Тем более, голубчик мой. Тем более, нужно ковать железо, пока горячо. Вот посмотри, я продаю отличный дом, нестарый, всего десять лет ему, ты знаешь, никаких скрытых пороков нет. Библиотеку папашину уже отправил багажным вагоном в Питер, обстановку кабинета тоже перевез, извини, привык очень, зато всю остальную мебель оставляю тебе. Не возьму за нее ни копейки! По братски отдаю! Как в 1914 году был оценен дом с каменным полуподвалом в 10 тысяч, столько я теперь за него и прошу, в добавок со всей мебелью отдаю. Э, да что там, выезд тоже оставлю и кухарку в придачу, отличнейшая кухарка Авдотья, ну, да я уже говорил, кажется. Особняк с конюшней, погребом, баней всего за десять тысяч рублей. Я тебе и кредит помогу взять под божеский процент.
– Нет, кредит – ни в коем случае!
– Самое время, голубчик, самое время! Да скажите ему, Александр Виссарионович, что теперь, пока он практически городской голова, любой банкир сочтет за честь выдать кредит, хотя бы и вовсе без процента!
– Это совершенно верно. Без сомнения. Реклама первостатейная для любого банка городского голову у себя кредитовать.
– Вот, слушай, что тебе умнейший деловой человек говорит! А когда не выберут тебя, допустим, через два месяца делегатом в Учредительное собрание от твоей партии социал-демократов, слишком низкое к ней доверие, вот тогда уже и кредит будет не получить, даже оставаясь главой Народного собрания! Лови, брат, момент! Удача в политике – архи-изменчивая дама, уверяю тебя!
– Слишком роскошный особняк, я к такому не привык.
– Чудак-человек, привыкнешь за неделю. К хорошему быстро привыкают! Нет, ты просто счастья своего не понимаешь. Поддержи, Александр Виссарионович, я устал уговаривать, скажи, хорош ведь дом? Стоит усадьба десяти тысяч?
– Дом хорош, сказать нечего. Я бы и пятнадцать дал, когда своего бы не было.
– Вот! Слушай делового человека: полуподвал светлый, каменный, с преогромной кухней и помещениями для прислуги, ему сноса еще сто лет не будет, крыша под железом, гостиная большая, с английским камином, столовая того больше, кабинет, две хозяйские спальни, будуар… На дворе конюшня, современный бетонный погреб… так что по рукам ударим?
– Спасибо, Василий Михайлович, слишком роскошно для такого простого человека как я.
– Эх, не ценишь ты себя, Порфиша! Но помни: потом локти кусать будешь, да поздно!
Мельников перекрестился на храм:
– Господи, прости нас, грешных! Далеко пошли, Василий Михайлович, из вятских крестьян да прямиком в государственные деятели, чувствуется в вас достойный продолжатель дела Василия Штильке, того времени, когда в Барнауле он еще возглавлял Общество попечения начального образования, а вы ходили у него в товарищах. Самого царя с царицей и семейством сопровождаете в ссылку. Это ж надо, до чего дожили! Но объясните мне, темному, почему ныне в свете европейского просвещенности Госдума бывшего нашего императора, русского царя, под арест в Царское село засадила, а не отпустило на все четыре стороны в Европу, ну хотя бы к двоюродному братцу-королю в Англию, к примеру?
– Была такая идея, судари мои, и сам бывший монарх деликатно просился на выезд к кузину Георгу, и сначала английский король вроде бы согласился принять, но затем их министерство иностранных ответило такой телеграммой, что я ее запомнил наизусть: «Британское правительство не может посоветовать Его Величеству оказать гостеприимство людям, чьи симпатии к Германии более чем хорошо известны». А? Каково было Николаю прочесть такую бумажку? Дали посмотреть, жалко что ли…
– Память хорошая?
– На память никогда не жаловался… Но тут скорее другое. Благодаря этой телеграмме, я нынче вошел в историю государства Российского, как представитель новой государственной власти, сопровождающий бывшего монарха Николая и его семейство к месту ссылки. Вот если бы Николая повезли в Лондон, к братцу Жоржу, то поехал бы другой человек, скорее всего Керенский, министр юстиции. В Европу все-таки ехать. И в Англии его за спасение «нашего кузина» посвятили бы в рыцари. Вы себе представить не можете, как он об этом мечтал. Ну, а по России с царственным семейством мотаться, согласитесь, – миссия не слишком-то выигрышная, но для меня – это самое почетное поручение в жизни.
Мельников вздохнул с печалью:
– Не простили злопамятные англичане Романовых, ведь в самом начале войны Николай забрал из английских банков все свои сбережения в 2 миллиона фунтов на покупку санитарных поездов и госпиталей для русской армии. И хотя все оборудование заказывал тоже в Англии, чертовы финансисты припомнили русскому царю это «свинство», английская же аристократия целиком и полностью зависит от английской банковской системы, тут даже родство царствующих особ не спасает.
– Насчет немецких симпатий британцы правы. Тот же премьер наш немчура Штюрмер сумел братцев рассорить, затребовав в случае победы в войне у Антанты отдать Босфор и Константинополь. Те сквозь зубы пообещали, деваться им было некуда, но судя по настрою западной печати, ясно, что при любом раскладе России в победителях не бывать.
– Василий Михайлович, вы что, не верите в победу русского оружия?
– Повидали бы вы нашу нынешнюю российскую столицу, милейший Порфирий Алексеевич, я уверен, ваша вера тоже бы сильно покачнулась. Русские рабочие ушли на фронт, на заводах одни чухонцы, которые ежедневно бастуют. А чего стоят десять запасных латышских полков, которые отказались воевать с германцем и жируют в Петрограде на белых хлебах, якобы охраняя покой и порядок в столице. А на самом деле создали у себя солдатские комитеты, изгнали русских офицеров. Добавьте к этому литовские дивизии, всего получится большевистское кодло в 170 тысяч штыков. Все жители от мала до велика зовут их засадными полками, в том смысле, что это немецкая засада, что ударит нам в спину при малейшем прорыве немцев в Курляндию с Эстляндией. Кайзер обещал всем этим курляндцам-остзейцам создание независимых государств, и ныне они просто ждут своего часа сдать Петроград немцам. С отречением государя ситуация только обострилась, ведь присягали-то они ему, а не Временному правительству. Да и у нас внутри страны существуют силы, имеющие на эти засадные полки гораздо больше влияния, чем Временное правительство. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, к примеру, который создал в каждом воинском подразделении революционные комитеты и влияет на солдат, как хочет!
– Что делать… революция… – усмехнулся Казанский, – все мы теперь в каких-нибудь комитетах состоим. Комиссарим понемногу…
– Понимаю вашу иронию, Порфирий Алексеевич, ведь теперь вы, наконец-то, определились со своими политическими взглядами, и снова попали в крепкие объятия РСДРП. Так вот, именно ваши коллеги социал-демократы да эсеры правят бал сегодня в Питерском Совете, и миссия их вызывает массу вопросов…
– Позвольте некоторым образом возразить: ваш однопартиец, трудовик Керенский, занимает высокий пост является заместителя председателя Петроградского Совета! Мы здесь центральную прессу тоже читаем и за новостями из столиц следим не меньше, чем за фронтовыми сводками.
– Эта была острейшая необходимость, вынужденная мера, давшая Госдуме хоть какую-то надежду вернуть управляемость гарнизоном.
– Старое доброе правило: если революцию нельзя подавить, ее надо возглавить? Не так ли?
– По крайней мере надо попытаться пресечь крайние варианты развития событий, дабы потом не выбирать из двух зол.
– Так вы их оба выбрали уже!
Глава 5
Экипаж с городским и общероссийским начальством подкатил к известному в городе вершининскому особняку, расписные в старо-русском стиле ворота тотчас отворил бородатый дворник и коляска въехала во двор, за ним ворота закрылись.
– Я только на минуту, – обеспокоился Казанский. – К чему во двор завез, пусть бы у парадного крыльца экипаж подождал.
– Ничего, ничего, милейший Порфирий Алексеевич, не испортятся ваши продукты, а вот мы их в ледник пока опустим. Эй, Авдотья! Прими у гражданина Казанского сумки, да поставь на лед, а мы покуда чайку-с попьем. Прошу, граждане в дом! Господин Казанский, вы вперед, как самый важный в Думе городской, пардон, в Народном собрании человек, по старым чинам звание статский советник не ниже, эх, жаль, чины нынче не в моде: я бы тайным советником числился, не менее! Прошу, граждане, прошу.
Кучер соскочил с козел, неторопливо направился следом за всеми.
Порфирий Алексеевич передал груз экономке Авдотье, рослой женщине с решительным выражением лица и крепкими, мужских размеров руками:
– Лед-то еще остался в леднике? Али опилки одни мокрые по такой жаре?
– Знамо дело, имеется в наличии лед, а потому что в самые Крещенские морозы был напилен на матушке Оби. Каждый кусок – серебро в пуд весом. – Авдотья и говорила почти мужским басом.
Вершинин подтвердил:
– Знатный лед у нас, синий, крещенский, такой под слоем опилок в погребе до июля не растает, будьте спокойны. Таких ледников в городе раз-два и обчелся! Холодно там, как в Арктике на Земле Николая 2. Граждане, внимание, у нас открылась государственная проблема! Что нам делать с островами Николая 2? Как считаете?
Казанский снял шляпу, повесил на вешалку, поправил ладонью коротко стриженую шевелюру.
– Дела… Вот ведь что странно, открыли величайшие острова, какого размера уже сто лет не открывали, назвали в честь императора Земля Николая 2, в пику Земле Франца Иосифа, а он, государь наш, возьми да отрекись от власти, причем воюя именно с Францем Иосифом! Чудны дела твои, Господи! Есть у меня предчувствие, что как сторож Народного дома в марте сего года снял со стены и вынес вон из зала портрет императора Николая Второго, так скоро и Землю Его имени переименуют в какую-нибудь Северную Землю.
– А Землю Франца Иосифа, думаете не переименуют, если Австро-Венгрия рухнет?
– Ну, нет, землю Франца Иосифа – ни под каким видом не тронут, даже если Габсбурги и падут. Европа не позволит свои династии шельмовать. Прошу сразу в кабинет, нам туда чай с закусками подадут.
– Я ненадолго, – еще раз напомнил Казанский.
Почему-то следом за честной компанией в дом вошел и кучер, привезший граждан. Он сбросил армяк с войлочной шляпой – поярком в угол, оказавшись щеголеватым человеком лет тридцати пяти в современном костюме и штиблетах, острый взгляд карих глаз смеясь пробежал по удивленным лицам гостей.
– Само собой, сударь, самой собой. Позвольте представить вам гражданина Титова. Вот сейчас гражданин Титов прочитает нам свой доклад и, пожалуйста, – по домам. Вы олицетворяете и народную думскую городскую власть и комитетскую, я комиссар Временного правительства с чрезвычайными полномочиями, и нам хотят сделать доклад, уведомить о грядущих, как я понимаю, барнаульских бедах. О коих мы, как всегда, ни сном, ни духом…
– Здравствуйте, господа! Не обессудьте, я здесь по чрезвычайным обстоятельствам, – объяснился приятным баритоном бывший кучер.
– Прошу, граждане, в гостиную, рассаживайтесь, кому где удобно, вот сигары, коньяк. – Вершинин обернулся к двери и громко крикнул: – Авдотья, подай нам закуски под коньяк. – Позвольте вам представить сегодняшнего докладчика: жандармский ротмистр железнодорожной полиции Федор Сергеевич Титов, любить и жаловать не прошу, но выслушать его, пожалуй, стоит. А то он предвещает нашему родному Барнаулу какие-то страсти-ужасти и намедни слезно просил провести личную секретную встречу с местной городской властью. А кто есть нынче власть в городе, как не вы, гражданин Казанский Порфирий Алексеевич?
– Пришел-таки на нашу социалистическую улицу праздник, – с удовлетворением констатировал Казанский, – жандармские крысы ушли в глубокое подполье, откуда иногда вылезают с нижайшей просьбой поговорить. Не скрою: до чрезвычайности приятно, доставили удовольствие господа-товарищи. Хотя, здраво рассуждая, мне, как члену РСДРП и Комитета общественного порядка города, следует вас, голубчик, немедленно арестовать и посадить в кутузку, где прежде вы наших товарищей парили без веника. И Василий Михайлович, думается, мне в этом поможет.
– Вряд ли у вас, милейший Порфирий Алексеевич, это получится даже на пару с Василием Михайловичем…
– Отчего же не получится, мы вон еще купца первой гильдии Мельникова пригласим. У нас в Барнауле нынче купцы ого-го какие смелые: даже сам начальник воинского гарнизона полковник Шевандров был арестован простыми гражданами, то бишь, торговыми людьми, а уж какой здоровяк был полковник, не голос – иерехонская труба, вы против него, извините за выражение, как австрийский хлыст против русской дубины… К тому у нас есть все основания: приказом Временного правительства, Отдельный корпус жандармов расформирован, жандармское полицейское управление железной дороги, в том числе, офицеры оных учреждений должны отправиться на фронт…
– Ну что ж, арестуйте, господа, и отправляете, куда хотите… только прошу сначала слово молвить, не откажите в последней просьбе.
– Это извольте, только надолго прошу не задерживать, уж извините, дома ждут. И господами нас не называйте, время господ, их слуг и рабов кончилось, хотя и товарищами тоже не надо.
– Хорошо, по имени-отчеству, надеюсь, не возбраняется? А знаете ли вы, уважаемый Порфирий Алексеевич, что по образовательной среде мы с вами однокашники: вы тоже учились сперва в Томском технологическом институте, за листовки были исключены, но впоследствии все же окончили Томский университет юристом, а я выпускник вашей первой альма-матер, Томского технологического, инженер. Служил на транспорте, в жандармском полицейском управлении железной дороги, где прошел весь курс практики от паровозного кочегара до машиниста и начальника станции. Наш подотдел новый, больше по технической части спроектирован, чем по сыскной, в задачи входит предупредительная борьба с бомбистами и прочими злоумышленниками на железной дороге, главная задача – так организовать движение на дороге, чтобы диверсии и террор стали невозможными. Что в этом плохого, извините, не понимаю. Зачем было разгонять охранную систему железной дороги? Слава богу, люди в эту новую структуру тоже свежие пришли, не очень известные со стороны, потому в момент февральского переворота сумели сохранить архивы от чужих глаз, вывести своих сотрудников и агентуру из-под удара революционеров, особенно имевших зуб на силовые органы террористов-эсэров.
– Вот оно как. Об этой голове гидры царизма мы вовремя не подумали.
– Спасибо на добром слове. Кстати, я был негласно прикомандирован сопровождать члена Государственной думы и чрезвычайного комиссара Временного правительства Василия Михайловича Вершинина на перегоне от Ново-Николаевска до Барнаула. Это входит в мои обычные служебные обязанности. Расположился в вагоне по соседству, затем познакомился лично, представился и в личной беседе изложил свои не очень приятные для Барнаула новости. Гражданин Вершинин, в свою очередь, согласился свести меня с городским начальством для решения этих насущных вопросов. И вот я перед вами, граждане начальники города: не велите казнить, велите слово молвить.
Мельников поднялся с места, принял от кухарки поднос с закусками:
– Сограждане дорогие, я все понимаю: у вас тут сложные государственные вопросы намечаются на повестке дня, какие-то секретные донесения, я бы к ним не хотел иметь касательства, поэтому прошу выслушать сперва меня. Порфирий Алексеевич, вы, как городская наша власть и вы, Василий Михайлович, представитель новой власти всероссийской, объясните, Христа ради, пароходо-владельцу неразумному – как мне нынче быть и что делать?
– Сакраментальный вопрос, голубчик. Попахивает революционером Чернышевским, а ваш рассказ будет не слишком длинен, уважаемый Александр Виссарионович? Описания снов Веры Павловны, случаем, не последует?
– Изложу предельно кратко.
– Ну что, сограждане, дадим первое слово гражданину Мельникову для доклада «Что делать?» Кто за? Отлично, прошу Александр Виссарионович, излагайте свою тему.
– Господа, всем вам прекрасно известно, что мы с моей матерью, Евдокией Ивановной Мельниковой, и младшим братом Николаем, находящимся в данный момент на фронте, являемся совладельцами в высшей степени благополучного пароходства, головная контора которого расположена в Томске, конторы имеются в Ново-Николаевске, здесь, в Барнауле, Бийске, там же располагаются крупные складские помещения и причалы компании. В Бобровском Затоне выстроена Судостроительная верфь. Пароходство имеет в наличии 10 двухпалубных пароходов американского типа, с паровыми двигателями от 200 до 500 лошадиных сил, кои предназначены для пассажирских и грузовых перевозок. К ним в придачу имеем 10 барж для перевозки габаритных, в том числе насыпных грузов. В прошлом году общий доход пароходства составил более миллиона рублей, а чистый доход превысил триста тысяч. Перевезено 6 миллионов пудов груза, в том числе более двух миллионов военных заказов…
– Уважаемый пароходо-владелец, – Казанский достал карманные часы, открыл крышечку и постучал ногтем по стеклу циферблата, – мы отлично осведомлены о достижениях вашего замечательного предприятия и его истории. Не стоит здесь излишне самовосхваляться, время дорого.
– Извините, Порфирий Алексеевич, это для нового в нашем городе человека, для Федора Сергеевича, пояснил вкратце, о чем идет речь.
– Да, я как томич прекрасно знаком с Пароходством Мельниковой, уважаемый Александр Виссарионович, и признаюсь, слышал только хорошее о точности выполнения расписания рейсов, уровне обслуживания пассажиров, но сам лично пользовался редко, имея прямое отношение к железной дороге и даже бесплатный служебный проезд.
– О, это конечно. Ваше мнение для меня крайне важно. Мы стараемся всегда вовремя производить профилактические ремонты, дабы иметь возможность самым строжайшим образом выполнять расписание рейсов. Для публики в салоне каждого парохода у нас имеется библиотека и пианино, к первоочередным услугам так же относится буфет, прекрасная кухня, электрическое освещение кают и помещений, паровое отопление всех классов в холодное время года….
– Александр Виссарионович! Я лишу вас права голоса!
– Простите, Порфирий Алексеевич, извините… В революционном 1905 году, вы, господа состояли в прямой оппозиции к власти и не только приветствовали стачки, демонстрации, но и сами участвовали в них. Ну, Порфирий Алексеевич, как уже упоминалось, будучи студентом Томского технологического института, разбрасывал листовки в городском театре с призывам к антиправительственной демонстрации, за что пострадал, я считаю излишне… С ним я в те времена личного касательства не имел, а вот с членом стачечного комитета приказчиков города Барнаула Василием Михайловичем сталкивался нос к носу на забастовке в нашей пароходной компании. Вы, Василий Михайлович, как двуликий Янус были: с одной стороны сам купец, не издатель еще, но продавец галантерейных и шляпных товаров, даже благотворитель, товарищ Штильке в «Обществе попечения начального образования», а с другой, обратной – стачечник-революционер. Но помнится тогда приказчики да кладовщики наши бастовали отдельно от плавсостава, требовали конкретно для себя повышения оплаты труда. А матросы, механики и капитаны кораблей их не поддержали. И даже побили маленько наших приказчиков, за то, что навигацию срывают и другим заработка не дают. В любом случае денежные вопросы мы тогда утрясли с вами миром. История, конечно, неприятная, но по сравнению с сегодняшней – просто мелочи жизни.
– Что это вы в воспоминания ударились? Какое у вас конкретно к нам дело? Опять бастуют, что ли? Тогда все вопросы к профсоюзу, с ними договаривайтесь сами!
– Бастуют, батеньки мои, бастуют конечно, но, не объявляя о том, просто начисто срывают столь рано открывшуюся, к общей радости, навигацию. Выводят из строя суда: кто – неизвестно. А механики не могут починить их неделями. Когда чинят – их тут же снова ломают. Склады грабят один за другим неизвестные люди. Сторожа при этом напиваются и спят мертвецким сном, ничего не помнят, ничего не знают. Полиции нет, то ли на фронт отправили, или куда в другие, не столь отдаленные места – мне лично опять же неизвестно, однако ловить грабителей стало некому. Дело перед ними беззащитно! А у меня, граждане высоко-благородные начальники, план воинских поставок срывается! Мало того, что разоряюсь на ровном месте, так еще могут осудить за неисполнение договоров военного времени и в тюрьму посадить. Ну вы же не «пораженцы-ленинцы», выступающие за сдачу Германии и перевод мировой войны в гражданскую на территории России? Или я уже ничего не понимаю?
– Договаривайтесь, любезный, со своими рабочими и служащими сами! Это ваша прямая обязанность! Мы никак не вмешиваемся в частные предприятия, мы заключаем с вами контракты на поставку продовольствия и прочего оборудования для армии, так что решайте свои проблемы сами! Повышайте оплату труда матросам, механикам, создавайте лучшие условия для жизни! – Казанский встал с кресла. – И давно надо было это делать!
– Так мы давно делали! Мама занималась исключительно благотворительностью. Мы построили школу в Затоне при судоверфи для детей фабричных рабочих, содержим ее за свой счет, не хуже, чем одну из ваших двух школ Штильке, которые вы рекламировали во всех газетах! Создали фельдшерский пункт, опять же для рабочих, оплачиваем время нетрудоспособности, оплачиваем обучение лучших учеников, поступивших после начальной школы в гимназию. Помогаем семьям, кормильцы которых получили увечья на работе. Семьи ушедших на фронт из нашей компании получают половину среднего заработка.
– Почему же об этом не сообщалось в газетах? И я слышу про то первый раз!
– Да потому, что помощь не должна быть громогласной, как у вашего Штилькиного общества! Где сделают на копейку, а кричат в своих купленных газетках на рубль. Мы русские деловые люди, а не немецкие горлопаны.
– Ну и зря! Тогда, извините, странно, что при такой помощи вы не можете договориться со своим столь опекаемым коллективом! Противоречие, говорящее о какой-то скрытой лжи! Врете, батенька мой, где-то сильно врете!
– Да потому, что коллектив нынче почти полностью сменился, наших местных молодых парней и мужчин забрали на флот, старые вышли в тираж. На эту навигацию еле-еле составили команды, даже половина капитанов – новые люди. И большинство их выходцы из Эстляндской губернии, бывшие в ссылке и получившие теперь освобождение после февральской революции. А еще австрияки-пленные устраиваются на работу и все как один объявляют себя социал-демократами-коммунистами, требуют свободы собраний и митингов, которые вы объявили законными даже в рабочее время. Набрать – набрали, зарплату платим, договора есть, навигация открылась, а пароходы ни с места. Или плывут немного и встают на ремонт вообще в безлюдных местах, из-за сложных поломок паровых установок…
– Но чем мы вам можем помочь? Это ваше частное предприятие! Сами разбирайтесь.
– Погодите, я сейчас поясню подробности, в которых скрыт дьявол. Это все началось после того, как некая неизвестная никому компанийка с микроскопическим капиталом и громким названием Пароходное общество «ТОВАРПАР» предложила продать ему пароходство Мельниковой за полтора миллиона рублей. Основателя мы проверили, какой-то подставной бухтарминский мещанин с немецкой фамилией. У нас годовой оборот нынче полагается больше миллиона, а тут продать всего за полтора все пароходы, баржи, складскую недвижимость, пристани, судоверфь… Ну где такое видано? Всему оценочная цена за 1914 год была уже пять миллионов, а сейчас много больше…
– Так не продавайте…
– Я, естественно, отказался, а они заявили, что тогда пароходство Мельниковой не сможет работать.
– И что?
– Да то, что видите. Пожалуйста, извольте получить обещанное: не работает. Что мне делать, граждане-товарищи? У Эльденштейна то же самое было, так он быстренько сбыл свои пять пароходов неким Риддерам, тоже немцам или евреям, я точно не знаю. Ему что, он процентщик, пароходы отсудил у своих заемщиков, когда те не смогли вовремя расплатиться, и сдал мне в управление, получая только прибыль. Те Риддеры по-свойски с ним расчитались, по-родственному. А меж собой якобы договорились как-то. Но я всю жизнь, четверть века пароходством занимаюсь, и не желаю ничего другого, а особенно продавать за такую сумму. Однако, работать не дают… Что делать, уважаемые власти?
– А что Ельденштейн советует?
– Советует отдавать за любые деньги, полученную сумму переводить через его знакомый банк в нейтральную страну Швецию и сматываться туда по-быстрому. Дескать, скоро у нас в России коммунисты-марксисты придут к власти и вообще все отнимут. Так хоть что-то спасти. И, якобы, Ленин уже прибыл в Россию в немецком поезде.
Забрав со столика свой коньяк, Вершинин тяжело прошелся по гостиной, где кроме кожаной мебели ничего не осталось.
– А знаете что, дорогой мой Александр Виссарионович? Ведь я тоже продаю этот особняк, а также типографию в Барнауле с ее замечательными электрическими печатными станками, газетное дело, коему посвятил жизнь, целиком и полностью закрываю к чертям собачьим и перебираюсь в Петроград по месту… службы. Семья уже там… сюда прибыл дать поручения доверенному лицу для завершения тут всех сделок в мое отсутствие – и айда! Понимаете?
– Большому кораблю большое плавание, Василий Михайлович! Вы нынче по высшей мерке государственный человек, вам необходимо жить в столице. – Казанский поднял бокал: «За Великую февральскую революцию! За Временное правительство и Учредительное собрание! За вас, Василий Михайлович!»
– Спасибо, дружище! А вам, Александр Виссарионович могу посоветовать одно: прислушайтесь, голубчик, к совету Ельденштейна, на полтора миллиона золотом можно в Швеции или Швейцарии неплохо устроиться по нынешним временам. Или дело новое в столице открыть в Питере или Москве, хотя нет, в Питере не советую, у нас там сейчас действительно могут произойти очень большие пертурбации… очень большие, и черт знает только, чем все окончится. Вот вас ссыльные из Эстляндской губернии замучили и перед крахом пароходную компанию поставили, так вы их сами по дурости на работу наняли, а у нас 170 тысяч тех же курляндцев, эстляндцев в Питере стоит, называя себя красными латышами, и не желают идти воевать против немца, а желают пить, жрать и по бабам ходить. А комитетчики разных партий и партиек создали в этих полках солдатские Советы и теперь, если смотреть на дело здраво, имеют в распоряжении собственные войска, которые наше государство кормит и поит, а они государству угрожают…
– Но послушайте еще, сограждане, обличенные властью, ведь у меня не просто пароходство на руках, на мне обязанность выполнения военных поставок, договора продовольственные для армии по хлебу, овсу, гречихе да и прочие товарные поставки, которые я не могу нарушать в условиях военного времени! И если сейчас вы убрали полицию, то я пытаюсь бороться с забастовками исключительно силой рубля, ничего другого у меня нет, убеждения и призывы к патриотизму в моем пароходстве нынче не действуют. А не действуют они потому что это совсем не русские люди, и им плевать каково там солдатушкам на фронте без еды, снаряжения, сапог, полушубков и боеприпасов. Но в случае, если меня вынудят продать компанию неизвестно кому, скорее всего просто врагу, тот может вообще перекрыть весь транспортный поток, ведь он договоров на военные поставки не заключал! Что если эта фирмочка – есть подставная германская компания, которая хочет нарушить внутренние водные перевозки Алтая до железной дороги? Да и на железной дороге, я слышал, уже австрийские пленные-рабочие бастуют! Как вы считаете, гражданин ротмистр, такое может быть?
– Гражданин Мельников конечно капиталист-миллионщик, – вставил слово Титов, – но его почему-то заботит судьба солдат на фронте и интересы России. Чего не скажешь о наших новых властных структурах на всех уровнях. Увы, эти господа умеют только критиковать царское самодержавие, произносить громкие речи о народных судьбах, а на деле выпускают указы об отмене единоначалия в армии, ведущие к полному развалу оной, указы о полной отмене внутренних силовых органов, в результате которых обычные граждане остаются один на один с уголовниками и террористами…
Казанский вспылил:
– Ну почему же мы ничего не умеем делать? Мы в городе наконец-то приняли решение проводить водопровод – раз! Будем строить Народный университет – два! И главное сейчас – посадка картошки всем населением, помощь солдатским семьям посевным материалом, землей, доставкой на поля. Эту проблемы решаем в первую голову! И решим, что бы нам это ни стоило! Мы не допустим голода в городе! Кстати, Василий Михайлович, что там с пособиями на солдатские семьи, второй месяц их не выплачивают! Да-с, вот мой вопрос комиссару Временного правительства: «Какого черта нет денег солдаткам и солдатским вдовам?»
– Извините, не по адресу: я по министерству юстиции числюсь, а не по министерству финансов. Разберемся, дорогой Порфирий Алексеевич, со всеми вопросами разберемся, дайте срок. Но вот кредит беспроцентный на покупку дома я тебе готов обеспечить хоть сегодня. Вы просто не представляете себе, господа, по какому краю пропасти смог пройти Керенский, чтобы овладеть ситуацией в Петрограде, когда уже в Таврический дворец влез с черного хода Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Именно они имеют влияние на 170 тысячный гарнизон, стоящий в Петрограде, разложенный их революционной пропагандой. Что бы там ни вещали все эти князья львовы, именно Александр Федорович Керенский смог обуздать вепря, заставил подчиняться легитимной власти.
– Встав во главе питерского Совета? – меланхолически поинтересовался ротмистр Титов, так и не притронувшийся к своей рюмке.
– Да, черт возьми, хотя не совсем во главе… стал заместителем председателя Петросовета. Но это было совершенно необходимое решение. Оно спасло ситуацию, спасло революцию!
– Значит, теперь у Временного правительства легитимность, а у Петросовета 170 тысячный гарнизон. Эфемерное равновесие, одна видимость его. И на основе этой видимости, Временное правительство собирается ввести закон о правах солдата по всей России, солидаризуясь с Петросоветом, что ввел его для питерского мятежного гарнизона. Собираетесь пойти на отмену единоначалия в армии, узаконив войсковые комитеты, тоесть, официально разрушая армию по всей стране и даже на фронтах? Это будет конец армии и государства в военное время, вы понимаете, что делаете? Это будет поражение перед всеми врагами сразу!
– Это происходит под страшным давлением Питерского совета рабочих и…
Титов тихонько рассмеялся:
– Кого? В длинном списке руководства Питерского совета рабочих и солдатских депутатов всего один рабочий, воспитанник воскресных школ и Тихорецких железнодорожных мастерских. Но именно его имя стоит первым в списке создателей: Гвоздев Кузьма Антонович, это рекламный проспект Петросовета. Якобы им управляет рабочий металлист, настоящий слесарь. Для этого мятежные войска специально атаковали тюрьму Кресты, вызволив оттуда Гвоздева, после чего немедленно был организован Петросовет с его первым именем в списке. А на деле включили беднягу в качестве члена президиума – заседателя. А кто руководит на самом деле? На втором месте главного списка Борис Богданов. Тут не пахнет, извините, ни рабочим ни солдатом. Послушайте, Василий Михайлович, признайтесь, вы же масон, член тайной ложи Великого Востока народов России.
– Откуда вы знаете?
– По долгу службы: я жандармский ротмистр, Василий Михайлович, нам надобно помнить имена нынешних террористов, бывших народовольцев, анархистов и в том числе… членов тайных обществ…
– Мы сеем доброе, вечное… тоже без лишнего афиширования, без саморекламы.
– Само собой, разумеется, никто не против: сейте. Очень удачное начинание. Вот вы однажды баллотировались в Третью Думу, но не прошли, а в 1912 году, как вступили в Ложу народов Востока, так сразу и пожалуйста, в Четвертой Думе оказались. И ваш руководитель думской фракции трудовиков Александр Федорович Керенский из той же тайной ложи… И Чхеидзе и многие-многие другие. Да, Борис Богданов, фактический организатор Петросовета, второй в списке, непристанный радетель за права рабочих родился в богатейшей еврейской семье одесского купца 1 гильдии, сам выпускник Одесского коммерческого училища Николая 1, женат на дочери казенного раввина Одессы, купца 1 гильдии Абы Дыхно. Ну что ему рабочие? Что крестьяне? Просто он тоже член ложи Востока народов России. Далее, третьим в списке организаторов Совета питерских рабочих идет Чхеидзе, грузин, дворянин, депутат Госдумы. Этот, судя по всему, пролетариат в глаза никогда не видел. Пытался учиться в двух университетах, отовсюду изгнан по неспособности. Зато перевел на грузинский язык «Манифест Коммунистической партии», посему считался самым образованным марксистом на Кавказе. А в Питерском Совете и Думе оказался тоже благодаря масонству. Был посвящен в масонство в петербургской ложе союза Великого Востока Франции – истока и прародителя вашей ложи, а потому он еще и член «думской ложи» Великого Востока народов России, и глава Исполнительного комитета Петросовета.
– Ну и что? Вы это, собственно, к чему ведете?
– Да к тому, что ложа Востока народов России наложила свои яйца не только в Госдуму, но и Петросовет. Послушайте еще: вот Матвей Иванович Скобелев, русский, но увы, жил за границей на средства партии РСДРП, и опять член масонской ложи Великого Востока народов России. То есть куплен целиком с хвостом, рогами и копытами. Потому и стал заместителем председателя Петросовета.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63076797) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сергей К. Данилов
Более ста лет назад в Барнауле случился пожар, уничтоживший всю его центральную часть и оставивший без крыши над головой более 20 тысяч человек. Официальной причиной пожара в советские времена было признано неосторожное обращение с огнем начальника пожарной части города при смолении им лодки у себя во дворе. Однако свидетельские показания местных жителей на суде, состоявшемся в двадцатые годы прошлого века, на которые власти постарались не обращать внимания, называют другие причины катастрофы. Книга содержит нецензурную брань.
Барнаул-517
Сергей К. Данилов
© Сергей К. Данилов, 2021
ISBN 978-5-0051-6967-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
БАРНАУЛ-517
Глава 1
«Милая, добрая, чудесная моя Анастасия!», – прочла она первую строку письма, вспыхнув ярким румянцем гимназистки, получившей первое признание в любви, инстинктивно оглянулась по сторонам: не увидел ли кто, не дай бог, как некто приблизился и внезапно объял ее столь горячими и нежными словами!
Никого рядом не было: на крыльце сельской школы Анастасия Павловна стояла одна, верховой объездчик, передавший ей письмо, лихо пришпорив коня, ускакал по песчаной дороге, не вполне еще просохшей от недавно сошедших сугробов.
Письмо было не от мамы – слишком красив и каллиграфичен почерк… на какое-то мгновение мелькнула нечаянной искрой догадка, что написано оно рукой преподавателя русского языка их женской гимназии Николая Феоктистовича Шубина…
Хорошие почерки все одинаковы – ибо ставятся с единого для учебных заведений империи образца на уроках чистописания.
И одновременно сделалось ей вдруг предельно ясно, как недалеко она ушла от прежней гимназистки Настеньки за год, проведенный в ипостаси взрослого человека – учительницы сельской школы Анастасии Павловны, хотя где-то в глубине души по-прежнему оставалась все той же гимназисткой Барнаульской казенной женской гимназии, здание которой двухпалубным кораблем вознеслось на пересечении улицы Пушкинской и Соборного переулка, и в стенах которой было проведено ни много ни мало – восемь незабвенных лет, и где Николай Феоктистович пребывал не только строгим наставником, а еще и душой гимназического общества, заведуя проведением вечеров с танцами, играми, а также постановкой спектаклей силами учениц 6 и 7 классов. В довершение всего он по-отечески заботился о дальнейшей судьбе выпускниц старшего педагогического класса гимназии, искал для особо нуждающихся места службы, чтобы не слишком далеко уезжать от родительского дома. И для Насти в новой Власихинской сельской школе нашлось место не без его участия, за что она безмерно благодарна своему учителю.
Так от кого же тогда письмо?
По немецкой фамилии адресата и штемпелю барнаульского лагеря №161 для военнопленных австрийцев и германцев она не без труда, но все же припомнила человека, от кого могло прийти нежданное послание: человека по имени Пауль, вроде давно забытого, неинтересного, пустопорожнего прилипалы, с которым случайно встречалась пару раз на дороге, и который при этом оказывал ей шуточные знаки внимания, нижайше кланяясь в пояс, и, сняв треух, махал им так широко, что начерпал много снега с верхушек сугробов, но, как ни странно, чувство восторженной благодарности вызванное необычным обращением отнюдь не растаяло, а в некоторой степени перекинулось на образ низкорослого, почтительно-глуповатого пленного австрийца в сером заячьем треухе, потрепанной иноземной шинели да валенках не по размеру, но с заворотом, который пытался этой зимой идти рядом по узкой тропинке и постоянно проваливался в сугроб, громко хохотал, тараща и без того круглые навыкат оловянные, неприятные, будто замороженные, рыбьи глаза.
Вернувшись в классное помещение, Анастасия Павловна продолжила чтение нежданного послания от невзрачного австрияка, виденного у хутора колониста Визе, и который в ту зимнюю пору, провожая ее вдоль заснеженной реки, безуспешно пытался взять под руку. По какому праву смел вести себя подобным образом? Она не давала к тому ни малейшего повода! Впрочем, нынешняя благодарность за чудесные слова из письма, которых до сей поры ей никто не говорил и не писал, значительно превысила строгие вопросы. На юном лице учительницы рдела смущенная улыбка.
Занятия уже окончились, немногочисленные учащиеся разошлись по домам, одна только Верочка Маслова замешкалась, глядя в окно, – поджидала старшего брата, который сегодня что-то не спешил забирать ее. Верочка и сама бы прекрасно добралась до дому, чай не злая метель на дворе, но Михайла настаивал, чтобы она дождалась его, он обязательно придет, и сестра догадывалась почему…
Причиной тому была их учительница Анастасия Павловна – высокая, стройная девушка, в белой блузке с черным строгим бантом и черной длинной юбке, которая стояла сейчас с письмом в руке возле классной доски, увлеченно его перечитывая.
Слова «чудесная моя» удивляли и радовали вновь и вновь необыкновенной, первозданной невесть откуда взявшейся силой открывшихся внутри ее самой чувств – хотелось перечитывать их сто тысяч раз подряд, ощущая чувство невесомого полета, снившееся в детских снах. В них была скрыта первозданная тайна жизни: действительно, почему почти незнакомый доселе человек произнес их вдруг, вернее написал, спустя два месяца после их случайной встречи? И отчего они так сильно воздействуют, вызывая прилив эйфории? Не означает ли это, что все прошедшее время тот незнакомец лелеял в глубине души воспоминания, непрестанно думая о ней, и вот чувство… любви переполнило его и он решился наконец излить его письменно? Значит существует все-таки в божьем мире человек, который думает о ней каждый божий день, носит ее образ в своем сердце, непрестанно видит перед собой… а значит… любит? Кто-то еще, кроме мамы…
Нет, совершенно другое это было чувство, нежели то, что Верочка испытывала прежде к гимназическому преподавателю Николаю Феоктистовичу, даже когда в седьмом классе считала, что влюблена безмерно, а вспоминала – непременно с восхищением. Теперь ей очевидно – то была благодарность. Ведь именно Николай Феоктистович убедил маму, что дочь ее обязана продолжить образование в восьмом педагогическом классе, дабы приобрести профессию учителя. Говорил о святой миссии и долге перед народом, уверяя, что Анастасия обладает всеми необходимыми качествами и талантами нести доброе и вечное. Вопрос упирался в деньги, необходимые для оплаты – требовалось найти уже восемьдесят рублей месячной оплаты для обучения в педагогическом классе, против семидесяти рублей в седьмом классе. У них в семье таких денег не было: после смерти отца в 1912 году, плату за обучение Насти вплоть до 7 класса вносила владелица барнаульского пароходства Евдокия Ивановна Мельникова, кроме этого она выплачивала вплоть до весемнадцатилетия Насти половину отцовского жалования, которое тот получал в пароходстве, служа коммерческим агентом, сопровождая торговые грузы, перевозимые на судах по Оби, Бии, Томи от порта погрузки до склада пункта назначения.
Шубин лично поднёс госпоже Мельниковой прошение с просьбой оплатить и дополнительный педагогический класс, после которого Анастасия получит соответствующий диплом, позволяющий претендовать на вакансии учителя начальных школ министерства образования или даже подготовительных классов гимназий, тем самым сможет обеспечить и себя, и престарелую мать.
Они ходили к Евдокии Ивановне вместе с Шубиным, и когда тот подал прошение, Мельникова, посмотрев на Настю долгим испытующим взглядом, спросила не у нее, а у матери, нет ли на примете достойного жениха, желающего вступить в брак с выпускницей гимназии, где ее за семь лет учебы в достаточной мере должны были обучить не только латинскому языку и арифметике с тригонометрией, но и ведению домашнего хозяйства. И что она бы предпочла в память о заслугах папеньки Анастасии, который на протяжении многих лет являл собою безупречный образец ответственности для всех прочих служащих пароходства «Мельникова и сыновья», дать ей приданое рублей пятьсот, чем за те же деньги пускать ее по опасному пути «синего чулка», что в пору французских веяний на Россию может привести ее в лагерь феминизма и прочей социальной ереси, коими забивают головы молодых людей, дабы отвлечь от главного – создания семейного очага.
При этих словах Николай Феоктистович потупился, покраснел, но сдержался, не молвив слова против.
– Да что вы, сударыня Евдокия Ивановна, ей еще только шестнадцать, – сказала матушка, – и нет у нас никаких женихов пока на примете…
– А сама ты, милая, что скажешь?
– Я хотела бы стать учительницей начальных классов, детей грамоте обучать, а замуж пока не хочу, не думала еще…
– Думать о сём, голубушка моя, обязаны в первую голову родители, да ну ладно, из уважения к покойному вашему батюшке, сумму на обучение выделяю. Но, поверьте, с большим бы желанием дала приданое, видит бог, шестнадцать лет для девушки – замуж в самый раз, ежели, конечно, за хорошего и разумного человека…
И вот, милостью божией, все, о чем мечтала Настенька и мать ее, при поддержке добрых людей – учителя Шубина и госпожи Мельниковой, сбылось: она учительница, кормилица своего небольшого семейства, проработала без единого срыва целый учебный год в новой сельской школе, где вела два класса. Хотя и здесь не обошлось без помощи добрых людей, например, Верочкиного брата…
Всем им она благодарна: и Николаю Афанасьевичу, ему больше всех, с его поистине отцовской заботой, и строгой благодетельнице Евдокии Ивановне, взявшей с нее обязательство иметь высочайшие баллы по обучению и непременно похвальное поведение, в противном случае оплата за образование производиться не станет… но ничто теперь не в состоянии сравниться с простыми словами: «Милая, добрая, чудесная моя Анастасия!». Так что же теперь получается, что судьба ее… решена?
Совсем недавно, кстати, пришло письмо от Николая Феоктистовича с приглашением «… посетить в конце мая месяца, 31 числа, праздник, посвященный 40-летию Барнаульской женской гимназии, которую Вы имели честь окончить в 1916 году с Похвальным листом», и письмо сие начиналось совсем по-другому: «Милостливая сударыня, Анастасия Павловна!»
Первоклассница Верочка смотрела через стекло на дорогу, по которой уехал объездчик и должен был прийти старший брат Михаил, добровольный помощник учительницы, по зимнему времени школьный истопник и дворник. По лицу ее быстро-быстро катились слезы.
– Анастасия Павловна, я в школу ходить больше не буду…
– Отчего вдруг? Посевную начинаете?
– Тятя сказал: «Читать – считать научилась, и хватит для девки. Дома будешь главную науку проходить: шерсть прясть, варежки с носками вязать, лён ткать, да щи варить, а еще огород садить-полоть, за младшими детьми смотреть»… На поля все завтра выезжают, я дома с младшими за няньку остаюсь…
– Не расстраивайся, Верочка, в оставшееся время ничего нового изучать больше не будем, а в начале следующего учебного года обязательно приду к вам домой, и уговорю твоего отца, чтобы отпустил тебя учиться дальше, обещаю! Ведь писать-считать – слишком мало для современного человека. Конечно, летом у вас работы много, на то и каникулы предоставлены, а на зиму отпустит тебя тятя в школу, вот увидишь!
– Правда?
– Конечно, не плачь раньше времени, вот и брат пришел за тобой, а ну, вытри-ка слезки… да беги к нему навстречу.
Верочка, улыбнувшись, вышла из класса на школьное крыльцо, а Настя продолжила чтение письма.
«Помню, как мы гуляли по берегу реки, моя рука коснулась Вашей – и душа запела песню любви…»
«Экий, право, выдумщик!»
Провожать от хутора колониста Визе, где она три раза в неделю занималась с детьми хозяина русским, французским и латынью, для подготовки к поступлению в городскую гимназию, действительно провожал… но никакой «песни любви» не было в помине… тогда… а вот теперь от письма, от слов «чудесная моя», просмотренного десять раз кряду… и от раза к разу все более притягательных… вдруг… Она быстро дочитала письмо, в конце нахмурилась и снова вышла подышать на свежий воздух.
В течение долгой сибирской зимы основными внеклассными работами учительницы оказались отнюдь не проверка тетрадей с домашним заданием, как ей думалось прежде, но чистка снега на школьном дворе, топка школьной печи, уборка классных помещений. С утра пораньше, много прежде начала занятий, зимней ночью, по кромешной темноте, следовало наколоть дров, успеть растопить печь, дабы учащиеся пришли заниматься в теплое помещение, натаскать ведрами в бадейку воды из колодца, а по окончании пяти уроков, выгрести золу и закрыть печные вьюшки, чтобы школу к утру не выстудило совершенно, произвести влажную уборку всех помещений школы, приготовить пособия к следующему дню занятий…
Зарплату учительнице платил учебный округ, ставки же истопника и уборщика в школьной ведомости почему-то отсутствовали. По мнению министерства просвещения, дрова для отопления сельской школы обязаны были поставлять крестьяне села, чьи дети ходят в школу, они же должны исполнять прочую черную работу, как некий образовательный крестьянский оброк.
Заставлять учащихся самих топить печи, таскать воду, мыть полы, чистить двор от снега, то бишь эксплуатировать детей, казалось Анастасии Павловне делом совершенно невозможным. Ее обращение к сельскому старосте окончилось ничем, тот уехал в конце сентября в Барнаул на ярмарку и застрял там со своей торговлей надолго, потому учительнице самой пришлось мести полы в классах, а по холодам и топить печь, испросив детей приносить с собой каждому по полену.
Когда с Покрова наступили уже серьезные холода, незадачу с дровами и печью самовольно решил неприметный с виду деревенский парень Михаил, брат одной из учениц: однажды вдруг подвез на дровнях к школьному двору целый воз березы, в тот же день испилил стволы на чурки, а затем и вовсе удивительно, – начал каждое утро приходить с утра пораньше колоть дрова и затапливать печь, натаскивал в бочку воды из колодца для умывальника и питья. Сказал, что у него есть на это поручение сельского схода. Полов, правда не мыл и сор не мёл, золу тоже не всегда выгребал, лишь только когда приходил забирать сестру по сильному морозу или метели.
Прочие дела, не относящиеся к топке печи, у Настеньки и самой получались неплохо, ведь в Барнауле они жили вдвоем с матерью в своем домике на небольшое пособие за умершего отца, прислугу нанимать было не на что, все приходилось делать самим и по дому, и по огороду, но помощь Михаила она приняла с великой благодарностью.
Ей только одно странным казалось – вот он так лихо колет березовые чурки: раз – два и нате вам, пожалуйста, набралась большая куча сахарно-белых поленьев. Мог бы за час по хорошей погоде днем наколоть большую поленницу про запас, которой ей хватило бы на месяц с избытком топить самой – чай не барыня, и в таком случае ему не обязательно бегать в школу каждое утро – дети сами прекрасно добирались по хорошо наезженной зимней дороге, когда не было сильной метели.
Она не однажды пробовала объяснить добровольному помощнику про ту очевидную экономию времени, которая могла при том для него образоваться, однако Михаил лишь отмахивался: нет у него сейчас времени лишнего, вы, барышня, хотя бы золу выгребайте сами, и на том спасибо, руки только не обожгите, а растапливать печь – это с неумения можно пожар устроить запросто, и школу спалить, не дай бог… снег он тоже расчистит возле школы и дорожку разгребет для ребятишек от дороги к крыльцу. К колодцу – само собой. На том их разделение труда и состоялось: на две неравные, но справедливые части.
Когда Михаил находил время прийти за сестрой к концу уроков, он частенько задерживался долее, садился на крылечке, пока она мыла полы в классных комнатах, ждал, потом запирал дверь на большой амбарный замок, прятал ключ в условленное место. Брал сестру Веру за руку, и они уходили в одну сторону, Анастасия Павловна – в другую. Она жила неподалеку на квартире у одинокой бабушки.
По ранней осени еще, в сентябре месяце, с завершением хлебной жатвы, Михаил высказал осторожное любопытство:
– А почему вы, Анастасия Павловна, на сельские вечёрки никогда не ходите?
– Я учительница, мне надо вечером к завтрашним занятиям подготовиться, потому и некогда плясать на лугах, – ответила она.
– Это конечно, – согласился он как-то сразу, без сопротивления, будто ждал подобного ответа и даже надеялся на него. – Я тоже в последнее время не хожу. К чему? Все равно скоро в армию идти, зачем на фронте лишние переживания? От дела только отрывать будут…
Сегодня брат с сестрой тоже задержались во дворе школы, явно дожидаясь учительницу попрощаться.
Разумеется, Анастасия прекрасно понимала изначальную причину всех этих добрых дел, никем не называемую, по какой Михаил вызвался быть школьным помощником и делал все, что от него требовалось, и много свыше того с веселым задором быстро и споро: чтобы в школе было тепло, топил печь с раннего утра, торил детям дорогу на легкой кошевке, занесенную за ночь, а в большой мороз собирал их по домам, укрывая большим тулупом и привозил «в учебу», передавая с рук на руки Анастасии Павловне.
Понимала, была благодарна, но несколько досадовала про себя по той причине, что крестьянский сын Мишка Маслов не мог быть героем ее романа. Анастасия Павловна воспитана была на книгах из бесплатной городской библиотеки и частенько грезила образом прекрасного рыцаря настолько сильно, что отвергла партию, предложенную ей по окончании гимназии приказчиком ближней скобяной лавки, вполне приличным молодым человеком, всегда хорошо и чисто одетым, тоже частым посетителем библиотеки и чайной при ней, игравшего даже спектакли в самодеятельной труппе Народного дома.
У них был тогда долгий разговор с маменькой, которая в конце концов приняла сторону дочери – «раз не нравится, нечего и свататься». Можно было полагать, что кто-то спрашивал маменьку, можно ли заслать сватов, не будет ли «от ворот поворот», как говорится, что считалось позорным для жениха. Маменька после их разговора с дочерью кому-то сообщила их совместный отрицательный ответ и сватов не прислали.
В постскриптуме удивительного послания адресат сообщал, что никто кроме нее не сможет вызволить его из беды, в какую он попал, молил о помощи, так как знакомых у него в Барнауле и всей Сибири нет, одна надежда на доброту и милость бесценной Анастасии Павловны. Перепад от первых радостно-воздушных строк к завершающим трагическим так ее тронул и взволновал, что юная учительница тут же решила срочно ехать в Барнаул, спасать человека, нет, не любимого, но во-первых, столь в ней нуждающегося, и во-вторых, столь сильно ее любящего. Тем более, что учебный год завершался на следующей неделе, всю программу и в первом, и во втором классе они прошли.
Перед наступлением нынешней ранней весны, а стало быть неурочной посевной, оба класса ее с каждым новым днем сильно сокращались в численном составе. Вон и Верочка завтра не придет… Анастасия Павловна еще раз перечитала письмо, неожиданно для себя решив окончить учебный год сегодняшним днем, а самой выехать в Барнаул как можно скорей – надобно выручать человека из каталажки, куда его закрыли власти за пение песен в ночное время. А если душа поет, то что? Сразу в тюрьму?
– Здравствуйте, Михаил!
– Будьте здоровы, Настасья Павловна!
– Верочка сказала, что скоро на поля выезжаете?
– А что? Земля готова, погода хорошая, я там уже и времянку подправил – за зиму все ветшает быстро, у печки трубу переложил, протопил, как следует, чтобы стены просушить, палати подлатал… Школьной-то работы у меня боле нет: снег на дворе стаял, солнышко пригревает, будто лето настало… печку топить не надо… А что у вас настроение невеселое? Пострелы, небось, баловались? Или из дома вести плохие, – он кивнул на конверт, лежавший на столе, и письмо, которое учительница по-прежнему держала в руках, а при словах Михаила убрала за спину.
– Да… неважные… Михаил, мне надо срочно уехать в город по семейным обстоятельствам. Вы не оповестите всех учеников, что школа до осени закрыта?
– Раз надо, так надо. Не сомневайтесь, объявим. Только вы уж осенью-то к нам опять приезжайте, будем ждать. Вы в Барнаул прямо сегодня хотите уехать?
– Хорошо бы прямо сейчас… вещи только соберу… их у меня немного… и хозяйку предупрежу.
– Наш сосед, Фрол Никитич, в кооперативный магазин собирался за семенами, я сейчас сбегаю к нему, попрошу, чтобы за вами заехал, хорошо?
– Хорошо бы, Михаил…
– У него кобылка резвая, дрожки на резиновом ходу, скоро доставит, ладно, мы тогда бегом побежим, а то вдруг не успеем перехватить… Если не получится с ним договориться, я к вам приду – про то скажу.
Михаил с Верочкой наперегонки кинулись бегом в свою сторону. Анастасия Павловна пошла собирать вещи. Удача способствовала ей, скоро она уже выезжала в дрожках за околицу.
Сопровождавший отъезд Михаил все порывался что-то важное досказать на прощание, несколько раз обращался громко, с торжественным выражением: «Анастасия Павловна!», но тушевался и скоропалительно принимался излагать обыденные вещи, чтобы она не беспокоилась насчет дров: к осени он заготовит хорошую поленницу, и наколет заранее, как она просила… Топить будет каждый божий день без пропусков, и снег грести обязательно, и воду носить, и все, что надо по школе сделать… в лучшем виде…
– Ладно, прощевай, Мишка, – возница хлестнул лошадь, дрожки легко покатили по ровной песчаной дороге.
Провожатый заспешил следом уже легкой трусцой, на лице его застыло выражение крайней растерянности.
– До свидания! – выкрикнул он вдогонку так громко, будто они отъехали слишком далеко, сам продолжая мчаться за бричкой быстрыми прыжками. – Осенью ждать будем, Анастасия Павловна, вы приезжайте обязательно, мы дров для школы много заготовим… до свидания! – наконец, остановился и пропал позади.
– Так бы до города и доскакал иноходью, помощник выискался… – Фрол Никитич усмехнулся в пышные усы, однако, глянув на расстроенное лицо учительницы, решительно сменил тему. – Хочу сегодня успеть на базаре семян сортовых взять, урожайных, там где-то кооперация свой магазин, говорят, открыла, попробуем по агрономии работать. Может, и успею еще, вас куда надо будет доставить, на какую улицу отвезти?
– Полковую знаете? В Марьиной роще…
– Куда покажете, учительша, туда и довезем, прямо до крылечка доставим. Дорога, смотри-ка, здорово подсохла, и ветер с юга горячий надувает… пора, пора пришла сеять… почем, интересно, сортовая пшеница у кооператоров и так ли хороша, как пишут? Сроду не брал… своей обходился али базарной… а тут в газете кооперативной объявление почитал, что в их магазин ныне поступили семена большой урожайности, очень сделалось мне интересно… взять надобно на пробу, посеять делянку, посмотреть, что получится? Порфирий Казанский ту статью написал, знаете такого? Он раньше в Барнауле газетчиком был, «Жизнь Алтая» выпускал, а теперь организацией крестьянской кооперации занялся, говорят, его за это даже гласным Думы избрали. Судя по статьям о ведении хозяйства, – умнейший человек тот Порфирий…
Учительница сидела, сжавшись, держа руку на корзине с вещами, уставленную на сиденье промеж ею и возницей. Почти сверху, под платками, лежало письмо, так круто и вдруг переменившее ее жизнь. Она будто бы внимала соображениям крестьянина по поводу кооперации, успехи которого были особенно велики в маслоделии, благодаря железной дороге и вагонам-морозильникам, поставлявшим сливочное масло и сыр в центр России и даже за границу… кивала, иногда говорила «да, конечно», а сама слушала, как бьется собственное сердце и с огромной радостью понимала, что ее настигла любовь.
Одно лишь непонятным оставалось – чувство зажгло небольшое письмо, лежавшее в корзинке, которого теперь она касалась пальцами: прежде к человеку, написавшему его, она была абсолютно равнодушна. Да что там, толком не помнила даже. И помнить не желала. И эта гигантская разница меж тем, кто провожал ее по утоптанной в снегу тропке, и тем, кто сказал, будто вслух, «чудесная моя», была огромной, непреодолимой, в то время, как им являлся вроде бы один и тот же человек… А вдруг не тот? Может быть, она ошибается? Что произойдет, когда они встретятся? Исчезнет ли жар в груди, от которого приятно кружится голова, как от букета сирени, брошенного в раскрытое окно… или станет еще сильнее? Ей бросали уже, но то совсем другое, а тут все сильней и непреодолимей, как будто судьба говорит свою речь… А приятное кружение со слезами радости бывало и от прочитанного романа со счастливым концом… Маменька возражала против ее увлечения романами, взятыми в библиотеке Народного дома… и, конечно, не отпустит ее идти вызволять Штихеля из кутузки, куда беднягу посадили за громкое пение немецких песен посередь ночи в спящем городе Барнауле… нет, ей надобно сразу ехать в лагерь, не заезжая домой… маменька или не пустит, или поедет с ней, а это неправильно… девушка должна сама спасти возлюбленного: так пишется в романах и даже сказках Ганса Христиана Андерсена! А в русских – нет, там наоборот.
И почему ее умнейшая родительница выступает против чтения любовных романов? Особенно ополчилась после случая с одноклассницей Насти по гимназии, красавицей Марией Лисовской, дочерью городского головы и статского советника Лисовского, что исчезла из города, не завершив образования. На переменах гимназистки старших классов обсуждали шепотом, что не просто так скрылась Марыська, – папаша увез ее от молвы подальше в какую-то деревеньку рожать. А виною сему обстоятельству является библиотекарь Общества попечения народного образования – маленький тщедушный Иоганн Фогель, по прозвищу Мокрица, с блеклыми глазами навыкат, всегда потными ладонями, худой морщинистой кожей, все время ломающий пальцы от трагического переизбытка чувств. Он действительно входил в труппу самодеятельного театра Общественного собрания. Любил рекомендовать гимназисткам и прочим дамам книги фривольного содержания, и давая тихие рекомендации с многозначительными намеками, приближал губы к женскому ушку, шептал, слегка придерживая за талию… али плечики.
Переводные издания Мопассана, Золя и прочих менее известных в плане литературного мастерства, зато с более изощерёнными в подробностях любовных сцен, до чего тароваты французы, не были утверждены для чтения в городских библиотеках, но библиотекарь снабжал ими молоденьких дам из-под прилавка.
«Милая моя дочь, знание из книг полезны в области наук, – наставляла маменька, – а в области чувств должна сохраняться сокровенная тайна и первозданная чистота. Для счастливого брака жена должна быть первой женщиной у мужа, а он должен быть первым мужчиной в ее жизни. А то представь себе: девушка читает роман и, хочешь не хочешь, проникается думами, ощущениями и любовями героинь, вместе с ними постигая таинство любви, и раз и два и три, становясь тем самым… душевно пресыщенной дамой в совсем юном возрасте. Она тогда и в замужнем состоянии будет сравнивать мужа с романными героями, с которыми пережила первый душевный трепет, от того герои будут казаться ей лучше, ибо все, впервые прочувствованное оставляет более глубокий след в душе, что же тогда будет с ее замужеством? С семьей? С детьми? Все станет ей постыло… Словесный блуд самый худший, ибо в начале было слово… и в начале любого греха, и в начале добродетели… и, поверь, дурное слово, напечатанное и растлевающее душу – есть самое ужасное из нынешних пороков, уж я за жизнь свою того навидалась достаточно, хоть в гимназиях не училась. Отсюда следует, что девушка – изначально невинное дитя, – прочитав десяток-другой любовных романов, как бы пережила любовные связи, выпавшие на долю героинь, с десятком мужчин, и, развращаясь умом, бессознательно становится почти падшей женщиной, все время думая о греховном, начинает сама горячиться бессознательной страстью раньше времени… к любому случайному встречному-поперечному. Нет, дитя мое, прошу для блага твоего и моего: не бери эти книги ни в библиотеке, ни из-под полы… ни за деньги, ни бесплатно Знаю я, что ныне многие подрабатывают распространением запрещенной литературы…
Но откуда вам знать – про что книга написана, не прочитав ее, добрая маменька? Только от библиотечного просветителя господина Фогеля, то бишь, Мокрицы.
Нет, не пустит родительница на дело освобождения невесть какого пленного Штихеля, стало быть надобно ехать в Дунькину рощу сразу, не заезжая в родительский дом…
– А вы знаете, Настасья Павловна, что не первым учителем у нас во Власихе числитесь, до вас был человек – собирался школу строить на общественные деньги, давно, лет сорок тому назад. Слыхали. Нет? А вон, поглядите, видите земля пустая стоит – вербой заросла – она Штилькиной пустошью обзывается. Лет сорок тому назад один немец барнаульский по фамилии Штилька, говорили даже что дворянского он звания, в нашей Власихе истребовал эту землю под хозяйство, а чтобы местное общество к себе расположить, обещал, что школу для крестьянских детей здесь откроет и будет учить их всем наукам. Землю ту Штилька, конечно, получил, но из всех прочих начинаний один урон для местных жителей да пшик получился.
– Правильно – Штильке надо говорить, – подсказала Анастасия. – Господин Штильке в городе Барнауле организовал Общество попечения начального образования и заведовал им вплоть до своей смерти. Две школы Общество построило и Народный дом для проведения спектаклей, лекций и музыкальных концертов с библиотекой. Он был даже избран депутатом Государственной думы, но умер лет десять тому назад.
– Про то мы весьма наслышаны, матушка моя. А начинал все же Штилька здесь, у нас, я тогда пареньком был лет десяти – двенадцати, его видел и помню – уж очень большой конфуз произошел. Заезжие городские купцы рассказывали старикам нашим, будто батюшка евонный состоял казначеем всего Барнаульского округа, и сына своего в Томскую гимназию учиться отправил, а после гимназии прямиком в Петербург в университет на врача обучение проходить. Но тот высшего заведения не закончил, обратно вернулся. Толи денег не хватило оплатить у казначея округа на обучение сына, то ли с революционерами спутался и его выслали из столицы обратно к родственникам под надзор – доподлинно неизвестно, разное в народе говорили, но сам он, Штилька наш, по приезде во всеуслышание объявил, что, дескать, вместе с народом хочет жить пахать и сеять, сельским хозяйством заниматься. Что твой граф Лев Толстой. Земляной этот надел ему бесплатно из казенных земель сверху выделили без промедления, как вроде переселенцу. А какой он переселенец из столичных студентов во Власихинские крестьяне-огородники? Да никакой, естественно. Это же надо с малолетства науку крестьянскую познавать, к ней привыкать, от отца с матерью перенимать, ее в университетах не дают. О земле-то особый вопрос. Сказывают, когда в 63-ем году вышло освобождение приписных рабочих и казенных крестьян от заводской кабалы на серебряном Барнаульском заводе да рудниках, царь им дарственным указом отписал из казенных земель частные наделы близ Барнаула. Но тем землеустройством занимался не сам царь-батюшка, а кабинетные чиновники его величества, что сплошь и рядом из немцев состоят. Да и в округе нашем начальство сплошь немецкое, и стали они не казенным крестьянам землю нарезать, а своим колонистам немецким, которые либо здесь по разным ведомствам служили, и бесплатно хотели на земельке нажиться, либо из Петербурга прибежали за своей партией «Земля и воля», то бишь хождение в народ устроили вроде нашего Штильки, а настоящим крестьянам – шиш без масла достался. В Павловске так сильно переселенцев обманули с землей той обещанной и не даденой, что целое восстание поднялось, войска вызывали подавлять, много кого и в холодную тогда упекли…
Ну, вот. Стало быть, приехал из Петербурга наш Штилька-студент неудачный и говорит: «Я теперь крестьянствовать буду на своей земле!». Бауэром каким-то назвался. То бишь по-ихнему – знатным хозяином. Но с хозяйствованием у бауэра нашего нового не очень заладилось: ни коня сам запрячь толком не умел, ни за плугом пойти, известное дело – городской дворянин, казначеев сынок к тому же. И в наем к нему никто не пошел – платит мало. Немец – он всегда ведь хочет, чтобы русский на него за так работал, и желательно, чтобы на цепи сидел, видит в нас по-прежнему приписных казенных крестьян, только не к заводу царскому, а к своей собственной персоне. Господский народ немцы – ох, господский. Уразумел все же Штилька – ничего у него не получается с хозяйствованием. «Ладно, – говорит, – вы тут народ совсем темный, неграмотный, давайте хоть для детей ваших школу организуем, деньги на строительство соберем, шапку по кругу пустим, я со своей стороны купцов городских подниму на благотворительное дело, и разрешение от министерских властей вытребую на открытие сельской школы. Построим и будем детей учить письму и счету, и закону божьему, а выучатся они сим наукам, то потом хорошую работу в городе найдут и не станут горе мыкать, как вы мыкаете».
Мужики лбы почесали, бороды в кулаки сгребли да и решили, что школа – дело хорошее, надо сброситься на него, кто сколько сможет, леса купить да всем миром здание выстроить. Штилька шапку тогда на сходе о земь кинул – эх, была не была – свою землю под школу отдать вызвался: «Да на святое дело народного образования мне ничего не жалко, последнюю рубаху сниму». Видя такое истовое благочестие, мужики на сходе определили его казначеем школьным, ведь семейство благородное, дворянское, и папенька был казначей, и руку никогда в казну не запускал, раз сына не смог выучить на врача – вроде как денег не хватило. А если бы выучил – все равно приехал к нам младший Штилька и лечил бы всех бесплатно. Так все говорили друг другу. Ладно, год собирали взносы. Торгующие крестьяне – те помногу давали, кто и пять даже рублей, а то и червонец выкладывал, чтобы только дети – внуки грамотные были. Кто же о том не мечтает из нашего брата? Что бы спину всю жизнь не гнули на чужом заводе или в оброчном ярме? Набрали уже за полторы тысячи рублей. Штилька на каждом сходе по бумажке отчитывался складно, кто сколько сдал, и общую сумму называл, что раз от разу здорово подрастала. Пришла пора уже план архитектору заказывать, как вдруг обокрали нашего Штильку в дороге и, вроде как, его собственные деньги тоже отняли лихие люди, и всю школьную кассу заграбастали, которую он, как назло вез тот раз в Барнаул – в банк положить. Полиция искала разбойников по его описанию, да никого, само собой, не нашла. А ему шибко, видно, неудобно было перед обществом, что он больше после этого к нам во Власиху ни разу не приехал, будто зарок дал – ни ногой. Вот эта земля и стоит с тех пор сорок лет, Штилькиной пустошью зовётся, пребывая в его собственном владении. А он в Барнауле быстро женился на какой-то своей немке, в приданое взял пребольшущий дом. Ну, там тоже дело темное: кто говорит, что на приданное жены купил, другие бают, что на школьные, дескать, деньги – утаил их, а после недвижимое имущество приобрел, выдав его за приданое. И в доме том открыл для городских детей платную школу. Следом Общество свое организовал, купцов стал подбивать в его Общество деньги вносить на великое дело просвещения. И даже стал землеустройством заниматься для переселенцев. Но все время нелады случались по земельным вопросам в нашем округе, до бунтов дело не раз доходило. А когда мы новую, вашу, то есть, школу задумали в селе снова строить, обратились загодя к штилькам, наследникам его, царствие ему небесное, насчет участка – не отдадите ли на общественное благо под школу, как завещал ваш благородный папенька на общественном сходе сорок лет назад, тому и запись сохранилась у старосты? «Нет, – ответили те ходокам, – эта земля есть наше законное наследство. Ежели цену хорошую назначите – извольте, так и быть, уступим». Сами-то назначили в три раза дороже городской, ну общество от них и отстало. А ведь депутатом в Государственную думу был от нашего округа в свое время, из-за благородной своей репутации пекущегося о благе народном и денно и нощно, когда в Петербург переехал, аж в Кабинете царском работал по землеустройству. Но ни земли, ни школы от Штильки деревня так и не дождалась, а деньги общественные на нем большие потеряла, наше поколение неграмотным выросло в результате и дети наши тоже, такие вот дела со штилькиной пустошью, но, может, теперь внуки у вас, Анастасия Павловна, счету и грамматикам научатся.
Въезжая на Соборный переулок, Фрол Никитич обеспокоился: «Как бы кооперация не закрылась, может, сначала на Старый базара заедем?»
Но и Анастасия Павловна спешила по своим благодетельным делам, потому предпочла отпустить Фрола Никитича, поблагодарив, взяла извозчика на Конюшенной бирже и поехала вверх по Московскому проспекту к Лагерю, что за Дунькиной рощей расположен, где попросила охрану препроводить ее к начальству, скоро попав под ясные очи вахмистра Шарова. И с ходу устроила ему крепкий разнос, которого тот от миловидной девушки вовсе не ожидал: почему они, изверги такие, держат в темном холодном каземате военнопленного Штихеля, который всего лишь пел песни ночью? Ну да, свои немецкие песни! Что с того? Это, может быть, их народные песни! Человек в плену находится, и так скучает по родине, по отцу-матери! Он несчастный, слабый, больной человек! После свержения царского самодержавия никто не имеет права бросать человека в сырые застенки и темные казематы! Не для того монархию свергли, чтобы людей ни за что снова в карцеры бросать!
– Как зовут?
– Кого? Штихеля?… Пауль!!!
– Вас!
– Анастасия Павловна Долгополова, учительница…
– Откуда вам известен военнопленный австриец Штихель?
– Какая разница откуда?
– Извольте отвечать!
– Он… видите ли… я учительствую в селе и являюсь домашней учительницей на хуторе Визе… а он там работал у колониста Визе на строительных работах…
– Кем вам доводится военнопленный Штихель?
– …знакомый!
– Вы состоите с пленным австрийцем Штихелем в запрещенной переписке?
– Нет, конечно! Но по какому праву…
– Ясно. Дежурный, препроводите девицу в камеру заключения до выяснения вопроса и решения начальника лагеря.
Так учительница сельской школы и барнаульская мещанская дочь Анастасия Павловна Долгополова оказалась заключена в лагере военнопленных, проведя там ужасные вечер, ночь, день, опять вечер, и (о, боже!) еще ночь и половину следующего дня, в то время, как вышеупомянутый австрийский военнопленный лейтенант Штихель, которого она так героически мчалась спасать, давно был отпущен с гауптвахты специальным указом начальника лагеря, полковника русской армии, курляндским бароном фон Штауфе и жил-поживал в вольном граде Барнауле, Немецкой слободе, сразу за Аптекарским мостом, на квартире у аптекаря Майера, по соседству с тремя его дочками, такими озорницами, что доннер веттер! Аптекарь тот, несмотря на сухой российский закон, тайно приторговывал в своем заведении пивом, возя его аж от томского пивовара немца Крюгера. Для любимого квартиранта девицы Адель и Минна таскали пиво совершенно бесплатно прямо тому в комнату. Так что жил Пауль с пивом, девицами на полном аптекарском обеспечении, имея все жизненные удовольствия вдоволь, и пребывая, ровно как у Христа за пазухой.
Глава 2
Закинув одну премиленькую ножку на другую, тоже весьма недурную, обнаженная барышня восседала на низком подоконнике у раскрытого оконца, выходящего во двор, рядом с горшком цветущей герани, с блаженством покуривая. Время от времени она небрежным щелчком стряхивала сизый пепел в цветок, попадая то на мохнатенькие листики, то прямо на аленькие лепестки.
Ясное барнаульское утро выдалось по-летнему солнечным, теплым и тихим, а календарь, висевший в чистенькой комнатке на выбеленной перед Пасхой стенке, указывал апрель 1917 года.
Лицо барышни имело мечтательное, слегка сонное выражение. Сощуренные в узенькую щелочку глазки, свидетельствовали о полном удовлетворении прожитой ночью, рыжие, мелкие, как баранья смушка, кудряшки, за часы, проведенные на узкой скрипучей кровати, развились совершенно, и торчали ныне смешными рожками во все стороны.
Выпустив замысловатую струйку дыма, она коснулась снисходительным взором своего кавалера, который валялся на сбитой в комья постели, чрезмерно умаявшись за бурную ночь, похрапывая широко отворенным ртом, где блестели, отражая утренний лучик солнца, два вставных зуба.
Произведенный осмотр документов подтвердил, что прошлым вечером в электро-театре «Триумф», что расположен в пассаже Смирнова на Московском проспекте, при наличии зала более чем на триста мест, а так же, буфета с кофе, чаем, шоколадом, другими контрабандными товарами и напитками, продаваемыми Шпунтовичем совершенно открыто в своем барнаульском заведении, и, соответственно, среди самой разношерстной публики, она совершенно верно вычислила и смогла подцепить в привычном для себя безупречном стиле того, кто был ей нужен по делу чрезвычайной революционной важности, не вызвав при этом ни малейшего подозрения у окружающих. Высмотрела за три минуты образцово-показательного водевиля, среди множества австрийских масляных полупьяных морд, успевая вскидывать ножки на положенную высоту.
На сей раз нужным оказался бывший лейтенант 82-го пехотного полка австрийской армии, ныне военнопленный барнаульского лагеря номер 161, Фриц Краузе – тридцатилетний блондинистый немчура, имевший будто обожженную гладкую розоватую кожу на лице, испещренную давними отметинами оспы и уже наметившуюся на затылке плешью размером с детское блюдце. Белесая щеточка редких, истертых усов под узким, перебитым носом, короткая шея и развитая мускулатура плечевого пояса довершали видимую ей с подоконника картинку. Из невидимого: рост весьма и весьма средний, глаза выпуклые, серые, блеклого оттенка.
По вышеперечисленным приметам Дунька «сфотографировала» австрийца в «Триумфе», предварительно отмахав ногами на сцене перед началом сеанса кордебалет в виде рекламы летнего театра Общественного собрания, где их труппа с началом сезона готовилась ставить фарсы революционного сатирико-порнографического содержания про Распутина и фрейлен царского двора, недавно свергнутого самодержца Николая Второго, а также общую любовницу всея царской династии Матильду Кшесинскую. Сцена та находилась на пересечении улицы Томской и Соборного переулка. С мая месяца театр приступал к работе, о чём сообщал плакат, развернутый прошлым вечером в «Триумфе», и каждый вечер из оставшегося времени здесь, на сцене, перед началом сеансов, благодаря знакомству с владельцем электро-театра мил-другом гражданином Шпунтовичем, бывшим уголовным арестантом, а ныне даже и городским головой узловой станции Тайга, проходила рекламная предсезонная акция.
Коротконогий немец – явно любитель авантюр подобного толка – весьма легко на нее повёлся. «А что, пожалуй, сей бонвиан сгодится на уготованную ему роль в преддверии грядущих событий. Пожалуй, она готова поставить на него, как на «красное».
Докурив папироску, дамочка щелчком отослала окурок в куст смородины, росший у забора, и задорно тряхнула кудряшками.
По непривычно жаркой для апреля погоде, снег в Барнауле давно сошел, ручьи сбежали, горячее солнце основательно прогрело песчаную землю, и, хотя куст находился в вечной заборной тени, почки на смородиновых ветках давно раскрылись в чудно пахнущие листочки.
– Просыпайся, товарищ, – усмехнулась она, радуясь весеннему настроению природы и своим мыслям.
Встала с низкого подоконника, ухмыльнулась простовато, будто играя на сцене деревенскую дурочку в красном сарафане, которая скоро этот сарафан весьма выигрышно потеряет, чем вызовет бешеный восторг мужской публики летнего театра, потянулась недурно сложенным телом навстречу солнышку, раскрыв светилу бритые подмышки, потом рявкнула фельдфебельским басом:
– Штей ауф, комрад, ляха муха!
Во сне Краузе почудилось, что он у себя в австрийском городе Линце, казарме учебного полка, вроде как удрыхся в неположенное время, возможно даже прикорнул на караульном посту.
– Что? – вырвалось все же по-русски.
Фриц злобно выпучил оловянные зенки на невесть откуда взявшуюся гостью.
– Что-что, – передразнила девица, соблазнительно качнув бёдрами. – Пора, говорю, барин, расчет производить. С вас, господин хороший, причитается два рублика за оказанные услуги. Но если возжелаете чего дополнительно… могу еще разок прилечь… на посошок.
И доверчиво заморгала наивно вытаращенными глазёнками по углам скромно обставленный старушечьей комнатки с иконой и лампадкой.
Тоже оглянувшись по сторонам, Краузе не без сожаления осознал, что находится отнюдь не в Линце, и даже не галицийской хате, где дрых сурком накануне пленения, и уж, конечно, не в казарме сибирского лагеря 161 для военнопленных, но в комнате с отдельным входом, которую снял буквально вчера же у некой бабули на окраине сибирского города Барнаула под весьма секретную акцию на проведение которой, наконец, решилось местное немецкое командование в лице полковника фон Штауфе.
Вот только девицу эту легкого поведения за каким чёртом сюда приволок? Да еще распил с ней бутылку? Не сболтнул ли чего лишнего ночью? Откуда только взялась эта рыжая стерва?
Что стерва – совершенно очевидно. А насколько опасна в данной ситуации, необходимо прояснить как можно скорей. Краузе наморщил перебитый в драчливой юности нос, всегда первым чуявший неприятности, который ему совсем недавно подправили в деревне местные парни, и осмысленно заговорил на русском языке без всякого акцента, ибо по рождению являлся подданным российской империи, проведшим детство в Баку, где папа – истый немецкий националист, а дядя – немецкий социалист инженерили на нефтепромыслах Нобиля, фирму которого держал под контролем известный в местных кругах грузин по кличке Коба. Согласно происхождению, Фрицу самой судьбой предназначено было стать наследственным национал-социалистом, и он, как многие другие, давно стал им, то бишь, социализм Краузе полагал сделать государственной религией исключительно для немцев, и блага для народного немецкого социализма должны быть получаемы за счет прочих неарийских, а стало быть, неполноценных народов.
– Ты… кто такая?
– А Дунька мы, всем в Барнауле известная, – с веселой нагловатостью отвечала девица, жеманно поводя плечиками. – Дуня-Дуняша, радость ваша, аль забыли, господин хороший? Сами, небось, пригласили, да прямо с извозчика в постелю доставили прямым ходом на ручках. А таперича вспомнить не могут… мужчина неблагодарный, с утра пораньше с допросами пристает: как да кто? Дед Пихто и бабка Никто…
– Верно, как же… проститутка вчерашняя, припоминаю… Да и прежде… как-то… имел честь… встречаться. Нет? Ладно, барышня. не обижайся…. Я, видишь ли, сам люблю того… «кто не хочет иметь слишком много добродетелей». Так сказал однажды великий гений германского духа Ницше. Кофе есть?
– Кофия, сахарный мой, нету, могу сигаретку предложить. Али вам здесь квартирная хозяйка кофе варит?
– Нет, самоваром в сенцах можно пользоваться… Не вскипятишь ли чайку, прелестная фрейлен?
Однако барышня только мило улыбнулась, и вновь устроилась на подоконнике, потягиваясь с грацией ленивой кошки…
– Насчет чая с кофе скажу тебе, мил друг, следующее: понравился ты мне, немчура белобрысая… по женской нашей слабости… Вот как стану твоей фрау в Вене, а лучше даже Берлине, тогда… изволь… буду с утра слать служанку на… кухню… варить кофеёк… а пока… держи-ка папиросу… товарищ Краузе…
Раскурив, небрежно и точно кинула прямо в лицо. Краузе сигаретку успел словить, озадаченно затянулся, хмурясь от холодящего кровь ощущения, что где-то все же сболтнул лишнее… что было на него совсем не похоже. Вот не помнит он, что называл свою фамилию ночью… и вообще… зачем? В его нынешнем положении это особенно ни к чему.
– Дунька, значит… ну-ну…
– Не нукай, паря, не запряг ишшо… а хоть и Дунькой Беспортошной кликай, коли хошь… главное – чтобы нравилась безумно… Неужто и вправду имени не смог запомнить? Али не пожелали, господин хороший? Быстро у вас, муж-чин, я гляжу, память отшибает, за одну ночь, экий право… легкомысленный молодой человек оказались… но, конечно, весьма приятный… чего не отнять, того не отнять. В «Триумфе», не далее как вчера вечерком, вместе синематограф смотрели… обнявшись… душа в душу… и чего только мне на ушко не шептал в темноте, чего только не обещал… змий подколодный… Так это, миленький, как все же насчет оплаты? Обещания выполнять полагается, ваши благородия… а то сколько можно дурак-дураком валяться на чужих постелях, да расспросы производить, будто в полицейском участке? А ну гони-ка два рубля по-быстрому или квартального Гаврилу Степаныча кликнуть? Он тебе, немчура плешивая, враз объяснит диспозицию на местности…
Австрийский военнопленный флегматично затянулся слабенькой дамской папироской, лежал, не отвечая. Вдруг рассмеялся, указав на угол с иконой.
– Боженьку своего, зачем мордой к стенке отвернула? Чтобы лишнего не увидел?
– Само собой разумеется, а как иначе? Небось, накажет за грехи наши тяжкие… я есть девушка скромная, богобоязненная…
– Старая песня… можешь зря не хныкать. Постой-ка… богобоязненная… а Дунькину рощу, случаем, не в твою ли честь назвали? Ха-ха-ха! Там ведь, говорят, до войны публичный дом был?
Дунька презрительно сплюнула.
– А хотя бы и так, что с того? В доме том, на Волчьей Гриве, поблизости от полковых солдатских казарм я уже в «мамках» над девками состояла. А вот в Питере, гостинице «Европа» – да, накурулесила вдосталь, приятно вспомнить, товарищ! Да что сердце напрасно рвать – прикрыли в начале войны барнаульские гласные, черт бы их побрал всех разом, наш доходный домик в роще имени меня, красивой такой, чтобы мы, русские девушки, не достались врагу, то бишь, вам, австро-германским пленным басурманам ни за какие деньги, за два рубля так особенно… Пострадали мы из-за вас, гадов недобитых, в материальном плане страшно… Нынче в доме нашем театральная коммуна организовалась, номера сдаем заезжим, самовар кипятим за пятачок, а я, стало быть, тоже теперь… актриса…
– Актриса погорелого театра? Ха-ха-ха… – немец загоготал гортанно, раскрывая пасть даже шире, чем при храпе. – Вот уморила! А ну, брысь с подоконника, хозяйка со двора может увидеть, мне эту комнату сдали с условием девиц не водить… еще не хватало из-за тебя… Шнель, шнель, шортова девка!
– Слышь, ты, кобелина помойная, а ну, гони по-быстрому два рубля, не то кликну Гаврилу Степаныча! Он тебе рога-то в раз обломает!
– … ха-ха-ха! Не смеши, Беспортошная… разве ночью карманы не обшарила? Нет денег, последнюю ассигнацию вчера с утра отдал за комнату с бельем, мебелью и самоваром, а последний гривенник на извозчика спалил. Гаврилой своим не козыряй, мы хоть и пленные, но люди западом просвещенные: нет больше в вашем городе квартальных, всех вымели поганой метлой, вместе с царским самодержавием, стало быть, никто тебя не защитит, по причине революции, одевайся и вали на все четыре стороны, пока пинков не надавал!
– Есть, дяденька, новая городская милиция! – горячечно воскликнула Дунька тоненьким восторженным голоском, глядя через распахнутое окно в сторону уличной калитки, будто видя за ней свое спасение и поджидая его с минуты на минуту. – И еще у меня в народной милиции Совета солдатских депутатов хо-о-ро-шенький знакомый имеется!
– С прошлой ночи считай уже два знакомых, ежели со мной посчитать… Знаешь ли ты, дурная девка, с кем связалась? Я есть коммунист и напрочь отрицаю деньги! Я есть Фриц Краузе! Как честный немецкий пролетарий-интернационалист вступил в революционную народную милицию Совета солдатских депутатов и охраняю теперь город Барнаул от бандитов-уголовников, что с каторги едут, освобожденные Временным правительством. То есть, я – полицай здесь теперь и городовой, и околоточный, и коммунист. Поняла? Мы, коммунисты, считаем, что женщина должна любить мужчину свободным волеизъявлением, так Карл Маркс сказал в своем «Манифесте». Я есть немецкий коммунист, а ты русская женщина! Люби! Бесплатно! Исполнила свой природный революционный долг? Вали на все четыре стороны, не то – пристрелю контрреволюционную гидру и в аптеке заспиртую в качестве медицинского пособия для изучения!
– Размечтался, кобелина! Последний раз по-хорошему прошу: «Деньги гони!»
– Воистину прав великий Ницше: «Если идешь к женщине, не забудь плетку!»
– Могём и плёткой обработать, дяденька! Денюжку только давай – мигом разделаю под орех в лучшем виде.
– Молчать, дешёвка двухрублёвая!
Дунькины глазки полыхнули окаянными огнями.
– Слышь, ты, недобиток пленённый, а между прочим подружка твоего разлюбезного Ницше, Саломея Лу, тоже из Петербурга была, знаешь хоть про то? И жили они втроем, поживали: Саломея, Пауль Ре и Ницше. Надо сказать, драла она их плёткой по вашим немецким праздникам весьма неделикатно, но с полным знанием дела, как заведено в борделях твоего родного Линца! А младшая сеструха Ницше, то бишь, кляйне Лизхен, называла Саломею «проклятой русской бабой, захватившей в рабство бедных немецких мальчиков». Ошибалась, однако… Саломея такая же русская, как сама Лизхен – китаянка, ибо Лу – сокращенно от Луиза. А папаша ее был истый немец, генерал русского царя, фон Саломе…
Пожалуй, никто в лагере военнопленных №161 да и во всем 82 полку не ставил философа Ницше выше, чем Фриц Краузе, который даже на фронт в окопы книжку его «Так говорил Заратустра» прихватил и читал солдатом для воспитания национального немецкого духа, наравне с книгой Людвига Вельзера «Происхождение немцев», подаренной папашей на совершеннолетие. Разумеется, в его присутствии никому не позволялось говорить плохо о Ницше. А тут при нем – немецком офицере – национального гения пачкают грязью, и кто – заштатная русская шлюха!
– Ты кто тут такая? Пошла вон, дрянь!
– Да-да, та самая чёртова Саломея, продиктовавшая учение о сверхчеловеке, в то время, как дефективный Ницше еле-еле успевал за ней записывать… Под конец не выдержал – сошел с ума от чужой премудрости и в дурдоме околел. Засим и ты определяйся: либо замуж меня берешь на всю последующую, распрекрасную жизнь, с кофе по утрам, в чине генерал-губернатора завоеванной красной Сибири, или расстанемся по-честному: два рубля на бочку и я ухожу?
Краузе сильно передёрнуло: сразу и щеку, и глаз… Кого это он по дурости привез на конспиративную квартиру, снятую под складскую базу для проведения майской общегородской диверсии? То бишь, с треском провалил задание фон Штауфе и Миллера…
Осторожный, как старый хромой лис, бывший заместитель начальника Степного края генерала Шмита полковник Миллер, который в германской иерархии поныне числился немецким гауляйтером края, долго думать не любит, прикажет на всякий случай пристрелить, труп ночью сбросят в Обь, а начальник барнаульского лагеря военнопленных номер 161 полковник фон Штауфе вымарает его имя из всех списков. Вот и нет вам австрийского военнопленного лейтенанта Фрица Краузе, и что самое противное – не было никогда. Доннер веттер! Девочку захотел с пьяных глаз! Тоже мне, девочка… клеймо ставить некуда. И вечно у нас, дойче зольдатн, из-за этих бл… ей проблемы! И у сверх-философа Фридриха Ницше и у супер-диверсанта Фрица Краузе! Как только умудрилась к нему приклеиться с этакой конопатой рожей? Тёмная история…
На днях он вернулся в Барнаул из немецких алтайских колоний, где под видом сельскохозяйственных работ его инженерное подразделение всю зиму устанавливало и запускало небольшие нефтеперегонные заводики. После бакинской юности, проведенной на нефтепромыслах, отец отправил Фрица учиться на инженера-нефтяника в Германию. Два года тот отучился в технологическом институте, затем принял собственное решение: закончил артиллерийскую школу и стал настоящим немецким зольдат. К весне шесть заводиков, доставленных через Китай с грузами от Красного Креста, заработали на полную мощь: из ворованной на станциях нефти производили бензин и керосин для автотранспорта и прочих весьма необходимых нужд.
Прибыв после такой тяжелой и грязной командировки в лагерь военнопленных, Краузе решил первым делом хорошенечко надраться, но фон Штауфе приказал ему снять в городе квартиру под склад, что довольно скоро удалось сделать, после чего Фриц отправился на сеанс синематографа. В России, конечно, сухой закон, но в городских ресторанах да буфетах электро-театров для приличных господ немецких офицеров всегда имеется и вино, и коньяк, и водка.
С большим трудом припомнилось ему, как подсел на свободное место, рядом с молоденькой симпатичной барышней, и вдруг, до начала сеанса, на сцену перед полотняным экраном выпорхнули три девицы в цветастых цыганских юбках, устроив кордебалет с забрасыванием обнаженных ног на необыкновенную высоту, от которой его германский дух захватило и бросило в самые недра адской похоти.
Сидевшая по другую сторону от юной соседки пожилая барнаульская матрона, высказав громкое возмущение, подхватила под руку дочку-мадемуазель, спешно покинула зал, а мужская часть зрительного зала, которую составляли в основном военнопленные австрийцы, громкими рукоплесканиями выразила полнейшее восхищение ножками без трусиков: бордель, настоящий венский бордель во глубине сибирской Азии!
Свет потух, закрутили фильм под музыку тапера. Вдруг Краузе ощутил толчок в бок разгоряченного танцем, сладко пахнущего податливого женского тела, тотчас бесцеремонно к нему прилипшего, которое теперь оказалось в снятой квартире, да, то самое: с пышным задом и несносно-ехидной физиономией… Напоследок память добавила, что ножки в постели, как и на сцене, задирались весьма высоко, хотя цыганской пышной многослойной юбки на них уже не было. С какой стороны ни смотри, все одно дурно выходит: нет, не он Дуньку снял, а она его!
Засада, доннер веттер! Определенно русская засада!
На место генерал-губернатора Сибири после победы германского оружия Краузе отнюдь не претендует, это было бы весьма глупо в его положении, пусть его займут хоть престарелый лиса-Миллер, хоть лощеный пузатенький полковник фон Штауфе, не расстававшийся со своим стеком, когда прогуливался по лагерю №161, и обожавший пороть им дежурную смену поваров-хохлов за истинную или мнимую недокладку мяса в суп, согласно нормам суточного потребления. Фрицу Краузе абсолютно все равно. Немецким восстанием военнопленных и будущей партизанской войной здесь, по приказу Фатерлянда, руководят те, кому положено Берлином, им и карты в руки.
Мы есть зольдатн! Честно исполняем солдатский долг перед Фатерляндом, проводя диверсии в тылу России, чтобы кровью искупить плен, ну и немножко пограбить. Дамочка наступила на больное место, давая понять, что ей многое известно. Неужто и про саму будущую Немецкую республику в центре России? Идея, которая недавно затлела в самых огнедышащих недрах германского генштаба, но всегда жила в сердцах «обрусевших» немцев, взять хоть его папахена-нациста, хоть дядю-социалиста.
Форс-мажор! Немедленно ликвидировать, не-мед-лен-но! Промедление смерти подобно! Эта база провалена, но то горе – не беда, он еще успеет выполнить задание фон Штауфе – снять другую квартиру с отдельным входом на окраине у какой-нибудь тетки Варвары. Пусть десять рублей казённых денег пропадут, возьмет из своих, так это ещё дёшево отделается!
Срочно придушить артистку-проститутку, или кто там она есть на самом деле? Так-так… а что? Определенно выход. Спихнуть в комнатное подполье, присыпать там песочком. И тихо уйти. Найдут не скоро, кто знает, что была с ним здесь? А через три дня и от домика, и от подполья мало что останется, уж он лично постарается внести адрес в план мероприятия!
– Развлечёмся напоследок! На посошок… – глянул откровенно на тонкое дамское горлышко. – Поди сюда, милая Дуняша! Два рубля последние отдаю, вот те крест!
Простушка хихикнула:
– Не два, а три!
– Три, три, конечно три… за милую душу совсем не жалко… дорогая фрейлен…
– Три мало, пятёрку гони! Разве я не хороша?
– Хороша… моя душа… приляг… немножко…
– Ах, врёшь, чертов бош, нет ведь у тебя таких денег. Ладно, чего там, сдеру с твоей квартирной хозяйки, а Фрица Краузе все равно сделаю генерал губернатором Красной Сибири… Метёт сегодня с утра!
– Чего?
– Пароль, бестолочь немецкая, тебе говорю русским языком: «Метёт сегодня с утра». Бестолковый пароль у болвана Штауфе, просрочен не по сезону. Отзыв давай!
Краузе заморгал, вспоминая:
– Завтра ожидают большой мороз!
– Во, боши, дураки отборные, была бы моя воля – заставила снять штаны и перестреляла всех из рогатки! Слухай сюда, придурок, разъясняю для умственно-отсталых: квартира эта ненадежная. Плохую квартиру снял лейтенант, раз дети есть в доме, это я, твой личный Обер-контролер от Берлина и Комиссар партии Ленина говорю. Собирайся, едем на другую, к нам, в Дунькину рощу… Будешь, милый друг, жить там… эх, у меня за пазухой… Чего вылупился? Одевайся, шнель, шнель! Ё-карный бабайка! Или решил придушить и в подполье сбросить? Не получится, мил-друг яхонтовый! Дунька и без того подпольщица с младых ногтей, знаю эти ваши штуки…. Родной мамой Соней клянусь, оженюсь на тебе в скором времени революционным браком – станешь ты мне кофе таскать по утрам в постель, будучи генерал-губернатором всея Сибирской красной губернии!
Проститутка безбоязненно громко расхохоталась, не обращая внимания на распахнутое во двор окно.
– Чего ушами хлопаешь, как ишак на муху? Я ист большевичка, твой партайгеноссе. Любительские игрушки в коммунистов окончились, аллес. Дела начинаются серьезные: Людендорф с Лениным заключили официальный договор о военно-революционном сотрудничестве на территории всей России между германским Генштабом и РСДРП (б). Не слышал? Скоро начальство объявит вам о том под секретным грифом, услышишь, что все вы становитесь бойцами местного коммунистического красного фронта. Зиг хайль – рот фронт! Это приказ Фатерлянда, иначе не мечтай попасть домой, ясно? Раз Ильич кровью расписался – стало быть, теперь вместе жестко работаем на русскую социалистическую революцию, даже когда спим в этой кровати в обнимку. Интернациональный долг, понял? Я твой большевистский комиссар, ты мой немецкий командир. Измена – смерть! Рот фронт, дойче зольдатн!
Пыхтя и потея, Краузе начал одеваться.
– Значит, тебя не Дунькой зовут? – переспросил он.
– Дурачина ты беспросветная, простофиля! – расхохоталась девица. – Дуньки детей родят, да репу в огороде растят. Дунька – моя революционная кличка, пока в Барнауле живу. Уеду – и Дунька тут же скончается от чего-нибудь скоропостижно, а какая-нибудь Парашка будет в другом месте перманентную, нескончаемую мировую революцию делать, работа у нас такая партийная. Но для тебя и всех сегодня я – Дунька Беспортошная. Понял, немец из Линца?
– Значит, теперь от партии к нам личных комиссаров приставят? Вроде тебя? Гут. Немецкому зольдатн нужен фронтовой бордель, без него никак, Дунька… – соратник по партии и революции… неожиданно… но приятно.
– Это ты новый член… моей многочисленной партии, а вообще я дочь киевского купца 1-ой гильдии Роза Кауфман, по совместительству актриса, революционерка, проститутка, коммунистка и большевичка, агент «Искры», но звать меня будешь Дунькой, по-прежнему. Эх, помню, лет этак десять назад, имела я бешеный карьерный взлет – разливала пиво на Лондонском съезде РСДРП, что проходил в нашей еврейской общественной столовой. Что за времена были расчудесные! Макс Горький ставил бочку пива каждый вечер участникам съезда, а его сожительница Манька-Феномен собственноручно делала бутерброды. Но давали мы с ней… угощенье наше исключительно большевикам. Меж нами, девочками, Манька Феномен – большая специалистка была по… бутербродам, даже Старику-Ленину понравилось с нами столоваться без Инески. Меньшевики, а Мартов тот особенно, помнится, страшно злились, когда их за дверь выставляли после заседаний, криков и споров, не солоно хлебавши, ха-ха-ха! С тех пор меж ними кошка чёрная пробежала, ссорятся постоянно, вернее сказать две кошары сразу: я да Манька-Феномен.
– Попала бы ты со своей Манькой под начало нашей полковой Железной Кобыле, небось форс скоро сошел. В прифронтовом батальонном борделе план на каждую проститутку был 50 солдат в день обслужить и десять офицеров. О, где ты, наша дорогая прусская Железная Лошадь, простая и понятная, как дорожный трактир со шнапсом, сосисками и капустой?
– Как придорожный сортир, дурья твоя башка! Ваша Лошара мне в подмётки не годится! Не сравнивай божий дар с яичницей! Спец-агент «Искры» выполняет самые ответственные задания партии, вроде скоординировать усилия по выводу трудовых масс на демонстрацию, направить на погром… винных погребов, напоить пролетариат, чтобы хрюкать начал и устроить в городе дебош, восстание, а иногда чего погорячее… Не смотри, как бык на красную тряпку… Антисемит, что ли?
– Я – ницшеанец, национал-социалист и в основе своей чистый ариец. Арийская раса превыше всех, находится на вершине человеческих рас, и уж на тебе Дунька я не женюсь ни в коем случае, будь ты хоть славянкой, хоть семиткой, это в принципе исключено. Можешь даже не надеяться, тут и кофе в постель не поможет.
– Это еще почему не поможет? Очень даже поможет.
– Славяне перемешались с турками, русские с татарами, монголами и мордвой, евреи вообще со всем миром. Нет, у семитов были достижения в прошлом: создание единобожия, но теперь они в самом низу лестницы народов. Нечистые народы не могут осознать себя великой нацией, не могут создать своего государства, и пример с евреями в этом отношении особо назидателен, а российскую империю создали норманны, то бишь мы, германцы. Фридрих Шлегель нашел в индийских сказаниях упоминание о далеких северных землях, север для индийцев – сакральная часть света. Изучая индийский язык и философию, Шлегель предложил термин «арии» – непобедимые завоеватели, спустившиеся с Гималаев, дабы колонизировать и цивилизовать Европу. Об арийцах говорил еще Геродот, но Шлегель усилил корень «ари», который он провозгласил родственным со немецким словом «Ehre», что значит «честь». Отсюда возникает в мировой философии представление об аристократической расе господ, на деле управляющих миром и строящих в нем свою высшую цивилизацию! Уже сто лет назад во французских ученых кругах времен Наполеона говорили о «длительной борьбе между семитскими и индогерманскими мирами». Граф де Гобино, друг Вагнера, в своем «Опыте о неравенстве человеческих рас» писал, что нордическая арийская раса находится на высшей ступени лестницы народов, потому что она и только она обладает культурно-творческим потенциалом. Именно неравенство рас есть основополагающий принцип развития человеческого общества.
– М-да? А мы, марксисты, считаем основным двигателем истории классовую борьбу… И что? Кто прав? Только практика построения нового общества даст ответ! Кто кого победит? Коммунисты или национал-социалисты?
– Вот что я тебе скажу, Дунька: из опыта истории прекрасно видно, что расовое смешение приводит к вырождению цивилизации. Это видно на примере Римской империи, Египта и всех прочих древних империй.
– Ну да, конечно, римляне стали набирать в свои легионы диких пьяниц германцев, те приучили пить всех неразбавленное вино, империя спилась и развалилась. Как я ненавижу эту доморощенную немецкую философию, где теории строят из любого волдыря, вскочившего у них на носу, или где похуже!
– Дуньке просто завидно. Хьюстон Чемберлен говорил верно, что в настоящее время эти две силы – евреи и арийцы остаются друг против друга, как вечные противники. Ничто не является более убедительным, чем самосознание нации. Человек, принадлежащий чистой нации, никогда не потеряет этого чувства. Раса поднимает человека над собой, наделяет его необычайной, почти сверхъестественной энергией. И еще он говорил, заметь, не вполне чистый ариец, что ариец есть созидатель и носитель культуры, еврей же – негативная расовая сила, паразит на теле цивилизации, ее раковая опухоль.
– А я могу привести другие еще более убедительные исторические примеры: еврей Карл Маркс, сын прусского адвоката, выдающийся мыслитель, издатель и политический деятель не только Европы, но и всего мира, был женат на прусской аристократке, баронессе Женни фон Вестфаллен, ее брат Фердинанд фон Вестфаллен был министром внутренних дел Пруссии. Далее, лучший друг Карла Маркса – Фридрих Энгельс – крупнейший немецкий философ. И таких примеров яркого взаимодействия, как ты их называешь рас, смогу привести тебе массу…
– Они лишь исключения из правила, которые еще сильнее его подтверждают. К тому же Маркс всю жизнь тянул деньги из Энгельса на пропитание собственной семьи. Это ли не паразитизм?
– Нет, это содружество двух мыслителей, один из которых написал теорию создания капитала в современном мире, а другой осуществил это создание на практике. Вот и вся разница. Главное у них – связующая нить: и тот и другой ненавидели всем своим существом славянский базар и создали инструмент его разложения: коммунистическую теорию диктатуры пролетариата. Более того, они создали Интернационал, за которым будущее всей Европы и мира. Партия большевиков и пленные немцы в России тоже ведь объединяются на время: будем дружить и вести совместную борьбу, пока не уничтожим государство русских – Россию. А уничтожив, будем строить на этом месте свои государства: вы немецкое, мы еврейское, не переживай, места много, на всех хватит.
– И где вы вознамерились строиться? Не в Крыму ли? Запомни, там издревле жили германские племена вестготов. Поэтому Крым – наш!
– Дорогой комрад Фриц… вот давай не будем делить шкуру неубитого пока русского медведя! Вбей себе в башку главное на сегодняшний день: ты коммунист, иностранный член РСДРП-бэ, член военного отряда партии. Эх-ма! В столицах империи работать намного проще было в пятом году, чем здесь и сейчас. Наши партийные бонзы совершенно не понимают, в чем отличие Барнаула от Питера. Здесь даже в самый солнечный Первомай мещанские массы будут копать свои огороды, никто не сидит в кабаках, не ездит на пикники-маевки с выпивоном, и стало быть, некого звать на баррикады. Придумали дурацкую поговорку: весенний день год кормит! В этом году мы им даже 1 мая перенесли на 18 апреля, чтобы по европейскому стилю взбунтоваться, заодно, так сказать, со всей Европой, все равно не помогло. Не идут, собаки паршивые. С начала войны бордели городские прикрыли, ну разве не сволочи? Бардак полный, азиа-с, Барнаул-с, как работать, с кем? Непонятно. Одно остается, – вздохнула печально, – выжечь сию азиатскую заразу до основания. Чего мух ртом ловишь, черт плешивый, по своей Железной Кобылке соскучился? Поскакать хочешь? Скоро поскачешь, давай, давай по-быстрому в свой австрийский мундир влезай…
– И все-таки пример с Марксом неудачный, назови хоть один случай, где был бы плодотворный союз жены-еврейки и немца-мужа, приведший его к вершине власти.
– Проще некуда. Премьер-министр Российской империи Сергей Витте – он немец из курляндского дворянства, в молодости изучал сельское хозяйство в Пруссии, жена Матильда Исааковна Нурок – еврейка, принявшая православие. Поженились в 1891 году, а уже в 1892 году Витте стал министром финансов, на посту продержался 11 лет, после чего, в 1903 занял пост Председателя Комитета министров, достаточно?
– Это тот самый идиот, что устроил в свой медовый месяц России авантюру со строительством Китайско-Восточной железной дороги? Полагая, что дорога будет способствовать «мирному захвату» Манчжурии? А в результате получили боксерское восстание крестьян, выступавших против захвата их земель под дорогу, и войну с Японией, которую Россия проиграла вчистую? И после, на мирных переговорах в Портсмуте с японцами хотел отдать им весь Сахалин целиком, а царь ему не разрешил?
– Да, тот самый немец-идиот! Но все равно отдал – половину Сахалина. И расписал это лично своим величайшим достижением. За что идиот Николашка произвел его в графское достоинство, а шутники впоследствии называли Витте не иначе, как «графом Полусахалинским». Однако заметь, вся эта сверхудачная для Витте карьера выстроена была при Матильде и Матильдой, представь, сколько ею затрачено сил для проталкивания идиота наверх!
– Да, да, несомненно, много чего она выдумывала! Я читал, помню, французский посол в России, совсем недавно, в 1915 году, так высказал соболезнование Николаю Второму на смерть Витте: «большой очаг интриг погас вместе с ним», а Николай согласился и добавил: «Смерть графа Витте была для меня глубоким облегчением». Кстати, забыл спросить о главном: дети у графа Витте были?
– У Матильды дочь от предыдущего брака, он ее воспитывал, у Витте своих детей не было.
– И это ты называешь удачным союзом? Да она его просто использовала. И все. Запомни раз и навсегда, дура Беспортошная: арийцы – есть высшая чистая раса, у нас могут быть успешными исключительно свои, национальные браки, дающие полноценное арийское потомство. Дуньки-Розы тут совершенно ни причем.
Краузе зевнул притворно широко-широко… как вдруг проворной молнией Дунька взлетела на него сверху, сунув в распахнутую зубастую пасть пузатенький дамский револьвер-бульдог:
– Размечтался придушить меня, мразь, арийская морда? И в подпол скинуть? Запомни, дерьмовый недоносок, я все мыслишки твои сразу читаю по глазам, и тебя, антисемит паршивый насквозь вижу, и если еще раз когда подобная идея мелькнет в этой тупой башке, разнесу котелок в ту же секунду в дребезги! Понял? Моргни, если понял!
Дуло бульдога рассекло нёбо, ушло в глотку вызвав рвотный рефлекс. Краузе не столько видел, сколь чувствовал, как бледнеет палец психованной Дуньки на спусковом крючке, судорожно пробуя сжаться… вот сейчас, сей секунд мозги брызнут на подушку… только дёрнись. Рот запенился кровавыми пузырями: найн, найн, найн!
Старательно моргнул обоими глазами и раз, и два, и пять.
Дамочка не сразу, с видимой неохотой извлекла ствол из кавалера, тщательно отёрла кровь о наволочку.
«Психичка, при первом же удобном случае пристрелю», – мстительно решил про себя Краузе.
– Это мое тебе первое и последнее предупреждение, другого не будет. Никогда. Помянешь только Кобылу свою старую – сразу свинец в глаз. Жизнь в Линце – тоже. До меня ничего не было! А впереди у нас – светлое совместное коммунистическое будущее! Ты – зольдат. Тебе твой Генштаб приказывает со мной дружить. Выполнять команду! Понял? Я девушка из интеллигентной семьи, но рот, падва, держи на замке! И всегда меня слушай, твоего комиссара, и всегда бойся: и днем, и ночью, и зимой, и летом: я ценю, но не прощаю. На фон Штауфе с Миллером не надейся, они мятый пар, и очень скоро уйдут со сцены. Партии нужны свежие силы, такие как ты. На вашем собрании Штауфе с Контролером от Берлина утвердят тебя руководителем горячей акции, учти, сделают они это потому, что я лично за тебя поручусь. Оправдаешь доверие – будешь командовать красным полком, дивизией, со временем красным генералом заделаешься. Ты, а не старорежимный полковник фон Штауфе из обрусевших, тот давно о пенсии и жизни в Берлине мечтает, туда ему и дорога! Не справишься – пеняй на себя. Отныне и навсегда я твой комиссар, ну вроде как приставленный ствол к гландам. Со мной сможешь до маршальских верхов подняться! Я всегда рядом и всё вижу. От первого же сомнения умрешь. Понял? Одевайся, товарищ! Шнель, ляха муха!
«Нет, не пристрелю – вздёрну на первом попавшемся суку», – Фриц вперил бессмысленный взор в пол, и настроение его от этой мысли значительно улучшилось. Он с выпестованном в себе германским педантизмом всегда доводил принятое решение до исполнения.
– Уходим? Хозяйку предупреждать не будем?
– Во дурак! А десять рублей, что отдал за месяц вперед? И всего одну ночку пожил? Роза Кауфман себя уважать перестанет, когда не сдерёт с русской бабы все до последней копейки!
– Ясно, товарищ Дунька!
– Нравишься ты мне все больше и больше, и слово «товарищ» тоже, оно содержит в своем внутреннем смысле наш с тобой, немчура, союз. Общеевропейский многообещающий союз, ибо корень его ВААР – означает «товар» на старонемецком языке, а ТОВ – по-еврейски означает «хороший». Немецкие торгаши-евреи, осваивая Польшу с Малороссией, данное сочетание употребляли в качестве рекламы, ибо для них – всякий товар хорош, когда его кому-нибудь втюхивают. Мы с тобой будем втюхивать местным идиотам коммунистическую идею: ТОВАР-ДЕНЬГИ. Эх-ма! За нее первым делом Государственный банк к рукам приберем с золотым запасом России, а там посмотрим, как дело пойдет. Понял, тов-ваар-ищ, какая нас впереди судьба героическая ожидает? Устроим гражданскую войну на Руси святой с парой-другой миллионов трупов для всеобщего и полного устрашения, оккупируем, колонизируем, да как забогатеем в наших любимых Европах с Америками!
Она выглянула в окошко: мимо проходил мальчуган лет семи, тащивший на плече большую не по росту штыковую лопату.
– Аллё, поца, конфетку хочешь?
Мальчик увидел в окне бабушкиной комнатки раздетую до гола неизвестную женщину, разинул рот от изумления.
– Чего, поц, уставился? Не знаешь разве, что нехорошо за взрослыми подглядывать… Али хочешь чего? В школе церковно-приходской, небось, не учат вас этому, балбесов? Ничего, приходи в театральную коммуну на Волчьей Гриве, али в Народный наш дом, имени Штильке, я тебя, поца, мигом всему обучу! Оглянуться не успеешь как без штанов оставлю!
– Что такое, поца? – поинтересовался Краузе. – Не слышал такого слова. Марксистский термин?
Роза весело расхохоталась:
– В книжечке своей партийной со словарным русским запасом запиши: «поца» происходит от слова «поц»! Это мужской половой член по-нашему. Я местную малышню исключительно поцами обзываю, ввожу в новый коммунистический обиход такое самоназвание для малышни, пусть привыкают. Надо, чтобы эти идиоты сами друг друга стали поцами звать! Слабовато покуда приживаются… надобно приспособить, русифицировать… Слышь, товарищ Краузе, как лучше для уха русского будет: «пацак» или пацан?
– Пацан… для моего немецкого уха… пацак рифмуется с ишак.
– Ха, другого уха рядом нет, ладно поца, отныне будешь моим фрайером – пацаном, ландскнехтом Красной гвардии! Я тебя быстро обучу по нашей партийной фене ботать. У, харя твоя залетная! Нос-то тебе в каком борделе починили?
– Мама, мама, у нас дома тетка голая!
Глава 3
Военнопленный лейтенант Краузе не зря опасался сурового характера квартирной хозяйки Анны Степановны Киселевой, имевшей при разговоре о найме жилья вид насупленный и недовольный: вот будто не меблированную комнатку с отдельным входом, сменным бельем, кладовкой, керогазом и самоваром бабуля сдает, а целый город неприятелю оставляет под давлением тяжелейших фронтовых обстоятельств. Старушка Киселева – так звали ее на квартале соседи – жизнь и людей познала достаточно, нравом обладала решительным, и нутром чуя подвох в австрияке, уже получив деньги, разглядывала их подозрительно, будто чуя фальшивки, мяла в ладони, при том по-прежнему хмуровато зыркая из-под седых бровок на квартиранта, ни капли не смягчаясь от ломаного языка, коим Фриц хотел распотешить хозяйку. Отдельный вход в помещение и отдельный въезд во двор с высоким забором очень его привлек в сём домике.
Но и бабушке Киселевой деньги нужны – край, сильно поистратились за зиму, к тому же сена корове не хватило – пришлось в марте докупать возок, тем самым израсходовав накопленные три рубля – будущую майскую оплату пастуху на выпас коровы, потому Зорька и стоит пока в стайке, хотя пастух уже гоняет местное стадо на зазеленевшие пойменные луга Пивоварки. Зорька мычит, высунув голову в маленькое окошко из стойла, когда свежий весенний ветерок приносит с речки запах молодой зелени, жалуется.
А тут еще солдатское пособие за март месяц не выплатили. После февральского переворота, когда то ли царь сам от власти отрекся, или генералы собственные отрекли, только народ в Барнауле от радости с ума начал сходить: вполне солидные граждане носились мальчишками по улицам, шапки в воздух кидали, на всех перекрестках вроде сами собой возникали стихийные митинги, на которых местную власть организовали. Ново-базарную площадь срочно в площадь Свободы переименовали, учредили на ней Народный университет строить, а вот пособие солдаткам за март почему-то не выдали – вроде как ревизия в Петрограде случилась, ибо второпях учрежденное Временное правительство решило проверить, насколько сильно русский царь перед ними проворовался. А при царе-то государе, худо-бедно, по четыре рубля паёк российской солдатке за мужа-солдата шел ежемесячно, и по два рубля полагалось на ребенка. На каждого члена семьи демобилизованного, включая отца, мать, жену, детей полагалось в натуральном выражении муки – 1 пуд 28 фунтов, крупы – 10 фунтов, соли 4 фунта, постного масла – 1 фунт. На детей до пяти лет пособие выплачивалось в половинном размере. Итого их семейство в денежном выражении получало десять рублей в месяц. На Анну Степановну пособие не распространялось, потому как не матерью она солдату доводилась, а всего лишь тещей.
Немного для месячного семейного пропитания в городе Барнауле, гораздо меньше, чем хороший пимокат в мирное время своим трудом зарабатывал, но с огородом, коровой, курами да поросятами на еду хватало, слава богу, за три года войны ни разу не голодали. А вот как царя революционеры из Госдумы скинули, то свободы партий, политики, выборов депутатов разных мастей стало хоть отбавляй, опять же полицейских всех на фронт отправили, и потому хулиганов с воришками кругом вмиг расплодилось как мышей по осени, а денег на солдатские семьи почему-то не стало. И на школы тоже. Вроде и не совсем отказали в пособии, сказали подождать немного, пока де с финансами разберутся: что да как… Из городской казны местные депутаты сгоряча решили было выплачивать солдаткам, но городские деньги оказались настоль мизерными, что скоро окончились, и даже школы пришлось с апреля закрывать – нет денег на содержание. Март прошел, в апреле та же история – не платят солдаткам, дочь Анны Степановны Татьяна каждый день ходит стоять в большой очереди, не смотря на то, что на дверях управы постоянно висит табличка, извещающая, что нет денег. Даже на ночь не снимают. А народ все равно надеется: вдруг сегодня деньги пришлют?
Сколько предстоит трат дальше – подумать страшно, главная – собрать Андрейку в школу к осени, сапожки купить, пальто пошить, букварь с тетрадками, рубашку и штаны новые справить. Да и у Кости рубаха изветшала, штаны в заплатах – после старшего донашивает, на внучатах все как горит, потому плата десять рублей за комнату с отдельным входом и керогазом – очень хорошая подмога семейству, заменяющая пособие. Многие бы соседи согласились пустить даже и немца военнопленного за такие деньги, сдала и старушка Киселева свою комнату, перейдя жить на другую половину к дочери и внукам, на время, пока зять воюет на фронте с этими проклятыми германцами-австрийцами, в плену развеселыми дуралеями, заполонившими ныне Барнаул и все сибирские города говорливыми вороватыми толпами.
А сама всю прошлую ночь напролет глаз не сомкнула – думала правильно ли поступила, и со всех сторон выходило одно и тоже – нет, неправильно.
Нехорошо-то как, не по-людски получилось: зять на германском фронте кровь проливает, а теща, будь она неладна, на вражьи деньги польстилась, которые на содержание военнопленных то же самое Временное правительство выплачивает по военному ведомству своевременно, в отличие от солдатских семей. На германца в плену столько же выделяют средств, сколько на русского солдата на фронте, а сколько на офицера платят, коли им позволено частные квартиры снимать в городе и свободно по трактирам да ресторанам расхаживать, пить – гулять, песни немецкие по улицам орать среди ночи? Квартальных надзирателей не стало – совсем порядка в городе нет. Одни комитеты кругом, комиссары, да митинги непрестанные гудят, словно пчелиные семьи делятся и роятся.
Для семейства Анны Степановны край, как деньги нынче потребны… Самое время корову в стадо на выпаса отпустить, мычит Зорька в стайке, на луга просится. Поросенка на лето надобно прикупить на вырост, а лучше двух, чтобы зимой мясо было, а на какие, позвольте спросить, деньги? Только квартирантские, получается, выручат, других нет.
Шептала старушка Киселева втихомолку, не вставая, дабы не обеспокоить дочь и внуков, успокоительные молитвы:
«Господи, помоги – дом спаси и сохрани, от злых людей защити и огради. Пусть на моем пороге у ослушников Божьих отнимутся руки и ноги. Аминь. Аминь. Аминь».
Поднялась, как всегда, ни свет ни заря – завести блинную опару, когда еще яркий месяц висел на небе, в руку шепнула давнюю поговорку своей матушки:
Месяц, ты, месяц,
Золотые твои рожки,
Взгляни в окошко,
Подуй на опару.
Сделалось от работы ей немного легче. Оставив тесто доходить, отправилась сенца подбросить кормилице, напоить да подоить, и все шептала в темноту: «Копна, копна, полевая душина, береги душу от воровства, от поеда зайца, от молнии шальной, огневицы полевой, от скотины вольной, от пяти мужиков: старых, седых, крепких и молодых, от баб вороватых, от гуляк сохатых. Полевик, полевик, мой стог невелик. Встань задком, сбереги ладком. Тут ему стоять, тут хозяина ждать. Загребаю, загребаю, закрываю, закрываю на семь ключей, заговорных речей».
Когда села доить, по привычке сказывала вслух: «Как стоит святой собор, святая церковь, не шелохнется, крепко-накрепко, место по месту, камень на земле, так и ты, моя корова, стой о четырех ногах плотно-наплотно, крепко-накрепко. ножками чтобы не лягнула, головушкой не мотнула, рожками не боднула. Стояла бы ты сильной горой, доилась бы быстрой рекой. Отныне довеку будьте мои слова крепки и лепки, несокрушимы, неперечены».
Разделалась с парным молоком, пошла проведала курочек-несушек, собрала яички, потом только в огород заглянула, когда небо на восточном горизонте окрасилось слабым светом, с реки Барнаулки в спину задул ветерок и наступило свежее молодое весеннее безоблачное утро, обещавшее жаркий день.
«Дай, Бог, нам всего впрок. Возделываем землю руками, чтобы отблагодарила нас вкусными плодами! Расти землица, не плошай, пусть будет хороший урожай. Роди кормилица наша, роди больше, да роди лучше, да роди полезное. Пусть все, что родишь, к свету тянется, да растет скоро и крепко, нас радует и кормит. И ни мошка, ни тля, ни жуки, ни кроты, ни мля, никто помехой не станет урожаю нашему!»
По хорошей погоде лук-батун на грядках быстро шел в рост, ровненько на двух длинных грядках зеленея, уже можно дергать, да вязать пучки на продажу. Лука с укропом у бабушки Киселевой насажено много, это ведь первая зелень по весне с огорода, и в суп идет, и в квас с редькой, и просто на черный хлеб с солью, с лучком ребятишки в охотку едят. Чеснок подзимний тоже куда как хорошо взошел, зеленым лужком поднялся: «Язык режет, зато от болезней защищает и вкус пище придает, у нас в огороде густо растет. Кто слезы льет по луку, а кто по урожаю потерянному, а у нас в огороде лук растет всем на благо. Пойду в луга, где лук, возьму его силы на мои грядки. Слову моему быть, а луку моему не гнить. Господу поклонюсь, Господу помолюсь. Дай, Господи, урожая большого, чтобы лук рос, разрастался крупен и хорош был всем на удивленье. Мать святая луна, ты высока и сильна, сидишь высоко, видна ты далеко, светишь ты широко. Так бы необъятен и силен был урожай».
И самим тогда хватит и первую копейку какую-никакую по весне заработать можно, пока другого ничего нет. Нарвать сегодня большую сумку да снести на базар, но сперва приготовить, напечь блинчиков поболе…
«Сорняк от меня убегал, по тропам плутал, за ним я гналась, извести его клялась, так сорняк я поймала, клятву исполняла, я его извела, из огорода прогнала. Именно».
Скоро Анна Степановна пекла блины в сенцах на двух керогазах сразу, смазывая их растопленным сливочным маслом и укладывая высокой горкой в большую миску радостно и как всегда споро. Когда в ограде закричал Андрюшка, в голове блеснула молнией мысль, тревожившая всю ночь: «Ах, ты, боже мой, ясно дело немец кого-то привел, а еще слово супостат давал, вот точно супостатом оказался, как сердце предсказывало…»
Дочь Анны Степановны Татьяна тоже поднялась ни свет ни заря, в надежде до ежедневного похода в казначейство за пособием, успеть подготовить парники для помидорной рассады, а первым делом выставить внутренние зимние оконные рамы, чтобы накрыть ими парники. Рамы большущие, тяжелые и со стеклом надо быть осторожнее, работа эта прежде была не женская, потому мальчиков тоже подняла рано – помогать. Лишь меньшая трехлетняя Клава осталась почивать в своей кроватке.
«Рука Твоя, Господи, надежная, Заступи и укрой детей моих Андрея, Костю и Клавушку, – шептала солдатка Татьяна, с большим трудом вынимая набухшую за зиму от влаги тяжеленную раму из окна, – сохрани их, Господи, по Твоей воле, Укрась, Господи, их долголетием и многомудростью. Всякое зло отводи от них. Ангел-хранитель да пребудет с ними всегда и всюду. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.»
Работа с молитвой за деток подавалась ей всегда легче.
В огороде, однако, предстояло самое тяжелое дело: для новых парников землю следовало выбрать в глубину на два лопатных штыка, вниз заложить слой свежего навоза, поверху добавить перегноя с песком, пролить хорошенько парник крутым кипятком, закрыть сверху рамами, еще старыми половиками, чтобы парник за сутки прогрелся и навоз внизу «загорелся».
Через день можно будет высаживать в теплые влажные парники помидорную рассаду сорта «микадо», появившегося в Барнауле перед началом войны и дававшего урожай огромных розовато-красных плодов по фунту веса каждый. Андрейка с Костиком, как могли, старались: совместными усилиями перетащили шесть рам в огород, вынесли туда же ящики с рассадой, чтобы растения привыкали к свежему воздуху и солнышку. За месяц жизни на подоконниках те излишне вытянулись вверх. Андрейка пошел за лопатой…
Глядя на зеленые, ломкие ростки, Татьяна принялась вспоминать наговоры матери: «Иди, помидор из моего подола на грядку, расти, помидор для моего достатка. Дождем обмывайся, ветром обтирайся, в высоту и ширину разрастайся… Из одной миски один хлебай, здоровей расти, будь красен, будь вкусен, будь велик. Нет числа и счета верующему люду, ударам колокола церковного, муравьям в лесу, так бы не было счету помидорам на моих грядках. Вена алая, кровь красная, расти, ягода, сочная прекрасная. От солнца напитайся, от луны надувайся».
– Чего это, мама, шепчешь? – полюбопытствовал Костя.
– Вспоминаю наговор на помидоры. Вот когда будем высаживать в парник, а потом в грунт, троекратно повторю. Бабушке на базаре рассказали, как делать это надо – при посадке для хорошего урожая помидоров сначала пекут пару куриных яиц, кладут их в середину самого большого ящика с рассадой и выносят на огород. Сажают помидоры по одному растению, приговаривая: «Из одной миски один хлебай, здоровей расти, будь красен, будь вкусен, будь велик». Закончив высадку рассады и полив ее, следует съесть принесенные яйца, не уходя из огорода, скорлупу взять с собой, занести в дом и на трое суток положить на то место, где стояли ящики с рассадой. Затем мелко истолочь и посыпать на крайнюю грядку со словами: «Хорошо рассаду в землю спать положила, белым одеялом ее накрыла, хорошо уродится, сыты будем».
– Двух яиц нам всем маловато будет, – прикинул на глазок младший сын, – нас же трое работает, значит надо три яйца. Да еще Клавка своей доли потребует…
Заслышав крик Андрейки, Татьяна поспешила во двор, однако Анна Степановна успела к месту событий вперед дочери.
Одетый по форме, в застегнутом на все пуговицы австрийском мундире, Краузе небрежно отодвинул обнаженную фрейлен от окна, перегнулся через подоконник.
– Гутен морген, фрау!
– Вот что, любезный квартирант, мы вчера с тобой разве не договорились, чтобы никаких ночных мадам здесь не было? Договорились! А теперь, что получается? Голая проститутка у тебя в окно задницей перед малыми детьми вертит…
Краузе гордо выгнул красную жилистую шею.
– Дорогая фрау! Найн, найн! Я есть достопочтенный… достопочтимый квартирант. Я отшень люблю русский народ, и на фронте каждый божий день братался с русскими зольдатн, потому это очень карош народ, добрый, христианский люди есть. Вы тоже христианка, фрау, поэтому мы есть братья и сестры во Христе. Я вас хочу просить, очень просить. Не могли бы вы утром тоже говорить мне: «Гутен морген, герр лейтенант!», я привык к такому обращению, и тогда бы чувствовал себя, совсем как на родине в австрийском городе Линце. Мы все есть христиане, значит должны любить друг друга и обязательно уважать… всесторонне…
Татьяна вступила в разговор без предисловий:
– Здесь, слава богу, вам не Австрия, сударь, а русский город Барнаул, потому люди друг с другом по-русски здороваются. К тому же вы для нас человек чужой, еще недавно убивавший наших братьев на войне, может и в мужа моего Георгия Ивановича стреляли… На фронте вас в плен взяли, из христианской милости жизнь сохранили. Того – достаточно. Но, думаю, такой пленный, как вы, должен под лучшей охраной состоять, чтобы вреда какого не учинили. Зачем, мама, вы постояльца австрийского пустили на квартиру? Разве не говорила вам, что нельзя врага в дом пускать?
– Польстилась на десять рублей, прости господи старую, пальто, сапожки на осень надо Андрейке в школу? Одежду приличную необходимо справить, опять же за выпаса три рубля срочно требуется… Виновата, конечно… угораздило меня на старости лет… промашку дала старая…
В окно просунулись рыжие кудряшки мадам.
– В лаптях пусть ваш поца шлёндает, фуфайку какую накинет и навоз из-под коровы чистит, судьба у него такая, не хрен в школе штаны по лавкам зря протирать…
Краузе ушипнул ее за бок, мадам взвизгнула и мигом убралась.
– Нет, фрау, немецкий официр – всегда официр, извольте знать, или ваше благородие по-русски. Яволь! Извольте называть меня: «Ваше благородие, герр официр». Так вся Европа нам говорит! По-русски это много хуже звучит, но ничего, ничего… Мы, европейцы, привыкли в русском плену терпеть многое, отшень многое. Хотя терпение – национальная черта русских, но во имя дружбы-фройндшафт мы тоже согласны немношко потерпеть… Но не столько, как сейчас! Вы не смейт мне нит-чего заявляйт! Я платил десять рубель вперед!
– Нынче всех благородий отменили, голубчик. Революция на дворе… А кто там с вами? Тоже, небось, благородие? Кого в дом привели, а теперь по наглым мордам хлещете?
– Ах, да, революция случилась… Тогда зовите совсем просто, по-нашему, рабочему: тов-вар-исч Фриц. Я есть немецкий социал-демократ, недавно вступил в партию русских коммунистов – большевиков, состою в народной милиции комрада Сулима по охране городского порядка, у меня билет есть! Я из Совета зольдатн депутатов! А вы не зналь? Руссиш зольдатн и немецкий зольдатн – товар-исчи и братья, русский рабочий и немецкий пролетариат отныне рук об рук будут бить русский буржуй, официрен, купец и кулак-держиморда.
– Мещан тоже будем бить, – выкрикнула сзади Дунька, – а кулаков-мироедов, тех всех на смерть забьем во имя социалистической революции и счастья народного!
– Не надо здесь никого бить, господин хороший, большая просьба будет – сказать вашей барышне немедленно удалиться. Мы договаривались, что женщин водить не будете. Лети, бабочка ночная, одевайся и лети куда подальше отсюда!
– Я девушка молодая-красивая, зовут Дуняша. Я товарищ Фрица по партии, мы вместе работаем на дело освобождения рабочего класса…
– Сомнительно мне, что из рабочих будете…
– Происхождения, конечно, благородного, и что с того? Вождь мирового пролетариата товарищ Ленин из дворян, и что? По собственной воле я ушла из семьи на улицу гола-боса и жизнь посвятила делу освобождения рабочего класса… коммунистка, стало быть, с младых ногтей! Мне, может, надеть нечего, потому и хожу голая с утра, а ты, баба – мещанка. Писатель Горький вас, мещан, уличил и показал всему миру, и Европе, и Америке, в своих пьесах, весь ваш ничтожный, узкий, бесчеловечный мирок вывернул наружу. Кровососы вы бессовестные на народном теле! На моем – тоже! Кровь нашу бедняцкую пьете, проклятущие мещанские морды! Гения Горького не знаете? Темнота! Да и откуда знать? Книжки, небось, ни разу в жизни не открыли, одну библию только и чтят! Уткнутся в свои псалмы – и ну выть! Объясняю просто, как для клинических идиотов: мещане – душевные перерожденцы человечества, живущие без высоких идеалов, в сути своей мелкие, ничтожные, дрянные людишки, и в России вас преобладающее большинство: темных, диких, необразованных мракобесов… О, эта темная, дикая Россия, дикие крестьяне… вы то есть, не понимаете, что есть борьба за высшие идеалы, которой мы с Фрицом посвятили свои жизни целиком и полностью без остатка! Вам даже в голову не придет бороться за светлое будущее, к примеру, выйти на первомайскую демонстрацию! Вы хоть раз участвовали в демонстрации? Драли вас казаки нагайками? Нет!!! В то время как мы, лучшие из лучших, сгораем без остатка за народное счастье в революционной борьбе, ведь лучше погибнуть, чем медленно, как вы, тлеть многие года вонючим мерзким лапотным дымом…
– Простыню, случаем, не прожгли своими папиросками, что везде набросали? А мещане, сударыня, – это сословие городское российское, и нечего на сограждан, у которых дом имеется и дело собственное честное, напраслину возводить. Значит так, сударь немецкий военнопленный, слушай меня и прими к сведению: у нас здесь семейная фамильная усадьба, и проституток водить никому непозволительно, о чем предупреждалось заранее. Если не хотите понимать русского языка, попрошу не медля собрать вещички и покинуть нас навсегда.
Фриц вскричал возмущенно:
– Что за чушь вы несёйт! У местных жит-тель нет понят-тия о современной цивилизации. Весь цивилизованный мир понимает, что мужчине на ночь требуется женщина. Наши немецкие учёные давным-давно доказали это совершенно научно! А вы… дос-сих пор пребываете в ужасающем неведении. В ужасающем! Вот! Да! Что за темные предрассудки, фрау, почему у вас, русских, всегда такое мракобесие в ваших тупых головах? Дома терпимости существовали в просвещенной Европе веками! В России их совсем недавно ввели, и то под давлением цивилизованного мира, какие-то русские люди совсем нетерпимые к правам благородной личности! И вот снова закрыли! Действительно, вы здесь все поголовно мещане, как это по-русски будет… узколобые, которых срочно требуется цивилизовать. Комрад Дунька права – вы нам совсем не товарисч, с вами, мещанами да крестьянами, нужно разбираться особо, с вами нужно еще отшень много работать, перевоспитывать, исправлять немношко, немношко кормить как этто… березовой кашей! Ха-ха-х-ааа! И я разъясняю, это есть мой долг коммуниста-интернационалиста. Но у меня есть большие сомнения, а нужно ли долго разъяснять? Может сразу кашей? А?
Обернувшись к своей мадам Дуньке, пояснил:
– У некоторых человекообразных животных мыслительный аппарат напрочь отсутствует. Наш немецкий гроссе-ученый доктор Шмидт прав – славяне есть промежуточный этап развития хомо сапиенс. Боковая тупиковая ветвь на древе человечества. Я вам сочувствую, фрау-мещанка, но если вы катастрофически не понимайт своей денежной выгоды от майн здесь присутствия, то я умывайт руки. Да-с!
– Лицо не забудь ополоснуть и причешись хоть немного. Андрейка, сбегай, принеси квартиранту его деньги из коробочки. Собирайте вещи, граждане, и прощевайте вместе со своей мадам, ищите другое место для проживания. Дай бог не увидимся боле! А в приличный дом водить женщин нескромного поведения у нас непозволительно!
Роза раскраснелась от бешенства.
– Что значит нескромного? Слушай сюда, чертова баба! Я, бля, свободная женщина революции, а это мой поц, пацан короче, бля, да я привлеку тебя к нашему революционному суду за оскорбление! Ты у меня в тюрьме вонючей сгниешь! Революционной! Фриц, эта дура обозвала меня, твоего товарища по партии нескромной женщиной, бля, проституткой! Чертова неблагодарная мещанка! И за них мы идем на баррикады, за это поганое быдло на эшафот, за этих идиотов гибнем в царских застенках, на них тратим лучшие годы жизни! Обалдеть! Пороть их, пороть надо с утра до вечера! И в кандалы! И на плантацию! В коммуну! И с утра до вечера кормить березовой кашей! До отвала!
– Та-та-та, майн либен, я забирай свой вещь. Немедленно отдавай деньги, злой старух, пусть твои внуки бегают всегда бос-гол. Вот! О, майн гот! Придется возвращаться в лагерь, жить с вонючим румын-хохол в одном бараке, черт возьми, я буду жаловаться в Красный крест! В немецкий Красный крест, самой баронессе фон Гольц! Права военнопленных должны быть защищены на высшем европейском уровне. Мы так не договаривались ходить в плен, чтобы русский старух гнал нас вон из дома! Я буду жаловаться полковнику фон Штауфе!
– Извольте ваши деньги!
Однако протянутые бумажки выхватила Роза:
– Это мне причитается!
– А совести у тебя, дрянь продажная, ни на грош!
– Майн либен, с кем ты лясы точишь? С мещанским отребьем! Барн-аул, азиа-с! Послушай, эта старая стерва лишила нас крыши над головой! Выгнала на улицу, на жар-холод! Обозвала меня, стойкого борца за народное счастье, всеобще любимую народную артистку, дрянью! Видано ли такое? Ни минуты более здесь не останусь! Всё, ухожу! Да пропадите вы пропадом, чертовы бабы!
– Да, майн фройлен, такой прощать нельзя. Не будь я дойче официр и кавалер Железного креста. Мы вас покидайт! Так, оплату забраль в зад, вещи забраль, вот так бывает. Сегодня я лишился жилья, а завтра и ты, хозяйка, или как это, мещанка, о этот шипящий славянский язык, почти польский, и ты мещанка можешь лишиться крыши над головой. Да, пути господа неисповедимы, как говорится: бог не микишка – на лбу фонарь. О, этот дурной русский язык! Но нитчего, ми его переделайт в немецкий! И у тебя не станет крышки над головой, и у твоих детей и внуков! Тогда вспомнишь нас, добрых дойче зольдатн, и горько заплачешь, долго-долго будешь каяться, рвать на седой башке волос. Но поздно будет! Наказание вышних сил обрушится на ваши глупые головы! Это говорю я, Фриц Краузе!!! Как говорится, подтолкни падающего! Прав Ницше! Немношко надо… подтолкнуть русский дурной колосс на глиняных ногах! Так говорил великий Ленин. Он почти Карл Маркс, немного только лысый и бороденка жиже.
Немец с мадам вышли за ворота:
– Извозчик! Извозчик! Где тут извозчик? Шортова страна, медвежий угол, волчья грива!
Однако дремавший на козлах неподалеку извозчик в картузе и армяке поднял голову, натянул вожжи: «Но, милая!», подъехал к разъяренной паре.
– Извольте, господа хорошие, куда едем?
– В Дунькину рощу поезжай, театральную гостиницу.
Проводив глазами отъехавшие дрожки, мальчики переглянулись.
– Значит, не будет у тебя сапожек на осень в школу ходить, Андрюшка? – сообразил Костя.
– А у тебя, думаешь, будут?
Мать Татьяна не согласилась:
– Цыплят по осени считают. Заработаем денег за лето, время еще есть, было бы здоровье. Хорошо, отец перед фронтом валенок всем накатал на пять лет вперед, про зимнюю обувь никому думать не надо. Сейчас идем парники копать, землю подготавливать. А то скоро за пособием бежать надо, в очереди стоять, так что Андрей, днем ты остаешься за хозяина.
– Мама, отец с немцами воюет, турками или австрийцами? – спросил Костя.
– С германцами и австрийцами, с турками тоже, которые братьев наших – славян пять веков в рабстве держали. Россия освободила, так теперь немцы под себя подмять хотят, а Германия Россию покорить мечтает, Малороссию захватить. Вон Фриц – пленный немец из Австрии. Может, его наш папка победил, и в плен взял.
– А почему тогда Фриц этот здесь на извозчиках разъезжает? Ругается еще почем зря… Надо этого немца Фрица в тюрьму посадить, шибко он к нам злой, как бы чего дурного не натворил.
– Одного понять не могу: пособие им дают наравне с содержанием русского солдата, кормят-поят бесплатно, за счет города дома для проживания выстроили, Общество Штилькино у детей даже школу отняло под своих немцев, под жилье им отдали, Красный крест еще пособия платит за немецкие страдания в Сибири. На работу высокооплачиваемую по железнодорожной части в первую очередь немцев берут. Конечно, начальство там все сплошь немецкое, еще премьер-министр Витте насадил. Вроде за большие деньги служат, а других к забастовке зовут: баррикады строить… коммунисты. А попробуй туда русский бухгалтером устройся, когда Обер-кондуктор их главный – тоже немец. Пленный германец нашему российскому немцу-начальнику искони ближе, чем православный россиянин. Ладно, милые, идем в огород, парники строить…
Глава 4
Накормив внуков, Анна Степановна собралась в путь на ближний Новый базар – продать зелень, чтобы на вырученные деньги купить немного мяса на обеденный суп. Базар располагался недалече, занимал большой незастроенный пустырь на пересечении улицы Бердской и Третьего Прудского переулка. На мартовских митингах, по случаю февральской революции, Новый базар был торжественно переименован в Площадь Свободы, где проводились митинги и собирались строить народный Университет, на который тут же открылся сбор народных пожертвований, но покуда по большей части все же велась мелкая частная торговля. Так получилось в городе, что прежний базар у Барнаулки переименовался в Старый базар, а Нового не стало, просто торговать продолжили теперь уже на площади Свободы.
Нарвала Анна Степановна лука-укропа, намыла, уложила в большую сумку, уже к калитке пошла, ребятня вся за ней увязалась: мы с тобой, бабушка! С тобой, одни дома не останемся! Будем холодной водой торговать из колодца.
Андрейка с Костей быстро притащили бидон из кладовки, налили в него воды по самые края, все вместе вышли за калитку и восхитились буйно цветущей сиренью в палисаднике соседей Долгополовых:
– Как красиво цветет, и пахнет очень вкусно! – объявила Клава. – Цветочки, наверное, очень сладкие. Вот бы из них пирожков напечь, а бабушка?
Андрей восперечил:
– Нет, не сладкие, а горькие, – я пробовал, – но пахнут и правда вкусно. Цвет красивый. Бабушка, какой это цвет?
– Сиреневый. Какое солнечное утречко сегодня у нас, и день верно будет хороший. Слава богу!
– И растение сирень, и цвет сиреневый? Здорово совпало! А давайте тоже посадим у нас в палисаднике сирень? Вот здесь есть маленькое местечко незанятое.
– У нас черемуха в палисаднике, она еще вкуснее пахнет, сладко, аж голова кружится, неужто забыла? Недавно отцвела, но видите, ягодка завязалась, ох и вкусная будет, когда поспеет да почернеет. Зеленую не вздумайте пробовать, понос прохватит. Сирень, конечно, цветет дольше, возможно даже и красивей, но черемуха еще и ягодой одарит вкусной. Помните зимой пироги с черемухой пекла вам? У нас здесь молоденький пока кустик, но все равно осенью уже попробуете первый урожай, а через год-два так разрастется, что хватит поесть и на пироги останется. Идемте скорей, внучки, время дорого!
– Какой у нас красивый город, правда? Самый лучший в мире! Пешеходные дорожки у домов чистые, травой-муравой заросли, по ним идти ногам приятно, и тополя уже распустились, а давно ли везде лед был, да грязный снег таял в ручьи? Да ведь, Костик?
– Да, теперь хорошо, можно свободно босиком ходить.
Мальчики вдвоем понесли чересчур полный бидон, и когда не попадали в ногу, вода плескалась им на штаны, вызывая горячие споры, кто прав, кто виноват. Клава старательно семенила сзади.
Чтобы про нее совсем не позабыли и не оставили одну, время от времени она пробовала голос – кричала внезапно и пронзительно на всю улицу: «Есть вода, холодная вода! Кому воды колодезной вкусной? Подходите-берите, в мире лучшей не бывает!».
– Побереги голосок, – утихомиривала внучку бабушка, – здесь у всех своя вода колодезная под рукой, на базаре успеешь еще накричаться.
Андрюшка сердился всерьез:
– Да, не ори ты так под руку, а то мы ровно идти не можем от твоего воя. Всю воду уже расплескали.
– Смотрите, наши деревца, которые прошлой осенью гимназисты садили, а мы поливали, листики распустили зелененькие, будто шелковые! Красиво на улице стало!
– Тополя-дерева вырастут большие-пребольшие! До самого неба! А оно синее-пресинее сегодня. Ни облачка, ни ветерка, благодатная установилась погода.
– Скоро до неба тополя вырастут?
– Лет через тридцать – сорок дорастут, видела я в Омске-городе тополя, как огромные зеленые шатры стоят вдоль улицы, у ребятишек вверху целые города настроены…
– Мы по ним на небо залезем, на облаке посидим.
– Ваши детки будут по ним лазить, а вы к тому времени станете взрослыми, вам уже и неинтересно станет по деревьям лазить. Надо будет работу работать, своих деток малых кормить-поить, в люди выводить…
– Интересно, интересно! Тетенька, дяденька, пить хотите? Вода – копейка кружка! Холодненькая, колодезная!
– Не хотят они, сказано тебе русским языком – не кричать до базара! Бабушка, а давай мы Клавку в детский сад на сегодня сдадим, всего на один день, до вечера, для пробы, и без нее с Костиком на базар пойдем! Вон приходская школа, в ней гимназисты детсад организовали для солдатских детей. Клаву значит, тоже примут, она же солдатская дочь, нам некогда будет с ней по базару таскаться. Устанет быстро, начнет опять домой проситься… А в детском саду ее и накормят, и сказку расскажут. Я знаю, слышал, как две тетеньки разговаривали. А, бабушка? Ну давай сдадим Клавку на день до вечера?
– Не пойду в детский сад, с вами пойду на базар! Кричать буду, чтобы воду покупали!
– Правильно, Клавдя, нам всем вместе надо держаться. Ишь, что удумали, сестру сдать в чужие руки!
– Так детский сад же! Там гимназистки няньками работают бесплатно, помогают солдаткам с детьми. Туда многие тетеньки сдают своих маленьких детей, когда на работу уходят. За ними пригляд хороший, в саду в игры играют. Через скакалки прыгают и мячиком играют, я видел.
– Перестань, Андрюшка, глупости собирать: то для одиноких солдаток организовали помощь, кому совсем не с кем деток оставить, а няньку нанять не на что. Идемте скорей, у нас сегодня дел полон рот.
Внутрь базарных ворот Анна Степановна заходить не стала, за место на столах хоть небольшую, но оплату требуют. Половину того, что за зелень выручишь, за место отдашь: овчинка выделки не стоит. Встала бабушка в ряду с уличной стороны, среди таких же, как сама бабок, вынесших на продажу мелочевку по нужде, а не по промыслу: кто свеклы полмешка на своем горбу притащил да чеснока пять головок вдобавок, кто картошки пару ведер, в общем, торгуют всем подряд и кто на что горазд.
А дети в ворота прошли, влились в гущу утренней толпы базарной, договорившись с бабушкой по окончании торговли друг друга не ждать, потому что время дорого, возвращаться раздельно. «Вы сами с собой только не потеряйтесь. Держи Клава кружку, не выпускай, и воду сама черпай, прохожим не доверяй!»
Покупателей к девяти часам утра много меньше, чем было в семь: разговорчивые мещанки – сами себе хозяйки, проспавшая горничная прислуга, а скоро и поварская вторая смена из лагеря военнопленных объявились. Последние – завидные покупатели: помногу всего берут, расплачиваясь иной раз и новенькими хрустящими ассигнациями, таская их из карманов австрийских узких мышиного цвета брючек. По большей части Новый базар посещали галицийские денщики-хохлы, обслуга офицерская, да повара-румыны и венгры. Новый базар ближе к лагерю военнопленных, чем базар Старый, на нем и цены на зелень, солонину, вяленую рыбу и сало, да овощи обычно ниже. Нагловатые офицерские денщики шатаются по площади часто совсем без дела, за ними глаз да глаз: на пробу берут много, а еще больше таскают походя. Завидя галицийскую шантрапу, женщины с товаром настораживаются, загодя повышая голоса: «Чего уставился, проходи мимо, нечего не дам пробовать, знаем мы вас – пробовальщиков».
Вот и к луковичной сумке старушки Киселевой причалил усатый хохол гражданского вида: в грязновато-светлой вышиванке, потертой меховой безрукавке, местами облезлой смушковой папахе.
– Здоровеньки булы, почим, цикаво знати, бабка, твий лук?
– Будь здоров, мил человек. Пять копеек пучок с утра был.
– Може зменшив трохи?
– За так хочешь получить? Иди, иди себе дальше с богом… и руками грязными не трогай…
– О-це, кацапки до чего жадибни, а визьму пучок на пробу…
– Лук не пробуют – все знают, что горький, ты один не знаешь – дурнем прикидываешься.
– Скильки в сумци пучкив буде?
– Сколько будет – все наше…
– Це багата будеш…
И все-таки уволок пучок, зажевал, а через два шага выплюнул: «О, це горька пилюля, ей бо… даром не треба…».
Но за каких-нибудь полчаса весь лук разошелся. Наторговав мелочи, бабушка Киселева зашла на мясные базарные ряды, которые в начале марта, после объявления революции, вовсе сократили, выделив место для проведения митингов, но потом вернули обратно, приценилась к баранине, сторговала два фунта для супа к обеду, в рыбном ряду еще пять карасиков купила, заторопилась домой – обед готовить.
Галициец подошел к детям:
– А ну дайте хлопци людини води випитиь, дюже упарився з ранку, одну кружечку…
– Кружка – копейка…
– Ось же бисови дити, за воду гроши тягнуть, звидки мени стильки заробити, щоб и за воду платити, якщо я без того голодний-холодний полонений?
– Налей ему кружку, – сказал Костя Клаве. – Небось свой православный человек, немцы его воевать заставили против русских, а он не захотел и сдался… Правда, дядя?
– Це так верно, що прям за душу бере! Який гарний хлопец, яка гарна дивчина, ой, спаси вас бог, не дали померти бидному украинцеви далеко вид ридной сторони…
Галициец сдвинул на затылок облезлую папаху и пошел далее.
– Врет, что денег нет…
– Почему врет?
– А что ему на базаре делать без денег и без товара? Да еще так долго?
– Да мало ли… воровать к примеру…
– Ну и зачем мы вора напоили?
– Давай за ним походим, посмотрим, что он делает…
– А кто пить желает холодной воды колодезной, кружка – копейка!
Галициец однако ничего особенного не делал, в карманы чужие не лез, сильно не воровал, лишь нагловато торговался со всеми, пробуя все подряд. Походя выхватил из бочки соленый огурец, в миг сжевав на глазах возмущенной хозяйки: «на пробу тильки», зачерпнул из одного мешка пригоршню семечек, из другого кедровых орешек уволок, и так шел, посмеиваясь да поплевывая, да отругиваясь. Несколько минут возле рыбного ряда покрутился, цены расспрашивал, хороша ли рыбалка была, потом в угол базарный забрел, где торгуют ношенной одеждой, долго перепирался с мужиком, у которого выторговал сразу три старых, в конец изношенных полушубка, достал бумажные деньги, заплатил, сунул одежку в холщовый мешок, перекинул через плечо, зашагал далее.
– Лето впереди, а хохол замерз, полушубки накупает, – пересмеивались продавцы.
– Небось, турок валахский… что, брат, собрался в плену и следующую зиму сидеть? Мы к осени германцев побьем, домой поедешь…
– Який турок… що брешешь… Купуй сани влитку, – покрякивая и краснея отругивался тот, – а вони нехай будуть… черт его знае, скильки воевати буржуи будуть… Зима Сибирська дуже холодна, а у кожушку и валянках можна и гроши заробитиь… сниг кидати – добре платять, а без кожушка ни-ни, на смерть вмерзнешь…
– Видишь, есть у него деньги, раз полушубки мешками закупает.
– Какие там полушубки, одно название – старые, драные, все в заплатах, ношеные – переношенные… рухлядь…
– А все ж бумажки достал, рубля два отдал, а нам копейку пожалел…
– Бабушка говорила, что галичане народ прижимистый, на базар не покупать, а пробоваться ходят, так напробуются, что и обедать не надо! Она их часто ругает, что лапами своими грязными все захватают, перепробуют, ничего не купят, а когда наедятся, потом еще охают на всю округу, дескать товар плохой, вторые румыны, ей богу, а те, что твои цыгане – два сапога пара…
В это время галичанин вышел с базара и остановился возле большого, крытого фаэтона со скучающим возницей на козлах. Из фаэтона вылез прилично одетый человек, забрал у галичанина мешок с товаром, кинул внутрь, и принялся ругать, похоже за то, что дорого заплатил.
Хохол вскинул руки к небу, призывая бога в свидетели торговой сделки, что цены такие на базаре, потом бросил папаху оземь, и в полном расстройстве чувств уселся на нее сверху.
Андрейка вдруг признал в ругателе немца Фрица, которого бабушка заставила утром съехать с квартиры.
– А ну пойдем к ним ближе, послушаем, чего говорят…
Австриец указывал жестами галичанину немедленно встать и вернуться на базар, покупать что-то еще.
– Купить надо еще пять старых трепаных тулуп! Всего восемь, дурья твоя башка! И не дороже, чем шесть рублей за все! Ты почему так дорого купил: три за шесть рублей, дубина стоеросовая? Я не позволю воровать, хохляцкая твоя морда! – И резко, с разворота въехал галичанину в ухо, да сильно так, что тот завалился на бок.
Во мгновения ока галичанин вскочил, схватил папаху, отбежал на три шага, стал из-за кабриолета оправдываться:
– Будеьте ласкави, пане лейтенант, вси гроши виддав до останнього рубля, хай ему грец! Деруь, гадюки барнульские, три шкури, чертови христопродавци… можете обшукати – нема у меня ни копейки, щоб им ни дна ни покришки. Може на Старому базари спробуемо купити?
– Держи еще три рубля и иди, торгуйся, без пяти полушубков не возвращался. Шнель!!
Андрейка подошел ближе к говорящим.
– Дядя Фриц, воды хотите? Кружка – копейка…
– Есть вода, холодная вода, – запела Клавка пронзительно, – пейте ж воду, воду господа!
– Не господа мы, а товарищи, – громко поправил Краузе.
– А этого дяденьку не ругайте, у него правда копеек нет, мы ему даже воду бесплатно дали испить. А три полушубка он купил за два рубля, они ж все рваные, старые, ветхие, молью битые, только на пугала огородные годятся – ворон пугать…
Немец выпучил глаза, затем быстро схватил галичанина за шиворот, так что с него свалилась папаха и рассыпались бумажные рубли, наподдал коленкой под зад, забрасывая в фаэтон: вор, собака!
Затем развернулся к детям.
– Спасибо, мой честный мальчик. А за воду, которую у тебя выпил мой дурной денщик, я заплачу…
Вытащил из кармана кошелек, осмотрел его внутренности в поисках мелочи, ничего подходящего не обнаружил, и будто не веря в свою щедрость, дал какую-то бумажку Андрейке, а сам запрыгнув в экипаж, схватил вожжи:
– Но, залетная!
– Сколько?
Андрей разжал кулак:
– Целый рубль!
– Денег у этих пленных и впрямь – куры не клюют. Надо их почаще нашей колодезной водой поить… – обрадовалась Клава. – На глазах добреют. А откуда ты его знаешь?
– Он нашим квартирантом чуть не стал, одну ночь эту переночевал только – его бабка выгнала взашей вместе с его мадамкой.
– Жаль, я не видела. Знать, баловались шибко, вот она и рассердилась.
– Бабушка ругалась, что всю постель перемазали, будто месяц жили, а денег ни копейки не заплатили.
– Зато сейчас рубль дал. На один школьный сапог уже есть деньги! Удачно мы сегодня заработали!
– Он перепугался, когда его дядей Фрицом назвали. До нас хотел галичанина еще отправить за полушубками, а как нас увидел – того в коляску, нам рубль и уехал по-быстрому. Зачем ему столько старых шубеек? И почему испугался? Неужто совесть проснулась?
– Да потому, что мы его узнали. Хотел задобрить деньгами. Сразу рубль дал, потому как не было в кармане копеек. Он глазами поискал, но не нашел. Богатый очень.
– Есть вода! Холодная вода! Хрустальная, колодезная! Кому надо водицы испить, жажду утолить? Господин хороший, испейте водички! Кружка – копейка! – разносился над торговыми рядами Площади Свободы пронзительный голосок.
Мальчики медленно пробирались через густую толпу, таща бидон, а перед ними крутилась маленькая девочка, обладательница удивительного пронзительного голоса, от коего осанистый господин в летнем пальто при очках и шляпе, хитро прищурился:
– А точно ли колодезная? Не из канавы зачерпнули, братцы?
Мальчики поставили перед ним бидон.
– Как можно, гражданин хороший? Из дома принесли, с нашего дворового колодца.
– А где проживаете, молодые люди?
– На Бердской улице, недалече, осенью в первый класс иду… деньги на сапожки зарабатываю…
– Тогда извольте кружечку!… И правда холодная водица! – гражданин выпил, причмокнул, изобразив полнейшее удовольствие, расплатился с детьми пятачком и отправился далее вдоль базарных рядов своим путем, неся большую продуктовую уже полную товаром сумку, не столько приглядываясь, сколько прислушиваясь к разговорам овощных торговок с покупателями. То был новоизбранный Председатель городского Народного собрания Барнаула Порфирий Алексеевич Казанский, – подвижник крестьянской кооперации и редактор «Алтайского крестьянина», публицист газеты «Жизнь Алтая», печатавший свои фельетоны под псевдонимом Премудрая крыса Онуфрий. И в прежние газетные времена он любил потолкаться по базару, в поисках интересной темы для фельетона, теперь, оказавшись почти на вершине местной власти, народные вести его интересовали даже больше, чем прежде.
– Под Бийском люди видели, как аэропланы летают. Прилетели к немецкому колонисту, сели у него на утрамбованном поле, которое не засеивается, да не один, несколько, оттуда германские летчики вышли, их встретили бутербродами: хлеб с салом, а другие пленные в них сели и дальше полетели на фронт воевать. Отсюда летают наших бить…
– Не слишком ли далеко?
– Да разве самолету бывает далеко? Ему только керосином заправиться, он может до Японии долететь, не то, что до германского фронта….
– Где ж им здесь столько керосина набраться под Бийском?
– Везут издалека пленные немцы на грузовых автомобилях с бортами, а в них бочки – рядами стоят. Ох, и много их там, полк – не меньше.
– Бочек?
– Автомобилей и пленных австрийцев в них.
– А куда наше воинское начальство смотрит?
– Наше воинское начальство – тоже сплошь немчура. Вот был воинский начальник Степного края генерал Шмит, а выше его тоже немцы в Кабинете сидят, даже сама императрица – немка. В газете писали, что в переписке состояла с двоюродным братом Вильгельмом Вторым! И это во время войны между Германией и Россией! Потому и не боятся ничего колонисты эти, знают: наверху их всегда оправдают. Говорят же умные люди: ворон ворону глаз не выклюет.
– Ох, что-то слишком много нынче воронья развелось по лесам да по полям, никогда такого не было. Не к добру это. Смотрел-смотрел царь-батюшка на это безобразие и отрекся от власти.
– Не говори, не трави душу… Только на днях в газетах писали, что целый поезд с нефтью пропал, который из Баку шел в Барнаул, и то ли пятнадцать, то ли все двадцать товарных вагонов, как корова языком слизнула. Куда, спрашивается, девались? Какой карманник утащил?
– Известно куда. У колонистов автомобили грузовые, из Германии выписанные, между их хуторами так и снуют, так и снуют! Аэропланы так над головами и трещат с одного немецкого хутора на другой. И всем, небось, топливо подавай.
Сгибаясь под тяжестью сумок, Порфирий Казанский собирался взять извозчика, уже договорился с одним о цене, как прямо из-под носа экипаж увел верткий франт в армейской австрийской форме, блестящих сапожках, вскочил на подножку: «Гони, раззява, рупь плачу!», затем обернулся к Казанскому, ухмыльнулся и без акцента бросил:
– Извини, дядя, спешу!
Возница хлестнул лошадку, дрожки понеслись, чуть не сбив Порфирия Алексеевича с ног.
– Эка, развелось вас! – только и успел вскрикнуть Председатель Народного собрания Барнаула.
– Трудно жить стало, Порфирий Алексеевич? Австрияки треклятые, обнаглели сверх всякой меры, из-под носа экипажи воруют! Порядка никакого нет! – перед Казанским остановился крытый экипаж с кучером из которого выглянул, хитровато щурясь, бывший работодатель Казанского в бытность его редактором – издатель газеты «Жизнь Алтая» и владелец типографии Василий Михайлович Вершинин.
Широким жестом пригласил в кабриолет, помог втащить сумки.
– О, серьезно закупились сударь, серьезно! Рад видеть вас безмерно, дружище, дай обниму-то! А вообще стыдно, батенька, еще и кухаркой подрабатывать, вы ныне величина немалая на городском горизонте власти. Гласным в думе 800 рубликов в месяц получали, о коей сумме иной учитель в год не мечтает, теперь вообще городское Народное собрание возглавили, к тому же секретарь Комитета общественного порядка Барнаула. Не знаю какое содержание вам там назначено, боюсь даже вообразить, а меж тем лично по базарам с сумками бегаете, неужто экономите? Скупердяйство замучило, однако… Бросьте, голубчик, бросьте, наймите уже прислугу, экипаж… все как полагается приличному человеку…
– Когда из столицы, Василий Михайлович, какими судьбами? Тоже рад вас видеть! Извините Премудрую крысу, как был шелкопёром любопытным до всяческих известий, так им и останусь навсегда, а где еще новости городские узнавать, как не на базаре? Здравствуйте всем, граждане!
Внутри кабриолета разместился еще и владелец пароходства «Мельникова и сын», лицо Казанскому давно известное – солидный человек на пятом десятке лет в отличном европейском костюме и шляпе итальянского фасона, надвинутой до бровей, глядящий с дружелюбной улыбкой. Вершинин тут же не преминул вставить:
– Представлять друг другу вас не буду, ибо Крысу Премудрую Онуфрия, в миру гражданина Казанского, все в Барнауле знают, а судовладельца Мельникова Александра Виссарионовича, владельца судов, барж, верфей, пароходов, тем паче. Двигайтесь гражданин Мельников, двигайтесь, новая власть в лице самого секретаря Комитета общественного порядка славного града Барнаула к нам в коляску влезла. Это вам уже не какой-нибудь газетчик, это величина! Власти следует уважать. Кучер, гони сначала ко мне. Господа, есть важный разговор, Порфирий Алексеевич, вы не беспокойтесь, докладчиком буду не я, потому надолго не задержу, но без стопки коньку, извините, не отпущу, а после на этой же коляске доставим к дражайшей супруге в целости и сохранности. Вот у гражданина Мельникова есть к городским властям насущные вопросы… быть или не быть? А главное, други мои, новости поступили, не терпящие малейших отлагательства в их рассмотрении… Некий гость нашего города хочет сообщить необычайно важное известие для барнаульских властей, коими вы, Порфирий Алексеевич, в силу жизненных обстоятельств ныне являетесь. Сделать это он просит негласно. Впрочем, и у меня найдутся для вас интересные сообщения из столицы. Я же, господа, как вы знаете, состоял в Исполнительном Комитете Государственной Думы по созданию Временного правительства. Теперь являюсь комиссаром Временного Комитета Госдумы и Временного правительства одновременно. О, боже, в каких только комитетах ни состою! Мой дед, простой русский крестьянин из Вятской губернии, верно, перевернулся в могиле, кабы узнал о таких ужасных новостях. Счел государственным преступником, узурпатором власти и проклял. Прости мя, Господи, грешника! Формируем в столице новую власть вот этими самими руками, царскую семью перевозил из Ставки Главного командования в ссылку, вернее сказать, из Могилева в Царское село. Лично состоял при них сопровождающим, то бишь, ответственным конвоиром с комиссарскими полномочиями при побеге расстрелять. И это во время войны! От своей фракции трудовиков в министры юстиции друга Керенского пропихнули, а он далеко пойдет, черт его побери…
– Если городовой не остановит.
– В том-то и дело, что, слава богу, не остановит! Порешили мы полицию царскую расформировать и на фронт, в окопы, создаем народную милицию по всей нашей необъятной матушке России, и в новую милицию старым кадрам ход запрещен, только самым лучшим и то в виде исключения. Да вы ведь знаете… сами правители местные…
Видно было, что Вершинин несказанно рад встрече со старым приятелем, тормошил его и так, и этак, сдувал невидимые пылинки с пальто, беззастенчиво производил разбор продуктов в сумках: «Тэк-с, молока бутыль двухлитровая, сметана, творог… коровы стало быть не держим? Ну и ладно… а вот и яйца, ну как не стыдно, Порфирий Алексеевич, уж курочек держать в своем доме – это так просто. Выговор вам по хозяйственной части определяю, строгий выговор-с от комиссара Временного правительства! Нет, ну право, стыдно. А помните сами рассказывали, что даже ректор вашего любимого Томского университета держал своих куриц в подвале главного корпуса? Ха-ха-ха! А действительный статский советник был генерал, в вашем практически нынешнем звании, и ничего, не стыдился! Да-с, а начальник учебного округа тоже завел куриц, там же, в том же подвале и подвинул, так сказать, ректоров курятник на пару метров, и как они поссорились на этом деле, из-за курятников! Ха-ха-ха! Да, да, помню-помню, как вы показывали в лицах, точно, сначала кухарки их рассорились, а затем и генералы наши статские!
– Времени нет совершенно, ни на корову, ни на куриц, Василий Михайлович, да и места тоже.
– Так заведите, голубчик мой, кухарку, пусть она по хозяйству вашему все успевает, хотите, уступлю вам свою Авдотью?
– Спасибо, не нужно.
– Ну вот, здравствуйте вам, сразу и не надо ему ничего! Скупердяй! Чистый Плюшкин! Что значит не надо, когда, наоборот, очень даже надобно? Скажу по секрету: чудо-кухарка, другой такой во всем Барнауле не сыщешь! Цены ей нет! Все знает, где что лежит, и абсолютно все умеет и по домашнему хозяйству, и по огородному! Чего не спросишь приготовить, ей про то блюдо известно вплоть до приправ, и без всякого рецепта изготовит вам так, что пальчики оближете, хоть беф-строганоф с подливкой из белых грибов, хоть отварной картошечки на сливочном масле с укропчиком и лучком! Под белую рыбку в духовке запеченную. Ах, братцы, вот приедем, я обязательно ее попрошу что-нибудь этакое для нас по-быстрому устроить, я из ресторана в дом блюд никогда не заказываю, ресторан ваш против моей Авдотьи – тьфу просто – мокрое место! Наплевать и растереть!
– Василий Михайлович, к сожалению, мне надо домой, жена и дочка ждут с базара. Обед пора готовить.
– Удивительная история, – дорогой Порфирий Алексеевич. – Я бы даже сказал: удивительнейшая с нами произошла. Вот посмотрите, Александр Виссарионович, на нас, я до десятого года был обыкновенным купчиком, хозяином магазинчика головных уборов, абсолютно ничего не значащим, с двумя классами образования. Да, всего два, третьего осилить было не дано папенькой, пришлось в лавке сидеть. Но книг у нас имелось множество, скажу я вам, огромная библиотека папенькина, и вся в моем распоряжении. Феномен для простого крестьянина Вятской губернии? По чести скажем не совсем простого, а торгующего крестьянина. Сейчас я те книги уже в Питер отправил: все пять тысяч томов. Так вот, сидя в лавке, перечитал я в упоении всю папенькину библиотеку, и настолько проникся светлыми идеями народного образования, пользы книжной для человеческого развития, что стал участвовать в работе просветительского Общества Штильке. А потом, под руководством Константина Васильевича Штильке, замыслил свою собственную типографию создать, дабы газеты печатать, книги выпускать. И ведь все получилось и с типографией, и газетой «Жизнь Алтая». Стал я ее учредителем и владельцем, а Порфирий Алексеевич, с его Томским университетом, – главным редактором.
– Не сразу главным редактором, да вы и магазин за собой сохранили, Василий Михайлович… и даже прейскурант кратно расширили…
– Конечно, сохранил, как в наши дни прожить без магазина? И вы не сразу в редакторы выбились, главным редактором-то был писатель земли сибирской Гребенщиков, но он больше в разъездах пропадал по Алтаю, по Сибири, по всей стране разъезжал, зато какие блестящие очерки нам поставлял из Москвы и Питера о столичной народной жизни… Сейчас на германском фронте санитарным поездом руководит, рассказы пишет, а мы их публикуем! Реальные военные истории от нашего фронтового корреспондента! Да, не сразу Москва строилась, но всегда мы с демократических позиций к газетному делу подходили, как только могли, боролись с царским самодержавием, всесилием и самодурством чиновничества, бедностью и беззащитностью рабочего люда и крестьянства. И штрафовали газету не раз, и Порфирий Алексеевич не однажды сиживал двухнедельный срок в тюрьме за острый материал, и газета во все времена была убыточной, но что в результате? Ах, Порфиша, дай я тебя поцелую, ты, брат, такой у меня молодец!
– Право, не стоит.
– Нет, ты уж извини, поцелую недобритую морду! Ты, братец, благодаря своей блестящей публицистической критике, фельетонам, стихотворным воззваниям к свободе народной стал любимцем не только просвещенной местной публики, а и простых барнаульских мастеровых, шубников, пимокатов! Крестьяне тоже оценили твое знание сельскохозяйственной кооперации, журнал твой «Сибирский крестьянин» пользуется великим спросом на селе в виду очевидной пользы. Потому народ выбрал тебя в гласные Думы, далее глашатаем Февральской революции назвал, когда ты в Думе произнес свою знаменитую пламенную речь, объявив свержение царизма, а ныне стал гражданин Казанский народным предствителем во главе новой Думы – Народного собрания Барнаула. Учитывая пост секретаря исполнительной власти в Комитете общественного порядка, именно ты на сегодняшний день глава города. Окороков что? Он делец от кооперации, от него раздоры, от тебя – просветительство!
– Захвалил, Василий Михайлович! Был бы толк…
– Вот именно, а он есть! Я на Всероссийском уровне тоже принимал непосредственное участие в Февральской революции, помогал, как мог, своей Думской Трудовой фракции и нашему руководителю Александру Федоровичу Керенскому в тяжкую ночь сначала неповиновения царю, потом восстания солдатского, вошел во Временный комитет Госдумы по организации Временного правительства, являлся уполномоченным комиссаром его. Самого премьера князя Львова согласовывал и голосовал, хороши шутки!
Так что все не зря! Это замечательно, друг Порфирий, Премудрая ты моя Крыса, дай я тебя еще обниму от избытка чувств. Как многое сделано буквально за два месяца в России и здесь, в нашем родном Барнауле, и сколько еще предстоит сделать!
– Это верно, дел кругом – море-океан. А мы на берегу пока стоим, вроде малых детей, ни черта не зная, за что браться!
– Перво-наперво бегать по базарам брось, не боярское это дело. И дом тебе пора приобрести в центре, на Московском проспекте, поприличней, как истинному главе города. Ты пойми, гостей принимать придется в любом случае, от этого никуда не деться хоть при самодержавии, хоть при республике.
– Вполне у меня приличный дом.
– Ну да, в три окошка в улицу, с завалинкой и палисадником. Помню-с: трехсотрублевая трухлявая завалюшка, которую ты приобрел на мой кредит, для того, чтобы пройти имущественный ценз выборщиков в городскую думу. А до этого вообще скитался по квартирам. Стал домовладельцем, появилась возможность избирать и быть избранным, милости просим – в гласные Думы. Но теперь другой уровень, и дом должен быть другой. А ты знаешь, что? Ты, брат, купи мой особняк, дешево продам: возвращаться надобно в столицу, там я себе квартиру уже присмотрел прямо на Невском проспекте, тоже полагается иметь по статусу собственность.
– И не подумаю даже, меня и мою небольшую семью вполне устраивает наш домик. С завалинкой и палисадником. Без коровы, куриц, собаки, кухарки, кучера и дворника тоже без.
– Ну, ты, брат, скупердяй! Не ожидал, никак не ожидал! Боже мой, ни выезда своего, ни кухарки. Нет, я, конечно, подозревал прежде, но не представлял, до какой степени ты скупердяй, братец! Страхолюдное убожество, нищета и убожество при таких-то деньжищах. Скупой рыцарь, ей богу! Бери пример с меня: покупаю в центре столицы квартиру на весь этаж. Даже не буду говорить сколько комнат, приедешь в гости – увидишь. Остановишься у меня, и никаких гостиниц!
– Большому кораблю – большое плавание. Вы, Василий Михайлович, по сути, член правительства новой России. Вам верно положено иметь приемную, а у меня приемная на службе, в Думе… то бишь, Народном собрании. И к тому же сегодня я председатель, а завтра возьмут не выберут и все… обратно извольте шелкоперить!
– Тем более, голубчик мой. Тем более, нужно ковать железо, пока горячо. Вот посмотри, я продаю отличный дом, нестарый, всего десять лет ему, ты знаешь, никаких скрытых пороков нет. Библиотеку папашину уже отправил багажным вагоном в Питер, обстановку кабинета тоже перевез, извини, привык очень, зато всю остальную мебель оставляю тебе. Не возьму за нее ни копейки! По братски отдаю! Как в 1914 году был оценен дом с каменным полуподвалом в 10 тысяч, столько я теперь за него и прошу, в добавок со всей мебелью отдаю. Э, да что там, выезд тоже оставлю и кухарку в придачу, отличнейшая кухарка Авдотья, ну, да я уже говорил, кажется. Особняк с конюшней, погребом, баней всего за десять тысяч рублей. Я тебе и кредит помогу взять под божеский процент.
– Нет, кредит – ни в коем случае!
– Самое время, голубчик, самое время! Да скажите ему, Александр Виссарионович, что теперь, пока он практически городской голова, любой банкир сочтет за честь выдать кредит, хотя бы и вовсе без процента!
– Это совершенно верно. Без сомнения. Реклама первостатейная для любого банка городского голову у себя кредитовать.
– Вот, слушай, что тебе умнейший деловой человек говорит! А когда не выберут тебя, допустим, через два месяца делегатом в Учредительное собрание от твоей партии социал-демократов, слишком низкое к ней доверие, вот тогда уже и кредит будет не получить, даже оставаясь главой Народного собрания! Лови, брат, момент! Удача в политике – архи-изменчивая дама, уверяю тебя!
– Слишком роскошный особняк, я к такому не привык.
– Чудак-человек, привыкнешь за неделю. К хорошему быстро привыкают! Нет, ты просто счастья своего не понимаешь. Поддержи, Александр Виссарионович, я устал уговаривать, скажи, хорош ведь дом? Стоит усадьба десяти тысяч?
– Дом хорош, сказать нечего. Я бы и пятнадцать дал, когда своего бы не было.
– Вот! Слушай делового человека: полуподвал светлый, каменный, с преогромной кухней и помещениями для прислуги, ему сноса еще сто лет не будет, крыша под железом, гостиная большая, с английским камином, столовая того больше, кабинет, две хозяйские спальни, будуар… На дворе конюшня, современный бетонный погреб… так что по рукам ударим?
– Спасибо, Василий Михайлович, слишком роскошно для такого простого человека как я.
– Эх, не ценишь ты себя, Порфиша! Но помни: потом локти кусать будешь, да поздно!
Мельников перекрестился на храм:
– Господи, прости нас, грешных! Далеко пошли, Василий Михайлович, из вятских крестьян да прямиком в государственные деятели, чувствуется в вас достойный продолжатель дела Василия Штильке, того времени, когда в Барнауле он еще возглавлял Общество попечения начального образования, а вы ходили у него в товарищах. Самого царя с царицей и семейством сопровождаете в ссылку. Это ж надо, до чего дожили! Но объясните мне, темному, почему ныне в свете европейского просвещенности Госдума бывшего нашего императора, русского царя, под арест в Царское село засадила, а не отпустило на все четыре стороны в Европу, ну хотя бы к двоюродному братцу-королю в Англию, к примеру?
– Была такая идея, судари мои, и сам бывший монарх деликатно просился на выезд к кузину Георгу, и сначала английский король вроде бы согласился принять, но затем их министерство иностранных ответило такой телеграммой, что я ее запомнил наизусть: «Британское правительство не может посоветовать Его Величеству оказать гостеприимство людям, чьи симпатии к Германии более чем хорошо известны». А? Каково было Николаю прочесть такую бумажку? Дали посмотреть, жалко что ли…
– Память хорошая?
– На память никогда не жаловался… Но тут скорее другое. Благодаря этой телеграмме, я нынче вошел в историю государства Российского, как представитель новой государственной власти, сопровождающий бывшего монарха Николая и его семейство к месту ссылки. Вот если бы Николая повезли в Лондон, к братцу Жоржу, то поехал бы другой человек, скорее всего Керенский, министр юстиции. В Европу все-таки ехать. И в Англии его за спасение «нашего кузина» посвятили бы в рыцари. Вы себе представить не можете, как он об этом мечтал. Ну, а по России с царственным семейством мотаться, согласитесь, – миссия не слишком-то выигрышная, но для меня – это самое почетное поручение в жизни.
Мельников вздохнул с печалью:
– Не простили злопамятные англичане Романовых, ведь в самом начале войны Николай забрал из английских банков все свои сбережения в 2 миллиона фунтов на покупку санитарных поездов и госпиталей для русской армии. И хотя все оборудование заказывал тоже в Англии, чертовы финансисты припомнили русскому царю это «свинство», английская же аристократия целиком и полностью зависит от английской банковской системы, тут даже родство царствующих особ не спасает.
– Насчет немецких симпатий британцы правы. Тот же премьер наш немчура Штюрмер сумел братцев рассорить, затребовав в случае победы в войне у Антанты отдать Босфор и Константинополь. Те сквозь зубы пообещали, деваться им было некуда, но судя по настрою западной печати, ясно, что при любом раскладе России в победителях не бывать.
– Василий Михайлович, вы что, не верите в победу русского оружия?
– Повидали бы вы нашу нынешнюю российскую столицу, милейший Порфирий Алексеевич, я уверен, ваша вера тоже бы сильно покачнулась. Русские рабочие ушли на фронт, на заводах одни чухонцы, которые ежедневно бастуют. А чего стоят десять запасных латышских полков, которые отказались воевать с германцем и жируют в Петрограде на белых хлебах, якобы охраняя покой и порядок в столице. А на самом деле создали у себя солдатские комитеты, изгнали русских офицеров. Добавьте к этому литовские дивизии, всего получится большевистское кодло в 170 тысяч штыков. Все жители от мала до велика зовут их засадными полками, в том смысле, что это немецкая засада, что ударит нам в спину при малейшем прорыве немцев в Курляндию с Эстляндией. Кайзер обещал всем этим курляндцам-остзейцам создание независимых государств, и ныне они просто ждут своего часа сдать Петроград немцам. С отречением государя ситуация только обострилась, ведь присягали-то они ему, а не Временному правительству. Да и у нас внутри страны существуют силы, имеющие на эти засадные полки гораздо больше влияния, чем Временное правительство. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, к примеру, который создал в каждом воинском подразделении революционные комитеты и влияет на солдат, как хочет!
– Что делать… революция… – усмехнулся Казанский, – все мы теперь в каких-нибудь комитетах состоим. Комиссарим понемногу…
– Понимаю вашу иронию, Порфирий Алексеевич, ведь теперь вы, наконец-то, определились со своими политическими взглядами, и снова попали в крепкие объятия РСДРП. Так вот, именно ваши коллеги социал-демократы да эсеры правят бал сегодня в Питерском Совете, и миссия их вызывает массу вопросов…
– Позвольте некоторым образом возразить: ваш однопартиец, трудовик Керенский, занимает высокий пост является заместителя председателя Петроградского Совета! Мы здесь центральную прессу тоже читаем и за новостями из столиц следим не меньше, чем за фронтовыми сводками.
– Эта была острейшая необходимость, вынужденная мера, давшая Госдуме хоть какую-то надежду вернуть управляемость гарнизоном.
– Старое доброе правило: если революцию нельзя подавить, ее надо возглавить? Не так ли?
– По крайней мере надо попытаться пресечь крайние варианты развития событий, дабы потом не выбирать из двух зол.
– Так вы их оба выбрали уже!
Глава 5
Экипаж с городским и общероссийским начальством подкатил к известному в городе вершининскому особняку, расписные в старо-русском стиле ворота тотчас отворил бородатый дворник и коляска въехала во двор, за ним ворота закрылись.
– Я только на минуту, – обеспокоился Казанский. – К чему во двор завез, пусть бы у парадного крыльца экипаж подождал.
– Ничего, ничего, милейший Порфирий Алексеевич, не испортятся ваши продукты, а вот мы их в ледник пока опустим. Эй, Авдотья! Прими у гражданина Казанского сумки, да поставь на лед, а мы покуда чайку-с попьем. Прошу, граждане в дом! Господин Казанский, вы вперед, как самый важный в Думе городской, пардон, в Народном собрании человек, по старым чинам звание статский советник не ниже, эх, жаль, чины нынче не в моде: я бы тайным советником числился, не менее! Прошу, граждане, прошу.
Кучер соскочил с козел, неторопливо направился следом за всеми.
Порфирий Алексеевич передал груз экономке Авдотье, рослой женщине с решительным выражением лица и крепкими, мужских размеров руками:
– Лед-то еще остался в леднике? Али опилки одни мокрые по такой жаре?
– Знамо дело, имеется в наличии лед, а потому что в самые Крещенские морозы был напилен на матушке Оби. Каждый кусок – серебро в пуд весом. – Авдотья и говорила почти мужским басом.
Вершинин подтвердил:
– Знатный лед у нас, синий, крещенский, такой под слоем опилок в погребе до июля не растает, будьте спокойны. Таких ледников в городе раз-два и обчелся! Холодно там, как в Арктике на Земле Николая 2. Граждане, внимание, у нас открылась государственная проблема! Что нам делать с островами Николая 2? Как считаете?
Казанский снял шляпу, повесил на вешалку, поправил ладонью коротко стриженую шевелюру.
– Дела… Вот ведь что странно, открыли величайшие острова, какого размера уже сто лет не открывали, назвали в честь императора Земля Николая 2, в пику Земле Франца Иосифа, а он, государь наш, возьми да отрекись от власти, причем воюя именно с Францем Иосифом! Чудны дела твои, Господи! Есть у меня предчувствие, что как сторож Народного дома в марте сего года снял со стены и вынес вон из зала портрет императора Николая Второго, так скоро и Землю Его имени переименуют в какую-нибудь Северную Землю.
– А Землю Франца Иосифа, думаете не переименуют, если Австро-Венгрия рухнет?
– Ну, нет, землю Франца Иосифа – ни под каким видом не тронут, даже если Габсбурги и падут. Европа не позволит свои династии шельмовать. Прошу сразу в кабинет, нам туда чай с закусками подадут.
– Я ненадолго, – еще раз напомнил Казанский.
Почему-то следом за честной компанией в дом вошел и кучер, привезший граждан. Он сбросил армяк с войлочной шляпой – поярком в угол, оказавшись щеголеватым человеком лет тридцати пяти в современном костюме и штиблетах, острый взгляд карих глаз смеясь пробежал по удивленным лицам гостей.
– Само собой, сударь, самой собой. Позвольте представить вам гражданина Титова. Вот сейчас гражданин Титов прочитает нам свой доклад и, пожалуйста, – по домам. Вы олицетворяете и народную думскую городскую власть и комитетскую, я комиссар Временного правительства с чрезвычайными полномочиями, и нам хотят сделать доклад, уведомить о грядущих, как я понимаю, барнаульских бедах. О коих мы, как всегда, ни сном, ни духом…
– Здравствуйте, господа! Не обессудьте, я здесь по чрезвычайным обстоятельствам, – объяснился приятным баритоном бывший кучер.
– Прошу, граждане, в гостиную, рассаживайтесь, кому где удобно, вот сигары, коньяк. – Вершинин обернулся к двери и громко крикнул: – Авдотья, подай нам закуски под коньяк. – Позвольте вам представить сегодняшнего докладчика: жандармский ротмистр железнодорожной полиции Федор Сергеевич Титов, любить и жаловать не прошу, но выслушать его, пожалуй, стоит. А то он предвещает нашему родному Барнаулу какие-то страсти-ужасти и намедни слезно просил провести личную секретную встречу с местной городской властью. А кто есть нынче власть в городе, как не вы, гражданин Казанский Порфирий Алексеевич?
– Пришел-таки на нашу социалистическую улицу праздник, – с удовлетворением констатировал Казанский, – жандармские крысы ушли в глубокое подполье, откуда иногда вылезают с нижайшей просьбой поговорить. Не скрою: до чрезвычайности приятно, доставили удовольствие господа-товарищи. Хотя, здраво рассуждая, мне, как члену РСДРП и Комитета общественного порядка города, следует вас, голубчик, немедленно арестовать и посадить в кутузку, где прежде вы наших товарищей парили без веника. И Василий Михайлович, думается, мне в этом поможет.
– Вряд ли у вас, милейший Порфирий Алексеевич, это получится даже на пару с Василием Михайловичем…
– Отчего же не получится, мы вон еще купца первой гильдии Мельникова пригласим. У нас в Барнауле нынче купцы ого-го какие смелые: даже сам начальник воинского гарнизона полковник Шевандров был арестован простыми гражданами, то бишь, торговыми людьми, а уж какой здоровяк был полковник, не голос – иерехонская труба, вы против него, извините за выражение, как австрийский хлыст против русской дубины… К тому у нас есть все основания: приказом Временного правительства, Отдельный корпус жандармов расформирован, жандармское полицейское управление железной дороги, в том числе, офицеры оных учреждений должны отправиться на фронт…
– Ну что ж, арестуйте, господа, и отправляете, куда хотите… только прошу сначала слово молвить, не откажите в последней просьбе.
– Это извольте, только надолго прошу не задерживать, уж извините, дома ждут. И господами нас не называйте, время господ, их слуг и рабов кончилось, хотя и товарищами тоже не надо.
– Хорошо, по имени-отчеству, надеюсь, не возбраняется? А знаете ли вы, уважаемый Порфирий Алексеевич, что по образовательной среде мы с вами однокашники: вы тоже учились сперва в Томском технологическом институте, за листовки были исключены, но впоследствии все же окончили Томский университет юристом, а я выпускник вашей первой альма-матер, Томского технологического, инженер. Служил на транспорте, в жандармском полицейском управлении железной дороги, где прошел весь курс практики от паровозного кочегара до машиниста и начальника станции. Наш подотдел новый, больше по технической части спроектирован, чем по сыскной, в задачи входит предупредительная борьба с бомбистами и прочими злоумышленниками на железной дороге, главная задача – так организовать движение на дороге, чтобы диверсии и террор стали невозможными. Что в этом плохого, извините, не понимаю. Зачем было разгонять охранную систему железной дороги? Слава богу, люди в эту новую структуру тоже свежие пришли, не очень известные со стороны, потому в момент февральского переворота сумели сохранить архивы от чужих глаз, вывести своих сотрудников и агентуру из-под удара революционеров, особенно имевших зуб на силовые органы террористов-эсэров.
– Вот оно как. Об этой голове гидры царизма мы вовремя не подумали.
– Спасибо на добром слове. Кстати, я был негласно прикомандирован сопровождать члена Государственной думы и чрезвычайного комиссара Временного правительства Василия Михайловича Вершинина на перегоне от Ново-Николаевска до Барнаула. Это входит в мои обычные служебные обязанности. Расположился в вагоне по соседству, затем познакомился лично, представился и в личной беседе изложил свои не очень приятные для Барнаула новости. Гражданин Вершинин, в свою очередь, согласился свести меня с городским начальством для решения этих насущных вопросов. И вот я перед вами, граждане начальники города: не велите казнить, велите слово молвить.
Мельников поднялся с места, принял от кухарки поднос с закусками:
– Сограждане дорогие, я все понимаю: у вас тут сложные государственные вопросы намечаются на повестке дня, какие-то секретные донесения, я бы к ним не хотел иметь касательства, поэтому прошу выслушать сперва меня. Порфирий Алексеевич, вы, как городская наша власть и вы, Василий Михайлович, представитель новой власти всероссийской, объясните, Христа ради, пароходо-владельцу неразумному – как мне нынче быть и что делать?
– Сакраментальный вопрос, голубчик. Попахивает революционером Чернышевским, а ваш рассказ будет не слишком длинен, уважаемый Александр Виссарионович? Описания снов Веры Павловны, случаем, не последует?
– Изложу предельно кратко.
– Ну что, сограждане, дадим первое слово гражданину Мельникову для доклада «Что делать?» Кто за? Отлично, прошу Александр Виссарионович, излагайте свою тему.
– Господа, всем вам прекрасно известно, что мы с моей матерью, Евдокией Ивановной Мельниковой, и младшим братом Николаем, находящимся в данный момент на фронте, являемся совладельцами в высшей степени благополучного пароходства, головная контора которого расположена в Томске, конторы имеются в Ново-Николаевске, здесь, в Барнауле, Бийске, там же располагаются крупные складские помещения и причалы компании. В Бобровском Затоне выстроена Судостроительная верфь. Пароходство имеет в наличии 10 двухпалубных пароходов американского типа, с паровыми двигателями от 200 до 500 лошадиных сил, кои предназначены для пассажирских и грузовых перевозок. К ним в придачу имеем 10 барж для перевозки габаритных, в том числе насыпных грузов. В прошлом году общий доход пароходства составил более миллиона рублей, а чистый доход превысил триста тысяч. Перевезено 6 миллионов пудов груза, в том числе более двух миллионов военных заказов…
– Уважаемый пароходо-владелец, – Казанский достал карманные часы, открыл крышечку и постучал ногтем по стеклу циферблата, – мы отлично осведомлены о достижениях вашего замечательного предприятия и его истории. Не стоит здесь излишне самовосхваляться, время дорого.
– Извините, Порфирий Алексеевич, это для нового в нашем городе человека, для Федора Сергеевича, пояснил вкратце, о чем идет речь.
– Да, я как томич прекрасно знаком с Пароходством Мельниковой, уважаемый Александр Виссарионович, и признаюсь, слышал только хорошее о точности выполнения расписания рейсов, уровне обслуживания пассажиров, но сам лично пользовался редко, имея прямое отношение к железной дороге и даже бесплатный служебный проезд.
– О, это конечно. Ваше мнение для меня крайне важно. Мы стараемся всегда вовремя производить профилактические ремонты, дабы иметь возможность самым строжайшим образом выполнять расписание рейсов. Для публики в салоне каждого парохода у нас имеется библиотека и пианино, к первоочередным услугам так же относится буфет, прекрасная кухня, электрическое освещение кают и помещений, паровое отопление всех классов в холодное время года….
– Александр Виссарионович! Я лишу вас права голоса!
– Простите, Порфирий Алексеевич, извините… В революционном 1905 году, вы, господа состояли в прямой оппозиции к власти и не только приветствовали стачки, демонстрации, но и сами участвовали в них. Ну, Порфирий Алексеевич, как уже упоминалось, будучи студентом Томского технологического института, разбрасывал листовки в городском театре с призывам к антиправительственной демонстрации, за что пострадал, я считаю излишне… С ним я в те времена личного касательства не имел, а вот с членом стачечного комитета приказчиков города Барнаула Василием Михайловичем сталкивался нос к носу на забастовке в нашей пароходной компании. Вы, Василий Михайлович, как двуликий Янус были: с одной стороны сам купец, не издатель еще, но продавец галантерейных и шляпных товаров, даже благотворитель, товарищ Штильке в «Обществе попечения начального образования», а с другой, обратной – стачечник-революционер. Но помнится тогда приказчики да кладовщики наши бастовали отдельно от плавсостава, требовали конкретно для себя повышения оплаты труда. А матросы, механики и капитаны кораблей их не поддержали. И даже побили маленько наших приказчиков, за то, что навигацию срывают и другим заработка не дают. В любом случае денежные вопросы мы тогда утрясли с вами миром. История, конечно, неприятная, но по сравнению с сегодняшней – просто мелочи жизни.
– Что это вы в воспоминания ударились? Какое у вас конкретно к нам дело? Опять бастуют, что ли? Тогда все вопросы к профсоюзу, с ними договаривайтесь сами!
– Бастуют, батеньки мои, бастуют конечно, но, не объявляя о том, просто начисто срывают столь рано открывшуюся, к общей радости, навигацию. Выводят из строя суда: кто – неизвестно. А механики не могут починить их неделями. Когда чинят – их тут же снова ломают. Склады грабят один за другим неизвестные люди. Сторожа при этом напиваются и спят мертвецким сном, ничего не помнят, ничего не знают. Полиции нет, то ли на фронт отправили, или куда в другие, не столь отдаленные места – мне лично опять же неизвестно, однако ловить грабителей стало некому. Дело перед ними беззащитно! А у меня, граждане высоко-благородные начальники, план воинских поставок срывается! Мало того, что разоряюсь на ровном месте, так еще могут осудить за неисполнение договоров военного времени и в тюрьму посадить. Ну вы же не «пораженцы-ленинцы», выступающие за сдачу Германии и перевод мировой войны в гражданскую на территории России? Или я уже ничего не понимаю?
– Договаривайтесь, любезный, со своими рабочими и служащими сами! Это ваша прямая обязанность! Мы никак не вмешиваемся в частные предприятия, мы заключаем с вами контракты на поставку продовольствия и прочего оборудования для армии, так что решайте свои проблемы сами! Повышайте оплату труда матросам, механикам, создавайте лучшие условия для жизни! – Казанский встал с кресла. – И давно надо было это делать!
– Так мы давно делали! Мама занималась исключительно благотворительностью. Мы построили школу в Затоне при судоверфи для детей фабричных рабочих, содержим ее за свой счет, не хуже, чем одну из ваших двух школ Штильке, которые вы рекламировали во всех газетах! Создали фельдшерский пункт, опять же для рабочих, оплачиваем время нетрудоспособности, оплачиваем обучение лучших учеников, поступивших после начальной школы в гимназию. Помогаем семьям, кормильцы которых получили увечья на работе. Семьи ушедших на фронт из нашей компании получают половину среднего заработка.
– Почему же об этом не сообщалось в газетах? И я слышу про то первый раз!
– Да потому, что помощь не должна быть громогласной, как у вашего Штилькиного общества! Где сделают на копейку, а кричат в своих купленных газетках на рубль. Мы русские деловые люди, а не немецкие горлопаны.
– Ну и зря! Тогда, извините, странно, что при такой помощи вы не можете договориться со своим столь опекаемым коллективом! Противоречие, говорящее о какой-то скрытой лжи! Врете, батенька мой, где-то сильно врете!
– Да потому, что коллектив нынче почти полностью сменился, наших местных молодых парней и мужчин забрали на флот, старые вышли в тираж. На эту навигацию еле-еле составили команды, даже половина капитанов – новые люди. И большинство их выходцы из Эстляндской губернии, бывшие в ссылке и получившие теперь освобождение после февральской революции. А еще австрияки-пленные устраиваются на работу и все как один объявляют себя социал-демократами-коммунистами, требуют свободы собраний и митингов, которые вы объявили законными даже в рабочее время. Набрать – набрали, зарплату платим, договора есть, навигация открылась, а пароходы ни с места. Или плывут немного и встают на ремонт вообще в безлюдных местах, из-за сложных поломок паровых установок…
– Но чем мы вам можем помочь? Это ваше частное предприятие! Сами разбирайтесь.
– Погодите, я сейчас поясню подробности, в которых скрыт дьявол. Это все началось после того, как некая неизвестная никому компанийка с микроскопическим капиталом и громким названием Пароходное общество «ТОВАРПАР» предложила продать ему пароходство Мельниковой за полтора миллиона рублей. Основателя мы проверили, какой-то подставной бухтарминский мещанин с немецкой фамилией. У нас годовой оборот нынче полагается больше миллиона, а тут продать всего за полтора все пароходы, баржи, складскую недвижимость, пристани, судоверфь… Ну где такое видано? Всему оценочная цена за 1914 год была уже пять миллионов, а сейчас много больше…
– Так не продавайте…
– Я, естественно, отказался, а они заявили, что тогда пароходство Мельниковой не сможет работать.
– И что?
– Да то, что видите. Пожалуйста, извольте получить обещанное: не работает. Что мне делать, граждане-товарищи? У Эльденштейна то же самое было, так он быстренько сбыл свои пять пароходов неким Риддерам, тоже немцам или евреям, я точно не знаю. Ему что, он процентщик, пароходы отсудил у своих заемщиков, когда те не смогли вовремя расплатиться, и сдал мне в управление, получая только прибыль. Те Риддеры по-свойски с ним расчитались, по-родственному. А меж собой якобы договорились как-то. Но я всю жизнь, четверть века пароходством занимаюсь, и не желаю ничего другого, а особенно продавать за такую сумму. Однако, работать не дают… Что делать, уважаемые власти?
– А что Ельденштейн советует?
– Советует отдавать за любые деньги, полученную сумму переводить через его знакомый банк в нейтральную страну Швецию и сматываться туда по-быстрому. Дескать, скоро у нас в России коммунисты-марксисты придут к власти и вообще все отнимут. Так хоть что-то спасти. И, якобы, Ленин уже прибыл в Россию в немецком поезде.
Забрав со столика свой коньяк, Вершинин тяжело прошелся по гостиной, где кроме кожаной мебели ничего не осталось.
– А знаете что, дорогой мой Александр Виссарионович? Ведь я тоже продаю этот особняк, а также типографию в Барнауле с ее замечательными электрическими печатными станками, газетное дело, коему посвятил жизнь, целиком и полностью закрываю к чертям собачьим и перебираюсь в Петроград по месту… службы. Семья уже там… сюда прибыл дать поручения доверенному лицу для завершения тут всех сделок в мое отсутствие – и айда! Понимаете?
– Большому кораблю большое плавание, Василий Михайлович! Вы нынче по высшей мерке государственный человек, вам необходимо жить в столице. – Казанский поднял бокал: «За Великую февральскую революцию! За Временное правительство и Учредительное собрание! За вас, Василий Михайлович!»
– Спасибо, дружище! А вам, Александр Виссарионович могу посоветовать одно: прислушайтесь, голубчик, к совету Ельденштейна, на полтора миллиона золотом можно в Швеции или Швейцарии неплохо устроиться по нынешним временам. Или дело новое в столице открыть в Питере или Москве, хотя нет, в Питере не советую, у нас там сейчас действительно могут произойти очень большие пертурбации… очень большие, и черт знает только, чем все окончится. Вот вас ссыльные из Эстляндской губернии замучили и перед крахом пароходную компанию поставили, так вы их сами по дурости на работу наняли, а у нас 170 тысяч тех же курляндцев, эстляндцев в Питере стоит, называя себя красными латышами, и не желают идти воевать против немца, а желают пить, жрать и по бабам ходить. А комитетчики разных партий и партиек создали в этих полках солдатские Советы и теперь, если смотреть на дело здраво, имеют в распоряжении собственные войска, которые наше государство кормит и поит, а они государству угрожают…
– Но послушайте еще, сограждане, обличенные властью, ведь у меня не просто пароходство на руках, на мне обязанность выполнения военных поставок, договора продовольственные для армии по хлебу, овсу, гречихе да и прочие товарные поставки, которые я не могу нарушать в условиях военного времени! И если сейчас вы убрали полицию, то я пытаюсь бороться с забастовками исключительно силой рубля, ничего другого у меня нет, убеждения и призывы к патриотизму в моем пароходстве нынче не действуют. А не действуют они потому что это совсем не русские люди, и им плевать каково там солдатушкам на фронте без еды, снаряжения, сапог, полушубков и боеприпасов. Но в случае, если меня вынудят продать компанию неизвестно кому, скорее всего просто врагу, тот может вообще перекрыть весь транспортный поток, ведь он договоров на военные поставки не заключал! Что если эта фирмочка – есть подставная германская компания, которая хочет нарушить внутренние водные перевозки Алтая до железной дороги? Да и на железной дороге, я слышал, уже австрийские пленные-рабочие бастуют! Как вы считаете, гражданин ротмистр, такое может быть?
– Гражданин Мельников конечно капиталист-миллионщик, – вставил слово Титов, – но его почему-то заботит судьба солдат на фронте и интересы России. Чего не скажешь о наших новых властных структурах на всех уровнях. Увы, эти господа умеют только критиковать царское самодержавие, произносить громкие речи о народных судьбах, а на деле выпускают указы об отмене единоначалия в армии, ведущие к полному развалу оной, указы о полной отмене внутренних силовых органов, в результате которых обычные граждане остаются один на один с уголовниками и террористами…
Казанский вспылил:
– Ну почему же мы ничего не умеем делать? Мы в городе наконец-то приняли решение проводить водопровод – раз! Будем строить Народный университет – два! И главное сейчас – посадка картошки всем населением, помощь солдатским семьям посевным материалом, землей, доставкой на поля. Эту проблемы решаем в первую голову! И решим, что бы нам это ни стоило! Мы не допустим голода в городе! Кстати, Василий Михайлович, что там с пособиями на солдатские семьи, второй месяц их не выплачивают! Да-с, вот мой вопрос комиссару Временного правительства: «Какого черта нет денег солдаткам и солдатским вдовам?»
– Извините, не по адресу: я по министерству юстиции числюсь, а не по министерству финансов. Разберемся, дорогой Порфирий Алексеевич, со всеми вопросами разберемся, дайте срок. Но вот кредит беспроцентный на покупку дома я тебе готов обеспечить хоть сегодня. Вы просто не представляете себе, господа, по какому краю пропасти смог пройти Керенский, чтобы овладеть ситуацией в Петрограде, когда уже в Таврический дворец влез с черного хода Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Именно они имеют влияние на 170 тысячный гарнизон, стоящий в Петрограде, разложенный их революционной пропагандой. Что бы там ни вещали все эти князья львовы, именно Александр Федорович Керенский смог обуздать вепря, заставил подчиняться легитимной власти.
– Встав во главе питерского Совета? – меланхолически поинтересовался ротмистр Титов, так и не притронувшийся к своей рюмке.
– Да, черт возьми, хотя не совсем во главе… стал заместителем председателя Петросовета. Но это было совершенно необходимое решение. Оно спасло ситуацию, спасло революцию!
– Значит, теперь у Временного правительства легитимность, а у Петросовета 170 тысячный гарнизон. Эфемерное равновесие, одна видимость его. И на основе этой видимости, Временное правительство собирается ввести закон о правах солдата по всей России, солидаризуясь с Петросоветом, что ввел его для питерского мятежного гарнизона. Собираетесь пойти на отмену единоначалия в армии, узаконив войсковые комитеты, тоесть, официально разрушая армию по всей стране и даже на фронтах? Это будет конец армии и государства в военное время, вы понимаете, что делаете? Это будет поражение перед всеми врагами сразу!
– Это происходит под страшным давлением Питерского совета рабочих и…
Титов тихонько рассмеялся:
– Кого? В длинном списке руководства Питерского совета рабочих и солдатских депутатов всего один рабочий, воспитанник воскресных школ и Тихорецких железнодорожных мастерских. Но именно его имя стоит первым в списке создателей: Гвоздев Кузьма Антонович, это рекламный проспект Петросовета. Якобы им управляет рабочий металлист, настоящий слесарь. Для этого мятежные войска специально атаковали тюрьму Кресты, вызволив оттуда Гвоздева, после чего немедленно был организован Петросовет с его первым именем в списке. А на деле включили беднягу в качестве члена президиума – заседателя. А кто руководит на самом деле? На втором месте главного списка Борис Богданов. Тут не пахнет, извините, ни рабочим ни солдатом. Послушайте, Василий Михайлович, признайтесь, вы же масон, член тайной ложи Великого Востока народов России.
– Откуда вы знаете?
– По долгу службы: я жандармский ротмистр, Василий Михайлович, нам надобно помнить имена нынешних террористов, бывших народовольцев, анархистов и в том числе… членов тайных обществ…
– Мы сеем доброе, вечное… тоже без лишнего афиширования, без саморекламы.
– Само собой, разумеется, никто не против: сейте. Очень удачное начинание. Вот вы однажды баллотировались в Третью Думу, но не прошли, а в 1912 году, как вступили в Ложу народов Востока, так сразу и пожалуйста, в Четвертой Думе оказались. И ваш руководитель думской фракции трудовиков Александр Федорович Керенский из той же тайной ложи… И Чхеидзе и многие-многие другие. Да, Борис Богданов, фактический организатор Петросовета, второй в списке, непристанный радетель за права рабочих родился в богатейшей еврейской семье одесского купца 1 гильдии, сам выпускник Одесского коммерческого училища Николая 1, женат на дочери казенного раввина Одессы, купца 1 гильдии Абы Дыхно. Ну что ему рабочие? Что крестьяне? Просто он тоже член ложи Востока народов России. Далее, третьим в списке организаторов Совета питерских рабочих идет Чхеидзе, грузин, дворянин, депутат Госдумы. Этот, судя по всему, пролетариат в глаза никогда не видел. Пытался учиться в двух университетах, отовсюду изгнан по неспособности. Зато перевел на грузинский язык «Манифест Коммунистической партии», посему считался самым образованным марксистом на Кавказе. А в Питерском Совете и Думе оказался тоже благодаря масонству. Был посвящен в масонство в петербургской ложе союза Великого Востока Франции – истока и прародителя вашей ложи, а потому он еще и член «думской ложи» Великого Востока народов России, и глава Исполнительного комитета Петросовета.
– Ну и что? Вы это, собственно, к чему ведете?
– Да к тому, что ложа Востока народов России наложила свои яйца не только в Госдуму, но и Петросовет. Послушайте еще: вот Матвей Иванович Скобелев, русский, но увы, жил за границей на средства партии РСДРП, и опять член масонской ложи Великого Востока народов России. То есть куплен целиком с хвостом, рогами и копытами. Потому и стал заместителем председателя Петросовета.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63076797) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
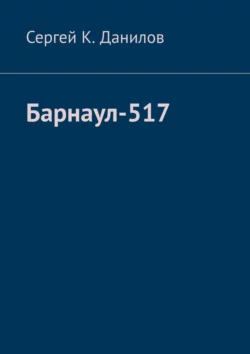
Сергей Данилов
Тип: электронная книга
Жанр: Историческая литература
Язык: на русском языке
Издательство: Издательские решения
Дата публикации: 24.09.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Более ста лет назад в Барнауле случился пожар, уничтоживший всю его центральную часть и оставивший без крыши над головой более 20 тысяч человек. Официальной причиной пожара в советские времена было признано неосторожное обращение с огнем начальника пожарной части города при смолении им лодки у себя во дворе. Однако свидетельские показания местных жителей на суде, состоявшемся в двадцатые годы прошлого века, на которые власти постарались не обращать внимания, называют другие причины катастрофы. Книга содержит нецензурную брань.