Тетя Ася, дядя Вахо и одна свадьба
Тетя Ася, дядя Вахо и одна свадьба
Маша Трауб
Здесь кофе бывает трех видов – сладкий, средний и несладкий. Здесь жених не догадывается, что приехал на собственную свадьбу. Здесь нельзя предсказывать погоду и строить планы даже на ближайшие пять минут. И здесь есть всё, кроме чужих людей и одиночества. Это роман о дружбе и верности, терпении и прощении, радости и горе, о времени и судьбе.
Маша Трауб
Тетя Ася, дядя Вахо и одна свадьба
Памяти Светланы Григорьевны Канкелиди
– Цель поездки? – спросил пограничник.
– Туризм, – ответила Нина.
Пограничник если и удивился, то виду не показал. Шлепнул отметку и пожелал ей счастливого пути.
Нина ехала домой, в город, где родилась и выросла. Город, в котором не была с тех пор, как похоронила маму. Давно, очень давно, но кажется, только вчера уезжала «насовсем» во второй раз, обещая себе, что больше никогда не вернется. Все. Мамы больше нет. Пуповина оборвалась, и связи никакой нет. Не к кому ехать.
Она хорошо помнила, как уезжала в первый раз, сразу после школы, – в Москву поступать в университет. Мама плакала, соседки плакали, весь двор вышел ее провожать. Нина злилась и хотела побыстрее отлепиться и от матери, и от соседок, которые передавали ее с груди на грудь, прижимали, поливали слезами и разве что волосы на себе не рвали в знак скорби. Скорее уехать в другой город, в другую жизнь. Как же здесь все надоело! Каждый день – такой же, как предыдущий. Ничего не меняется. Опять соседки, опять вопросы, ни встать ни сесть без их ведома. Нине хотелось свободы и взрослой самостоятельной жизни.
– Нина-а-а! Подумай! Заклинаю тебя! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Смотри, тетя Ася плачет! Зачем ты делаешь так, что тетя Ася плачет! – причитала мама. И тут же без перехода, на том же вдохе: – А ты билет не забыла-а-а? Надо было картонкой чемодан обмотать, как говорил дядя Рафик! Почему его не послуша-а-ась? Дядя Рафик плохого не скаже-е-ет!
Мама тянула гласные. Как будто пела песню. Соседки подвывали на последних слогах, складывая многоголосие. Ровное, мелодичное, чистое. У Нины разболелась голова от этого «а-а-а-а», «э-э-э-э», «о-о-о-о». Как они так могут – плачут, как будто поют?
Здесь же стояла и тетя Лиана – ее первая и последняя учительница музыки. Нину привели к ней в семь лет, в большой, красивый дом в центре города. Нужно было покрутить звонок, который отзывался мелодичным звоном, и сильно толкнуть дверь. Нине понравилось крутить звонок, но дверь была такой тяжелой, что ее пришлось толкать попой. Мама перекрестила Нину и побежала в магазин.
– Я тебя заберу. Куплю тебе конфет, – пообещала мама.
Когда мама вернулась с конфетами и пирожными для тети Лианы, Нина очень обрадовалась, но не конфетам. Она очень боялась учительницу, потому что у той рос ус – длинный черный волос, закручивающийся на конце, торчащий из огромной, размером с навозную муху, родинки на щеке. Нина никак не могла сосредоточиться и все время смотрела на волосатую родинку тети Лианы. Наконец мама ее заберет отсюда!
– Ну что? – кинулась к учительнице мама Нины.
– Пойдем, Томочка, на балкон, я тебе кофе сварю.
– Что? – тут же испугалась та.
– Ничего. Совсем ничего, – объявила тетя Лиана. – Она глухая, не слышит. И ты знаешь, что странно? Она меня не понимает! Я ей говорю – сиди красиво, руку держи так, а она не понимает! Я забыла, ты средний кофе пьешь?
– Как глухая? – испугалась Тома. – Может, серная пробка? Может, ее Вахтангу показать? Сейчас я ему позвоню. Дай мне телефон.
– А-а-а! При чем тут Вахтанг? Он реаниматолог, а не ухо-горло-нос! Зачем ее реанимировать? При чем тут серная пробка? Глупости ты говоришь совсем! Я тебе объясняю, слуха у нее нет! Ни до не слышит, ни ля!
– Как – нет слуха? Не может быть! – ахнула Тома. У нее самой был такой прекрасный голос, что, когда она пела, даже соседки замолкали. И на торжествах ее обязательно просили спеть. Ну а когда она пела дуэтом с Вахтангом, тут «даже лягушки прекращали квакать», как всегда замечала тетя Лиана. Никто так не пел, как они.
– Вот и я тебя спрашиваю, почему у нее нет слуха? Может, ты ее роняла в детстве? – обеспокоенно покачала головой тетя Лиана.
– Куда я ее роняла? – закричала Тома. – Я ей в попу дула, а то ты не знаешь! Как ты могла такое подумать?
– Тогда не знаю. Значит, в мужа твоего. Или в его родственников. Больше не в кого. У него слух был?
– Не знаю, – заплакала Тома.
– Значит, не было. Если бы был, ты бы знала, – отрезала тетя Лиана.
– Лианочка, но что же делать? Как девочка будет жить? – продолжала плакать Тома. – Позанимайся с ней, ты же волшебница!
– Да, я волшебница, – согласилась тетя Лиана и посмотрела на себя в большое мутное зеркало в тяжелой оправе. – Я многое могу. Я даже дочку Тариэла учу. А ты ведь знаешь Тариэла: одна ошибка – и все, нет тети Лианы. Никто с его Натэлой заниматься не хотел. А я ничего не боюсь!
– Натэла с Ниночкой в одном классе будут учиться, – забеспокоилась Тома. – И ты хочешь сказать, что у дочки Тариэла есть слух, а у моей Ниночки нет? И вдруг они будут сидеть за одной партой, и дочка Тариэла скажет моей Нине, что занимается музыкой с тетей Лианой, а что моя Нина ей ответит? Представляешь, какой удар для девочки! А для меня? Все будут говорить, что у дочки Томы нет слуха! Как я это переживу? – Она сделала большие глаза, а ее брови так уползли вверх, что Лиана сдалась.
– Хорошо. Я с ней позанимаюсь. Но только ради тебя. Ты же знаешь, как я тебя люблю.
– Знаю, Лиана, спасибо.
– Кстати, только между нами: у Натэлы слух еще хуже, чем у твоей Нины, – шепнула тетя Лиана. – Слон на ухо наступил!
– Медведь, Лиана, – поправила ее Тома.
– Нет, слон! Медведь – это у твоей Нины!
Так Нина была обречена на занятия музыкой и созерцание родинки учительницы. У тети Лианы был балкон, увитый виноградом, где стояли столик и стулья. Там тетя Лиана пила кофе, там сидели родительницы, пока в комнате девочки разучивали «Жили у бабуси», там же тетя Лиана поджидала опаздывавших на занятие учеников.
Нина с мамой подходили к дому, и девочка слышала, как Натэла, дочка Тариэла, долбила одним пальцем по клавишам.
– Мама, а тетя Лиана так уважает дядю Тариэла, что боится? – спросила Нина маму.
– Нет, его никто не уважает, но все боятся, – ответила Тома.
– А так разве бывает?
– И не такое бывает.
Нина крутила пимпочку звонка – это ей быстро надоело, и звонок из волшебного превратился в самый обычный, – толкала попой дверь и входила внутрь, сжимаясь и втягивая голову в плечи. В такой позе она сидела весь урок, несмотря на просьбы тети Лианы «сидеть красиво».
– Тома, почему она так сидит? – спрашивала тетя Лиана.
– Не знаю, – сокрушалась та. – Говорит, что у нее спина болит. Может, показать ее Вахтангу?
– Слушай, при чем тут твой Вахо? Я бы ее быстро выпрямила. – Тетя Лиана изобразила удар по спине. – Но ты же знаешь мои принципы! Я их пальцем не трогаю!
Нинина мама покивала, хотя и знала, что такой принципиальной Лиана стала недавно, с тех пор как стала заниматься с Натэлочкой. За «красивую спиночку» Тариэл мог выслать тетю Лиану из города в двадцать четыре часа. И ради спокойствия Тариэла, точнее тети Лианы, все соседи в один голос твердили, что Лиана учеников так любит, так любит, как родная мать не любит!
– Что я могу сделать? Что? – продолжала тетя Лиана, перейдя на шепот. – Если я ударю твою Нину, она скажет Натэлочке, что тетя Лиана ее бьет, и об этом узнает Тариэл…
Нина мучительно учила «Гусей», сидя за пианино, как страус. После урока она шла к соседке – крестной тете Асе, чтобы сделать домашнее задание. Тетя Ася стояла рядом и «проверяла».
– Нина, иди скорее, тетя Ася ждет ноты читать! – кричала ей мама в окно, стоило Нине выскочить во двор, чтобы попрыгать в резиночку.
Нина покорно шла читать ноты. У нее была удивительная форма дислексии – она прекрасно читала ноты на бумаге, но они никак не складывались в голове с клавишами. У нее была хорошая память, и ноты она запоминала быстро. Зато найти их пальцами никак не могла.
– Читай! – почти кричала тетя Лиана, и Нина покорно, без запинок, читала ноты.
– Играй! – уже кричала тетя Лиана, и Нина дрожащей рукой тыкала пальцем куда придется.
– Ты смерти моей хочешь? – переходила на зловещий шепот тетя Лиана.
Нина поглубже вжимала голову в плечи, сутулилась и подбирала под себя ноги.
После музыки Нина приходила домой и валилась без сил на диван.
– Какая Нина тихая стала! – удивлялись соседи. – Не слышно ее и не видно. Как мышка, да?
Конец мучениям положил дядя Вахо, которому Тома все-таки показала дочь – мол, на спину жалуется.
– Выйди, – велел он Томе, и та покорно вышла на кухню.
– Спина болит? – обратился он к Нине.
– Только когда музыкой занимаюсь. И голова тоже болит. И нога, правая, – добавила, чтобы уж наверняка, Нина.
– Понятно, – кивнул дядя Вахо, прощупывая Нине позвонки. – А как сильно болит?
– Очень сильно, – сказала Нина и стала внимательно разглядывать узор на босоножках.
– Совсем не хочешь музыкой заниматься? – ласково спросил ее дядя Вахо.
– Совсем. Так совсем не хочу, что… что… я боюсь тетю Лиану. У нее бородавка усатая… только маме не говорите.
Вахо улыбнулся и вышел к Томе на кухню.
– Ну что с ней? – обеспокоенно спросила та.
– Ничего. Все нормально. Немножко сколиоз, – ответил Вахтанг.
– О господи, а что делать?
– Пусть танцами занимается! Сколиоза точно не будет!
– Хорошо, Вахо, как скажешь, – кивнула Тома и тут же позвонила тете Лиане сказать, что у Нины сколиоз и музыкой она заниматься больше не будет.
Тетя Лиана так радовалась, что, когда Тома с Ниной пришли отдавать ноты, накормила их пахлавой, расцеловала и отпустила с богом. Себе она сварила кофе и долго смотрела в гущу, разглядывая тайные знаки – что ей готовит будущее. Будущее обещало новых учеников.
* * *
Нина с Натэлой учились вместе с первого по десятый класс в школе номер шесть, которая считалась лучшей в городе. Девочки друг друга ненавидели, но терпели, поскольку все десять лет просидели за одной партой. И даже если одна пересаживалась, то все равно возвращалась на привычное место, выстроив однажды отношения и диспозицию за партой и будучи не в силах делать это еще раз с кем-то другим. Все вокруг считали их лучшими подружками. Конечно, они были маленькими и многого не понимали. А если и догадывались о чем-то, то старались помалкивать.
Они, например, при такой тесной связи не ходили друг к другу в гости, что для их города – событие из ряда вон выходящее. Нинина мама, Тамара, терпеть не могла Мэри, мать Натэлы. Точнее, они старательно делали вид, что друг с другом плохо знакомы. Это девочки поняли быстро и никогда не говорили про дом. Если и общались, то только по поводу уроков. Хотя они вообще мало разговаривали – им это было и не нужно. Каждая умела читать настроение соседки по знакам, невидимым остальным. Если Натэла начинала выкладывать аккуратной лесенкой ручки и карандаши, добиваясь идеальной симметрии, значит, вчера мама опять на нее кричала, а то и отлупила. Если Нина пришла без учебника, значит, опять не спала всю ночь – рисовала в альбоме. И Натэла молча клала учебник на середину парты. Нину все любили, потому что любили ее маму – Тамару, а Натэлу – жалели из-за Мэри и Тариэла.
Натэла никогда не рассказывала Нине про родителей. Тома тоже не отвечала на вопросы дочери, когда та спрашивала про дядю Тариэла или тетю Мэри. Но из обрывков разговоров и сплетен соседок Нина смогла составить историю. Они с Натэлой учились уже в старших классах, и Нина по-другому посмотрела на свою подругу. Как будто вдруг увидела в ней свою одногодку, живого человека, с чувствами, мыслями, планами и желаниями.
Мэри, армянку по происхождению, Тариэл нашел в Ленинакане и заставил выйти за него замуж. Поговаривали, что силой. Тариэл в то время только-только поступил на работу в КГБ, но рассказывал о себе чуть ли не легенды. Ему повсюду мерещились шпионы. Он даже не мог просто пройти по улице – оглядывался, искал слежку. Что из того, что он рассказывал, было правдой, а что – его больной фантазией, не знал никто. Проверить ведь было невозможно. Тариэл придумывал себе то ранение в голову в ходе спецоперации, то работу «под прикрытием». Это были первые признаки болезни, которая проявилась у него с годами, но кто тогда мог подумать, что это болезнь? В Ленинакане, куда его занесло случайно – нужно было просто передать документы, – он ходил, придерживая отворот пиджака, как будто под ним было оружие. Строил из себя барина, высокопоставленного чиновника, хозяина жизни – ведь там его никто не знал, никто не мог рассказать о нем правду, никто над ним не смеялся, не издевался. Его боялись и уважали. От вдруг нахлынувших эмоций, от ощущения вседозволенности у Тариэла окончательно помутился разум, и он сделал то, о чем даже не мог, не смел подумать: увидел на улице девушку и подошел, пригласил в ресторан. Девушка фыркнула, оглядев его презрительным взглядом, и оскорбила. Сказала, чтобы он сначала на себя в зеркало посмотрел. Тариэл схватился за пояс, как будто там было оружие, но девушка уже ушла, даже не обернулась и не испугалась. От этого ему стало совсем нехорошо. То, что произошло дальше, он помнил с трудом, как будто это был не он, а другой человек. Он, Тариэл, никогда бы даже не посмотрел на такую красавицу. Не для него такая. Тут и старая обида вспомнилась.
Буквально месяц назад до этой поездки он приглядел себе невесту и отправился свататься. Невеста была больна с детства – маленькая, ростом с ребенка, переболевшая полиомиелитом, из-за чего одна нога стала чуть короче другой. Она работала секретарем в его отделе и нечасто вставала из-за стола, а когда вставала, то шла с трудом, заваливаясь на одну ногу. Ходили слухи, что у нее очень богатый и влиятельный отец – начальник начальника Тариэла, – и приданое за дочку даст хорошее, и со связями поможет. Конечно, дочери уже двадцать восемь, а все не замужем. Тариэл решил, что здесь отказа не будет – где она еще мужа найдет? – и пошел свататься. Взаимовыгодный, так сказать, брак. Однако его с порога прогнали, едва узнав, зачем пришел, еще и посмеялись. Даже эта хромоножка смеялась. Тариэл тогда слег с температурой на нервной почве. Такой обиды – сильной, горькой, от которой останавливается сердце и темнеет в глазах, – он никогда не получал.
Это был тот случай, про который говорят – звезды так сошлись. Тариэла могли не отправить отвозить документы, история с его сватовством могла случиться позже, в конце концов, он мог просто не встретить Мэри на улице. И ничего бы не было. Но у Тариэла опять поплыли черные круги перед глазами, опять зашлось сердце, и он пошел следом за девушкой, прячась за деревьями. Узнав, где она живет, он зашел в кафе, сытно поел и украл со стола нож. Через два часа, когда девушка снова вышла на улицу, Тариэл схватил ее и приставил нож к горлу. Она не кричала, как он ожидал, не просила ее отпустить, а покорно пошла с ним в машину. Так же покорно она села на переднее сиденье и ехала, глядя прямо перед собой. Тариэл отъехал от города и изнасиловал ее. Она не произнесла ни звука – нож не понадобился. Тариэл был даже разочарован. Он хотел, чтобы она кричала, умоляла, царапалась и дралась. Хотел борьбы и крови. Но все случилось быстро и не так, как он себе представлял. Ночь они провели в машине. Девушка спала, Тариэл так и не смог уснуть. Только утром он спросил, как ее зовут.
– Мэри, – спокойно ответила она.
Тариэл завел машину и поехал в город, решив забрать Мэри с собой. И опять все было не так, как он думал. Девушка жила со старой теткой, даже не заметившей отсутствия племянницы. Родители Мэри давно умерли. Она собрала вещи, поцеловала тетку, которая так ничего и не поняла, и Тариэл повез ее к себе.
Конечно, не обошлось без слухов, домыслов и разговоров. Но и Тариэл, и Мэри как воды в рот набрали. Даже свадьбы не было – расписались тихо, в церкви не венчались. Соседки остались без дополнительной информации. Мэри приняли хорошо, но она держалась уж слишком замкнуто, отстраненно и даже с гонором, поэтому подруг так и не завела.
Мэри быстро освоилась на новом месте и, хотя, по мнению соседок, была плохой хозяйкой, много работала – преподавала в школе английский язык. Правда, по-английски она говорила с армянским акцентом и во время объяснений часто переходила на родной язык, так что бедные дети вообще ничего не понимали.
К тому моменту, когда единственная дочь Мэри и Тариэла Натэлочка, которая родилась ровно через девять месяцев после той ночи в машине, пошла в первый класс, отец семейства серьезно продвинулся по службе в КГБ, а Мэри стала директором шестой школы. Тариэл свою должность высидел каменным задом, выклянчил подхалимажем, выбил доносами. А еще очень удачно скончался их шеф. Именно такими словами: «очень удачно» – Тариэл описывал Мэри кончину того самого начальника начальника, к которому метил в зятья. Тариэла в их маленьком управлении повысили сразу, чего бы никогда не случилось, останься шеф в добром здравии.
Уже в новой должности он заходил в свой бывший отдел, смотрел на хромоногую секретаршу, так и оставшуюся безмужней, и ухмылялся. Если бы он мечтал о мести, то вот она и случилась – он отомстил, и от этого чувства хотелось смеяться. Тариэл хохотал в голос, пугая несчастную женщину, которая оплакивала и своего отца, и свою жизнь. Конечно, Мэри села в кресло директора не без помощи мужа, о чем тоже все судачили, но шепотом, с оглядкой.
Мэри все-таки была красавицей. Удивительной. Можно сказать, уникальной. Тариэл гордился женой и старался чаще появляться с ней в гостях и на городских торжественных мероприятиях. Хотя с годами Мэри приобрела тяжелый обширный низ, который тщательно декорировала широкими юбками, декольте у нее осталось такое, как в молодости, – что надо декольте. Она гордо несла свою высокую пышную грудь, бережно укладывая в ложбинку длинные золотые ожерелья. Тариэл смотрел на жену маслеными глазами и провожал взглядом, когда она поворачивалась к нему спиной.
Еще одним достоинством Мэри были волосы – длинные, уложенные в затейливый узел, густые, волнистые. Шелк, а не волосы. На нее заглядывались многие мужчины, но близко никто не подходил – себе дороже.
Тариэла как мужчину местные жители, конечно, ни во что не ставили. Он был труслив, скуп и осторожен. Мог подставить и предать. Умом не блистал. Пить не умел, в застольях не участвовал. Злобливый, злопамятный. В общем, не мужчина. До своего высокого назначения держался особняком, ни с кем не дружил. Ходил на работу пешком и жался к домам. Мимо всегда мог проехать бывший однокашник и облить его грязью. Вроде бы как не специально.
Все изменилось в один день. Ну практически в один. Сначала он привез себе красавицу жену, а потом занял солидную должность. И только после этого начал по-настоящему жить. Вспомнил все обиды и наслаждался властью. Своего однокашника, соседа, который как раз не упускал случая после ночного дождя облить его грязью из лужи, проезжая мимо на машине, он посадил в тюрьму. Лишилась работы хромоногая секретарша, которая когда-то отказалась выйти за него замуж. После этого Тариэл затаился, выжидал. Но все шло как обычно, никто не пикнул и слова не сказал. К нему не пришли родственники его жертв, чтобы перерезать горло. Все молчали. И Тариэл понял, что теперь ему можно если не все, то многое. После этого пропал его одногруппник по институту, который, увидев Мэри, прямо сказал, что она сошла с ума, раз вышла замуж за Тариэла, и предложил ей себя – для начала в качестве партнера по танцу. Мэри не стала отказываться, а ответила на флирт, пошла танцевать, раскрасневшись, распрямив плечи и мелодично звеня золотым ожерельем в глубоком декольте. Тариэл смотрел, как его жена танцует с институтским приятелем, прижимается к нему, улыбается, и наливался злобой. Жене он ничего не сказал, зато приятель через неделю исчез, и никто не знал, куда и надолго ли.
Вот после этого и пошли слухи, будто это он виноват, его рук дело. Слухи росли как снежный ком, и кагэбэшного начальника стали бояться. Больше никто не обливал его грязью, никто не вспоминал по старой памяти его школьное прозвище Писун – за то, что он во втором классе описался прямо при всех, у доски. Да и от Мэри мужчины держались на расстоянии как минимум вытянутой руки, хотя она и старалась эту дистанцию сократить.
Почему она тогда не закричала, не позвала на помощь? Почему покорно уехала с Тариэлом и согласилась с ним жить? Сам Тариэл это понял быстрее, чем соседки: Мэри нужно было уехать. Любым способом. В своем маленьком городе, с больной, выжившей из ума теткой у нее не было никаких шансов уехать за пределы своей округи. Тариэл был не тем, о ком мечтала Мэри. Но он приехал из другого мира. И потом – какой-никакой, а начальник – с квартирой, деньгами. Так что Мэри молчала тогда не просто так. Она все просчитала. И Тариэл – этот шизофреник с манией величия, этот самовлюбленный идиот, пародия на мужчину, – появился как нельзя кстати. Он сделал то, чего Мэри от него ждала, – увез ее в свой город, столицу, да еще в другой республике и даже женился. Но того, что произошло потом, Мэри никак не ожидала. Оказалось, что ее мужа боятся. Не уважают, но боятся. И этот страх мешал ей жить. Мужчины не смотрели на нее, потому что у них дрожали поджилки. Разве это мужчины? А Тариэл? Как он мог становиться сильнее и влиятельнее? Разве те, кто продвигал его по службе, не понимали, что он ничтожество? Пустое место. Мерзкий, отвратительный, лживый насквозь. Мэри начинало подташнивать от одного вида мужа. Впрочем, эти приступы тошноты очень скоро нашли очень простое объяснение – она была беременна.
Конечно, она была несчастлива в браке. Тариэла она искренне презирала, что было хуже ненависти, хуже отвращения. Не проснулись в ней и материнские чувства к Натэлочке, которая была похожа на отца, особенно в младенчестве. Мэри смотрела на новорожденную дочь и не испытывала никаких приливов нежности, только презрение. Она видела в дочери черты мужа, и ее передергивало, как от судороги. Она быстро перетянула себе грудь простыней, чтобы не кормить дочь, лишний раз к ней не прикасаться. Девочка не была ее продолжением – она была дочерью Тариэла, и Мэри с ужасом думала, что ждет ее дальше. Как отцовские пороки, его жестокость и жадность, его мстительность и ненависть воплотятся в дочери.
От матери Натэле достался пышный низ и, собственно, все. Ни роскошных волос, ни манящей глубины глаз. Натэлочка так сильно проигрывала матери в красоте, что ее можно было только пожалеть. «Бедная девочка, и не выправится», – качали головами соседки. Надо признать, Мэри делала все, что могла, – держала Натэлочку на диете, не давая ей разъедаться, и втирала в голову дочери разнообразные снадобья на основе лука, чеснока и чуть ли не козлиной мочи, отчего Натэла все детство проходила с сальными, липкими волосами, распространяя по классу зловоние. Даже одноклассники Натэлу не дразнили, и не потому что боялись ее матери-директрисы, а потому что жалели. Над убогой смеяться неинтересно.
Так вот, пока муж работал в своем КГБ, набирая силу, вес и усиленно отращивая живот и второй подбородок, чем втайне очень гордился, поскольку в молодости стеснялся раздеваться даже в мужской раздевалке из-за своей синюшной худобы, пока Натэлочка ходила с луковыми масками на своих жиденьких волосенках, Мэри расцветала и мечтала о личном, женском, счастье. С мужем как жена она не жила – ей было противно, да и Тариэл не настаивал. Он обнаружил у себя импотенцию, которую скрывал так тщательно, что даже жена не догадывалась об истинных причинах его равнодушия. Он тщательно выстроил легенду. Мэри была убеждена, что у Тариэла есть любовница, чему втайне радовалась и удивлялась: неужели нашлась женщина, которая согласилась лечь с ним в постель? Мэри считала, что на такое можно пойти только за деньги, и еще больше презирала мужа, брезгливо моя руки после каждого его случайного прикосновения.
Тариэл приходил поздно, якобы с работы после совещания, от него пахло женскими духами, а на рубашке были щедро оставлены следы помады. Для полноты картины, чтобы у жены не осталось никаких сомнений, Тариэл, изображая легкое подпитие, начинал приставать, хватая жену за филейную часть. Мэри вяло отпихивалась, боясь оттолкнуть его уж слишком резко, ссылаясь на то, что завтра рано вставать, и Тариэл отпускал ее. Если бы Мэри в тот момент кто-то сказал, что ее супруг – банальный импотент, она бы, наверное, не поверила. Как не поверила бы и в то, что Тариэл специально держал на работе флакон духов и помаду и перед приходом домой тщательно обливал себя духами и, намазав губы, оставлял следы на рубашке.
Впрочем, Тариэл нисколько не страдал от отсутствия влечения к женскому полу. Куда больше его возбуждали власть, всесилие и страх, который появлялся в глазах даже соседок, когда он выходил утром на работу и вежливо с ними здоровался. А вот Мэри очень страдала. Решив для себя, что раз у Таро есть любовница, проститутка, то она тоже имеет право на личную жизнь, она начала искать себе мужчину. И нашла бы, даже не выходя далеко за ворота, если бы не муж. Но к Мэри, несмотря на углубившееся декольте и искры в глазах, которыми она сыпала направо и налево, мужчины не приближались – жизнь дороже. Мэри в ярости рвала на груди золотое ожерелье. После очередной неудачной попытки закрутить роман ожерелье приходилось нести в мастерскую – чинить замок.
В принципе Мэри была согласна уже на кого угодно. Предлагала себя откровенно. Но власть Тариэла оказалась сильнее ее женской энергетики. Она ходила на работу и возвращалась домой – усталая и равнодушная ко всему. Мэри поняла, что переезд в город ничего ей не дал. Она все так же заперта в четырех стенах, только вместо тетки у нее есть ее Таро – такой же сумасшедший, только более опасный. Мэри задыхалась и не знала, как вырваться. Она, не задумываясь, развелась бы с мужем, но уходить в никуда не могла. Мэри мечтала, чтобы ее увел мужчина – сильный, богатый, щедрый. Но причина была даже не в том, что такового не нашлось в городе, а в том, что она тоже боялась Тариэла. Иногда просыпалась по ночам от его взгляда – он сидел в кровати и смотрел на нее. Просто смотрел остановившимся взглядом, от которого ей становилось плохо. Мэри понимала, что Таро может ее убить – просто взять и задушить, например. Или перерезать горло одним из кинжалов, которые он собирал. У него была большая коллекция – сабли, ножи, кинжалы, с разными ручками, разными лезвиями. Тариэл любил их трогать, протирать мягкой тряпочкой, имитировать резкие удары, разрубая воздух. Мэри страсть мужа к холодному оружию пугала. Когда родилась Натэла, ей удалось засунуть часть коллекции на шкаф, подальше. Чтобы, даже стоя на табуретке, не сразу достать. Но самые любимые кинжалы Тариэл держал на рабочем столе. Мэри подозревала, что один из них он носит с собой все время.
Мэри ждала. Набралась терпения, которого никогда не имела. Ночами она представляла себе, как Тариэл сойдет с ума окончательно, его положат в психушку и она станет свободной. Иногда, как девочка, она мечтала о том, что в ее жизни появится мужчина из ниоткуда, как когда-то возник муж, и заберет ее, окажется сильнее. Думала она и о том, что Тариэла как назначили в один день, так и снимут, он потеряет свою власть, и тогда она сможет от него уйти. Мэри ждала подарка судьбы и часто смотрела в кофейную чашку, разглядывая узоры. И ни разу, ни единого раза, в ее мыслях не появилась дочь, Натэла. Мэри не была женщиной-матерью, она была женщиной-женщиной. Ребенок, появившийся в результате изнасилования, ей был не нужен. Она не могла его по-настоящему любить. И заставлять себя не хотела.
Маленькие дети остро чувствуют это состояние: любовь – не любовь, плохой – хороший, злой – добрый. У них все просто, на тактильном уровне, на уровне подсознания. Натэла плакала на руках у матери, когда была грудной. Рано научилась занимать себя играми и тянулась к отцу. Тариэл любил дочь, хоть и старался это не показывать. Он гладил ее по голове и был счастлив, когда девочка сказала сначала «папа», а уже потом «мама». Он разрешал ей потрогать ножны и провести пальчиком по лезвию кинжала. Очень осторожно. Он приносил ей конфеты. Натэла, став постарше, научилась жалеть папу. Мама не нуждалась в жалости или сочувствии, а у папы были грустные глаза, и он вздрагивал, когда Натэла заходила к нему в комнату. Мама никогда ее не целовала и не обнимала, а папа сажал на колени, и они могли молча сидеть так часами. Девочка рисовала принцесс на листочке бумаги, а папа протирал тряпочкой свои кинжалы. Они друг другу не мешали.
Время не просто бежало, а неслось с головокружительной скоростью. Мэри перестала мечтать по ночам, Тариэл становился все влиятельней. Мэри даже смирилась со своей судьбой и уже ничего не ждала – ни перемен, ни счастья, ничего… Но именно в тот момент, когда она поставила на себе и на своей жизни крест, появился Аркадий, родной брат Тамары и дядя Нины.
Аркадий был мужчиной что надо: красавец, умница, при этом щедрый, веселый, легкий, с невероятным мужским обаянием и тактом. Таких поискать. Он рано женился и уехал жить к жене в Майкоп – та наотрез отказалась переезжать, и влюбленный Аркадий бросил мать с сестрой, чтобы быть рядом с женой. Домой он приезжал редко, поскольку то жена рожала одну за другой двух дочек, то работа, то нескончаемые бытовые заботы. Аркадий приезжал в родной город, вырываясь из цейтнота, чтобы глотнуть свежего воздуха, обнять сестру и племянницу, погулять, отвести душу с друзьями детства, выпить, наговориться, отдохнуть и с новыми силами вернуться к жене и детям.
Мэри он увидел, когда приехал забирать Нину из школы – хотел сделать ей сюрприз. Но Нина дядю не заметила и прошла мимо, а Аркадий засмотрелся на Мэри, которая вышла в школьный двор просто так, от скуки и тоски, и тоже не увидел, как племянница вышла из здания. Он смотрел на директрису школы откровенно, как оголодавший и свободный мужчина. От такого взгляда Мэри вздрогнула и даже не сразу поняла, что именно она является объектом внимания. Нина доехала до дома одна, на автобусе, а Аркадий подошел к Мэри и сделал все, что мог, чтобы эта красавица обратила на него внимание.
Мэри, конечно, не осталась равнодушной. Аркадий пригласил ее в ресторан, и она согласилась. Но уже вечером за столом Мэри сразу призналась, что замужем, а ее муж Тариэл работает в местном КГБ и что у нее «очень сложная ситуация».
– Тариэл? – переспросил Аркадий. – Писун? – Он захохотал на весь зал. Мэри даже обиделась и вздернула недовольно бровь. Но Аркадий был таким обаятельным, таким смелым и таким красивым, что она заулыбалась и сдалась… Вот мужчина, которого она так долго ждала.
Их роман закрутился стремительно. Тариэл как нельзя кстати уехал в командировку, а Натэла была обречена на уроки музыки. Мэри пришла к тете Лиане и договорилась, что будет платить ей не за час занятий, а за полтора – по повышенной ставке. Эти полтора, а то и два, два с половиной часа, пока Натэла играла этюды Черни и покорно отбывала время на балконе у тети Лианы, ожидая, когда ее заберет мама, Аркадий сидел дома у Мэри и играл ей на гитаре. Мэри улыбалась, трогала ожерелье на груди и оправляла складки на юбке. На это время она забывала о том, что у нее есть муж, дочь и дом. Зачем они ей, когда у нее есть Аркаша. Вот, рядом, только руку протяни. Живой, сильный, умный, смешливый, влюбленный – настоящий мужчина.
Мэри влюбилась. Впервые в жизни. Она ничего не боялась – ни взглядов соседок, ни разговоров, ни того, что об измене станет известно мужу. Хотя за последнее она не очень беспокоилась – кто в здравом уме доложит Тариэлу о том, чем занималась его жена, пока он был в командировке? Никто не решится. Побоятся.
Но Мэри хотела большего. Она себе придумала, что всю оставшуюся жизнь проведет рядом с Аркадием, который, конечно же, бросит жену. Зачем ему какая-то жена, тем более в Майкопе, когда есть она, Мэри, красивая, любящая, страстная. И он так на нее смотрит, как никто не смотрел.
Наверное, это была подлинная любовь, кто знает? Или страсть, которая застилает глаза.
– Где ты ходишь? – спрашивала у Аркадия взволнованная Тамара, до которой доходили слухи о том, что его часто видят с Мэри.
– Давай завтра, спать хочу, – отвечал осоловевший от любви Аркадий и падал без сил на диван, тут же засыпая. А Тамара еще долго сидела на кухне, глядя на своего спящего брата, и ничего хорошего не ожидала.
– Это правда, что ты с Мэри связался? – спросила она его напрямую. О романе судачил уже весь город, а Тариэл должен был вот-вот вернуться.
– Откуда ты знаешь? – спросил Аркадий, но не испуганно, а довольно.
Тамаре доложила тетя Лиана, которая посетовала на то, что у нее нет никаких сил заниматься с Натэлочкой, да еще полтора часа, а то и два – Мэри никогда не забирает дочь вовремя и приводит раньше.
– И чем она так занята? – спросила Тамара.
– Не чем, а кем! Твоим братом! Все знают, только ты не знаешь! А я страдаю! Ты не представляешь, как мне тяжело!
– Она же тебе платит наверняка в двойном размере, – сказала Тамара, не подумав, потому что опешила от такой новости. Слухи до нее доходили, но она им не верила. Не хотела верить.
– Не ожидала от тебя, Тома, – обиделась тетя Лиана, – при чем тут деньги? Ты вот ко мне в карман заглядываешь, а лучше подумай, что Таро сделает с твоим Аркашей, когда узнает. – Тетя Лиана, стуча каблучками, ушла на кухню, дав понять, что обиделась.
И тут до Тамары дошло, чем может обернуться эта история. Она плакала всю дорогу до дома. Плакала от страха за себя, Аркашу и даже за Нину.
Аркадия дома не было.
Тамара велела Нине делать уроки и ушла. Она знала, куда идти. Ворота были, конечно, открыты. Тамара подошла к дому и заглянула в окно. Сколько она так простояла – не помнила, глядя, как Аркадий сидит, развалившись, размякнув, на диване и перебирает струны гитары. На столе стояло щедрое угощение. Мэри сидела рядом с Аркадием, прильнув, прижавшись, в вечернем платье, не скинув туфли.
Тамара несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, как учил Вахо – чтобы успокоиться, распрямила плечи и зашла в дом.
– Или ты сейчас пойдешь со мной, или я звоню твоей жене, – с порога объявила Тамара брату.
– Тома, прекрати этот концерт, – поморщился Аркадий и даже не встал.
– А ты знаешь, что у него двое детей? – спросила Тамара у Мэри.
Мэри, судя по дрогнувшей улыбке, о наличии детей не подозревала.
– Тома, иди домой, я скоро приду, – велел Аркадий.
– Нет, ты пойдешь со мной сейчас! И завтра же возьмешь билет и поедешь домой! Себя не жалеешь, обо мне и Нине подумай. Нам здесь жить. Мне людям в глаза смотреть.
– Что ты мне указываешь? Я взрослый человек! – Аркадий наконец отбросил гитару и встал.
– Ты сделаешь так, как я тебе сказала, или завтра твоя жена будет здесь. А ты, – Тамара посмотрела на Мэри, – не смей подходить к моему брату и наш дом обходи стороной. – На этом силы и решительность ее оставили. Тома присела на стул. – Ты же знаешь, что говорят о твоем муже. Я боюсь, понимаешь? – теперь она обращалась только к Мэри. – Таро ведь не ему, он нам начнет мстить. Пожалуйста, ради детей тебя прошу.
Мэри молчала. Тамара поднялась и ушла. Больше она ничего не могла сделать.
Аркадий не ушел с сестрой, но быстро вернулся от Мэри. Нина помнила, как мама отправила ее спать и плотно закрыла дверь в комнату. Тамара пыталась говорить шепотом, но все равно срывалась на крик. Она рассказала Аркадию про Тариэла, про его работу в КГБ, про сгинувших без вести людей, которые перешли ему дорогу, про несчастную больную секретаршу, которую он уволил за то, что та посмела ему отказать, и про ее отца, который умер.
– Я боюсь за тебя! Понимаешь? Тариэл на все пойдет! Он из-под земли тебя достанет! Ты думаешь, Мэри тебя любит? Она себя любит. Ей что нужно? Только от мужа сбежать! На твоем горбу выехать! Ей все равно кто, лишь бы не Таро! Ты просто первый идиот, который к ней подошел! А до тебя она на любого вешалась! – заклинала Аркадия Тамара. – Найди себе другую женщину, я тебе слова не скажу поперек. Делай что хочешь, живи с кем хочешь, только не с этой! Тариэл может сделать так, что ты больше никогда сюда не приедешь!
– Слушай, не преувеличивай! Что ты мне бабкины слухи пересказываешь? Соседка наплела, а ты подхватила! – возмущался Аркадий, но Тамара поняла, что он тоже испугался. Или, во всяком случае, задумался.
– Уезжай, пожалуйста, пока он не вернулся! – просила Тамара.
Что бы ни двигало Аркадием, он сделал так, как просила сестра, – взял билет на самолет и улетел к жене и детям. Мэри ходила черная от горя. Тамара знала, что Мэри звонила в Майкоп, просила Аркадия вернуться, умоляла, заклинала. Приходила она и к Тамаре. Плакала, просила помочь уговорить брата. Мольбы сменились гневом – Мэри стала Тамару ненавидеть. Решила, что она во всем виновата – пересказала Аркадию слухи, и тот поверил. Мэри сыпала проклятиями и уходила в слезах. Но уже на следующий день через Нину передавала Томе записку: «Прости, я очень люблю Аркадия. Помоги, умоляю».
Тома не знала, что делать. И тетя Ася, которая, конечно же, была в курсе всей истории, тоже не знала. Аркадий звонил почти каждый день и спрашивал про Мэри. Тома отвечала сухо – мол, все хорошо, Тариэл вернулся, живут, как прежде. Хотела, как лучше, но только все испортила. Аркадий опять приехал и стал встречаться с Мэри по углам – то во дворе школы, то в дальнем кафе. Но разве скроешься в их городе от посторонних глаз? Дошло даже до того, что Тома столкнулась с Мэри в своей собственной квартире – Аркадий не постеснялся и привел ее к себе. Тома поднималась с Ниной по лестнице, когда им навстречу выскочила Ася и предупредила, что Аркадий сейчас с Мэри.
– Там. – Ася показала наверх. – Все слышали, как они пришли и чем сейчас занимаются.
– Какой позор, – ахнула Тома, – что делать?
– Пойдем ко мне, посидим, а когда они закончат, пойдешь домой, – предложила соседка.
– Ты хочешь, чтобы я спокойно сидела и все слушала? – тут же вспыхнула Тома.
– Хорошо, хочешь, иди туда, только давай Нина у меня побудет.
Тамара кивнула, велела Нине идти с крестной, а сама пошла домой. Аркадий открыл дверь не сразу. Когда Тома вошла в квартиру, Мэри, замотанная в полотенце, проскочила перед ней в ванную.
– Тебе сколько лет? – заорала Тома. – Что ты меня позоришь? И полотенце мое сними! Ты хоть понимаешь, что тебя весь дом видел? Как я теперь это полотенце на трос повешу?
Тома сама не понимала, что кричит, и совсем забыла, что ее крик слышат не только Аркадий с Мэри, но и все соседи.
– Как ты посмел ее в наш дом привести? – продолжала она, забыв о приличиях. – У тебя совести совсем нет?
Мэри выскользнула из квартиры, Аркадий побежал за ней. Тома сидела на кухне и плакала. Но это был еще не конец.
Аркадий метался с год – неожиданно приезжал, так же неожиданно уезжал. Больше Тамара с Мэри не сталкивалась, но чувствовала ее присутствие. У Нины стали появляться украшения – то заколочка, то бусики.
– Откуда это? – спрашивала Тома.
– Дядя подарил, – отвечала Нина и прятала подарок в шкатулку. На мать она старалась не смотреть. Тома не расспрашивала, решив не вмешивать ребенка в дела взрослых. К тому же она прекрасно знала, что дочь никогда ничего не расскажет, будет молчать, как партизан. И потом, она видела, что Нине очень нравятся украшения, которые Тома ни за что бы ей не купила, считая это излишним баловством.
Аркадий уезжал, и Тома какое-то время жила спокойно. Но потом позвонила его жена, Света. Видимо, она все-таки о чем-то догадалась, но Тамара тут была совсем ни при чем.
– Тома, здравствуй. Ответь мне только на один вопрос. У него есть женщина?
Тома слышала, как Света плачет.
– Я не знаю, – ответила она.
– Он ее любит? Он уйдет к ней? – спрашивала Света сквозь слезы.
– Света, Аркадий никуда не уйдет. У вас двое детей. Не думай о плохом, – сказала Тамара.
Тома оказалась права, хоть и не верила в то, что говорила. Аркадий перегорел, переболел и остался с семьей. Перестал приезжать и звонил только по праздникам. А потом вдруг приехал со Светой и дочками. Тома не могла нарадоваться, была счастлива как никогда. Они ходили на пляж, в рестораны, гуляли по бульварам. Тома хотела, чтобы весь город знал, что Аркадий приехал с женой и детьми, что все у них хорошо. Она водила племянниц в книжный магазин, в театр и к тете Лиане, втайне надеясь столкнуться с Мэри. Это оказалось просто: они сидели вечером в кафе, девочки ели мороженое, Тамара разговаривала со Светой и Аркадием, когда вдруг увидела, что брат переменился в лице. Тома повернулась и увидела, что за соседний столик сели Мэри, Тариэл и Натэла. Мэри сверлила взглядом Аркадия, тот наклонился к жене. Мэри дернулась, подняла Тариэла, цыкнула на дочь, они ушли. Это и был конец. Тамара попросила брата заказать девочкам пирожные, а взрослым – бутылку вина. Аркадий кивнул. Света улыбалась.
Аркадий вместе с женой и дочерьми вернулся в Майкоп. С тех пор Мэри, когда случайно сталкивалась с Тамарой, делала вид, что с ней незнакома. В такой, так сказать, жизненной ситуации их дочери, Нина и Натэла, сидели за одной партой и считались подружками.
После того как Аркадий окончательно оборвал все связи с Мэри, та сильно изменилась, стала злой и придирчивой, все время раздраженной. На лице застыла перекошенная улыбка. Ученики, да и учителя ее боялись как огня. Всю свою нерастраченную женскую энергию Мэри направила на единственную дочь. Она так завинтила гайки, что Натэла даже вздохнуть не могла. Мэри контролировала, когда дочка пришла с прогулки, с кем гуляла, с кем разговаривала. Натэла не блистала способностями, и Мэри заставляла ее часами переписывать страницы из книжки, надеясь, что дочь выработает грамотность и почерк.
Соседки качали головой, слыша, как Мэри кричит на девочку, как лупит ее чем придется, как плачет Натэла. Тогда-то Мэри и увлеклась луковыми масками и обрекла дочь на изоляцию. Натэла перестала заниматься музыкой с тетей Лианой, поскольку Мэри считала учительницу тоже виноватой, хоть и косвенно – нечего было язык распускать. Музыка Натэле нравилась, тетю Лиану она любила, но маме она не могла сказать поперек ни слова.
Единственным, кому пришлись по душе произошедшие с Мэри изменения, был Тариэл. Он, конечно же, узнал о том, что у жены был роман, но сделал вид, что пребывает в неведении. Нет худа без добра – он одобрял, что жена взялась за дочь, дрессирует ее, как цирковую собачку. Не мог скрыть он радости и оттого, что жена прикрыла свое знаменитое декольте черными глухими кофтами. Мэри перестала за собой следить, сняла ожерелье и купила туфли без каблуков. Таро тщательно скрывал свою радость – он своего добился: жена пела под его дудку и демонстрировала покорность. Теперь она от него никуда не денется, даже если захочет. Ни один мужчина больше не посмотрит в ее сторону, раз Аркадий сбежал, бросил ее, как последнюю шалаву. Пусть на своей шкуре почувствует, каково это, когда над тобой смеются, когда от тебя отказываются. Вот что думал Тариэл, совершенно не испытывая ревности, жалости, обиды. Только злобный восторг – никому Мэри не нужна. Только ему, Тариэлу. Для него это была победа, безусловная, безоговорочная, нокаут и урок для всех врагов и злопыхателей.
Жизнь шла своим чередом, годы летели незаметно. Натэла и Нина подрастали. У обеих девочек особого выбора профессии не было. Можно было пойти или в педагогический, или в медицинский. За Натэлу решила Мэри – педагогический, и точка, пусть будет преподавателем английского. Место в шестой школе ей всегда найдется. Нина, чтобы разорвать эту странную дружбу, решила поступать в медицинский, что активно поддержала Тамара.
– В семье должен быть хоть один врач! – говорила она дочери. – Мне укол сделать, внуков моих лечить, а дядя Вахо тебе поможет…
– Каких внуков? – удивлялась Нина.
– Как каких? Вот поступишь, потом тебе жениха подберем, замуж выйдешь, и приглашения на свадьбу купим в книжном магазине. Помнишь? Белые, с золотыми кольцами и голубями. Свадьбу можно будет сыграть скромную, человек на двести. Зал снимем в ресторане. – У Тамары от таких мыслей на губах блуждала счастливая улыбка. – После свадьбы родишь ребенка, я тебе помогу, лишь бы со свекровью повезло, такого жениха подберем, чтобы мать у него хорошая была. Надо будет у соседок спросить…
– Мам, я хочу уехать, – вдруг ни с того ни с сего сказала Нина.
Даже спустя столько лет она точно могла сказать, что решение уехать было спонтанным. Ни о чем таком она не думала, пока мама не размечталась на тему свадьбы. Нина представила то, что планировали мама и судьба, и ей стало плохо. До потери сознания. Голову стянуло, как обручем, немедленно отозвался нервным урчанием кишечник.
– Что с тобой? – испугалась Тамара, глядя на дочь, которая вдруг даже не побелела, а посинела. – Я тебе говорила, не ешь так много инжира! Сейчас Вахо позвоню, а когда станешь врачом, сама будешь знать, что с тобой.
– Не надо никому звонить, – остановила ее Нина. – Я хочу уехать. Не хочу здесь учиться.
– А куда ты поедешь? К Аркаше в Майкоп? Надо будет ему позвонить и спросить про их медицину, – опять кинулась к телефону Тамара.
– Я не поеду в Майкоп, – сказала Нина.
Тамара села на стул, уронив руки на колени.
– А куда ты поедешь?
– Не знаю, в Москву, может.
– И кто тебя там ждет? Кто встречать будет? Или кто-то хачапури в честь твоего приезда испечет?
Тамара все-таки рванула к телефону и стала названивать Асе – соседке, ближайшей подруге и Нининой крестной.
– Ася! Поднимайся! Нина тут такое придумала! Иди скорее, я кофе ставлю!
Ася пришла через минуту.
– Что ты кричишь так, что весь двор слышит? – спросила она.
– Как не кричать? Нино уезжать собралась! Пусть все знают, что моя дочь придумала!
– Пусть едет! – не задержалась с ответом Ася. – Куда ты едешь? В Ботанический сад? Или к дяде своему?
– Какой сад? Какой дядя? Она в Москву собралась!
– Ты так орешь, что куры у соседей кудахтать перестали, помолчи хоть минуту, а то я сама себя не слышу! – одернула Тамару Ася. – И что ты там будешь делать? – спросила она у Нины.
– Учиться, – ответила та.
– А чем тебе тут плохо? – опять закричала Тамара. – Тут нельзя учиться? Все учатся, а ты не можешь? Не хочешь в медицинский, иди в педагогический! Сиди со своей Натэлой еще пять лет!
Нину от этих слов скривило.
– Это ты вот сейчас что такое говоришь? – строго сказала Ася подруге. – Она десять лет с Натэлой мучилась, хочешь, чтобы девочка дальше страдала?
– Вот ты мне сейчас еще раз объясни! – Тамара встала перед подругой. – Я тебя зачем позвала? Чтобы ты на ее сторону встала?
– Нет, пусть она этих лягушек до конца жизни слушает? – закричала в свою очередь Ася. – Пусть всю жизнь белье на тросе растягивает туда-сюда и станет такой же сумасшедшей, как Сона? Пусть выйдет замуж и ее свекровь съест, не разжевывая, и не подавится? Пусть выучится в медицинском и будет своих детей от поноса лечить! Этого ты хочешь?
– Что ты говоришь? Что ты говоришь? – Тамара села за стол и заплакала. Нина молчала. Ася встала и пошла заново варить кофе, который давно убежал.
Нина знала, что мама не сможет ей запретить уезжать. Так было всегда. Тамара могла кричать, топать ногами, даже дать по попе, но, по большому счету, никогда не вставала поперек дороги. Случай с Аркадием был в этом смысле исключительным. Видимо, Тамарой двигал страх, иначе она ни за что не стала бы вмешиваться, покоряясь судьбе. Тома верила в судьбу, в то, что предначертано, что нужно только перетерпеть, и все пойдет своим чередом, так, как должно.
– Денег я тебе дам – на новую стенку откладывала, – говорила тем временем Нине крестная. – Позвоню Георгию, моему троюродному племяннику. Кажется, он живет где-то под Москвой. Хотя я его видела последний раз, когда ему года четыре было. Ничего, не откажет. За Тому не волнуйся. Досмотрю за ней.
Нина всегда помнила и часто вспоминала это слово «досмотрю», в котором было заключено очень многое. Это больше, чем «буду заботиться», «навещать». «Досмотреть» означало оставаться рядом все время, каждую минуту, каждую секунду. Не думать о себе, а думать о том, кто рядом. Столько, сколько потребуется.
Тетя Ася, как показала жизнь, слово сдержала – «досматривала» за подругой до последнего ее вздоха, когда та была уже смертельно больна и тихо угасала. Приходила каждое утро, кормила, мыла полы, готовила и уходила к себе, продолжая прислушиваться к дыханию Томы через стены, через лестницы. Слушала ее шаги и прибегала снова, стоило той задержаться в ванной – Ася до секунды знала, сколько времени подруга проведет там. Она знала, во сколько Тома проснется и когда начнет мучиться бессонницей. Тихонько спускалась в четыре утра, чтобы дать таблетку. Когда болеутоляющие не действовали, Ася варила отвары или «заговаривала боль» беседами. И в семь снова была рядом – чтобы сделать укол. Она красила подруге ногти и по привычке варила кофе на двоих, переворачивая чашку. Кофейная гуща неизменно обещала скорое выздоровление и счастье для Нины. Часто стала приходить Валя – соседка, с которой Тома никогда особо не была близка, но именно ее болезнь их сблизила. Валя иногда подменяла Асю, и ей не было равных в том, что касалось городских сплетен. Валя своей болтовней умела рассмешить, что для Томы было очень полезно, с точки зрения Аси.
* * *
Нина сглотнула слюну. Сразу стало легче. Она всегда боялась летать, тем более такими маленькими самолетами.
Поехать сейчас домой было таким же спонтанным решением, как и когда-то уехать оттуда. Нина решилась в одну минуту. И только потом, уже после покупки билетов, которых не было и нужно было лететь с пересадкой, с шестичасовым ожиданием в зоне трансфера, думала, что совершает глупость. Зачем полетела? И почему Натэла ее вообще позвала?
Она вспомнила, как стояла перед почтовым ящиком и рассматривала присланное Натэлой приглашение на свадьбу, то самое, с голубями и золотыми кольцами, из книжного магазина. Под приглашением Натэла сделала приписку – просила обязательно приехать, быть свидетельницей на свадьбе. И Нина решила поехать. Сначала она заказала билеты, отпросилась на работе и только потом удивилась – с чего вдруг спустя столько лет ее подруга детства захотела увидеться?
* * *
Уехав в Москву учиться, она первое время жила в семье Георгия – того самого троюродного племянника крестной, который, конечно же, не мог отказать своей тетке, хоть и не помнил, как та выглядит. Но встретил Нину в аэропорту, довез до дома и через день звонил тете Асе с отчетами. Нина не стала поступать в медицинский, а поступила на экономический факультет. От всего сердца поблагодарив Георгия, она ушла жить в общежитие, хоть тетя Ася и мама просили племянника привязать ее к стулу и не отпускать из дома.
Нина выучилась, устроилась на работу в банк. Сначала снимала жилье, потом взяла кредит в собственном банке и купила крошечную квартирку на окраине Москвы. Господи, как она была счастлива! Фотографировала квартиру, стараясь, чтобы фотографии были красивые, как в журналах, с разных ракурсов. После этого села в самолет и полетела домой, где на кухне показывала фото маме и крестной.
– Это хорошо, ты молодец, – говорила мама, но Нина видела, что Тома не очень рада. Все пошло не так, как она рассчитывала.
– Нет, ты мне скажи, а что, там нет мужчин с квартирами? Почему ты замуж не выходишь? – прямо спросила ее тетя Ася.
– Не знаю. Не получается, – ответила Нина.
– Послушай, я зачем тебе деньги на билет дала, которые на стенку откладывала? Чтобы ты экономистом стала? Нет! Я думала, ты замуж хорошо выйдешь! – рассердилась тетя Ася. – Зачем ты мне фотографии квартиры показываешь? Я хочу фотографии твоих детей смотреть!
Тома заплакала.
– Мам, тетя Ася, ну вы чего? При чем тут муж? Знаете, сколько мне за эту квартиру еще расплачиваться? – обиделась Нина.
– Нино? Разве в этом счастье? – тихо проговорила Тома.
– Вот скажите мне, зачем я сюда приехала? – Нина от обиды повысила голос, успев мысленно отметить, что начала говорить с акцентом. – Я думала, что вы мной гордиться будете, а вы про мужа спрашиваете!
Тетя Ася и Тома промолчали. Нина, все еще обиженная, уехала тогда, не попрощавшись. Неужели мама и крестная не понимают, как тяжело ей далась эта квартира? Сколько ей пришлось работать? Какой там муж? На личной жизни Нина поставила жирный крест. Нет, были мужчины, которые за ней ухаживали, но все это было не так, неправильно. Все-таки она выросла в другой среде, в другой культуре, и принятые нормы отношений, впитанные с кровью, давили, всплывали где-то в подкорке, и она не могла позволить себе ни флирт, ни отношения без будущего. И здесь не было ни мамы, ни тети Аси, которые могли бы все устроить – узнать о потенциальном женихе, его родственниках, сосватать, поддержать… Это было возможно только в их городе, куда Нина возвращаться не хотела и, что важнее, не могла. Она уехала, оборвала, отрезала, и ее судьба стала уже другой.
Тетя Ася, которая в кофейной гуще увидела у Нины новую жизнь, новую судьбу и свою дорогу, была права. Только гуща не говорила о том, что эта дорога окажется столь тяжелой, а жизнь совсем не такой, о какой мечтала для дочери Тамара. И уж совсем не такой, какую рисовала себе Нина. Мама не должна была умереть так рано, она не должна была болеть и терпеть такую боль.
Нина уже перед самой смертью мамы привезла ее в Москву – врачи, уход, анализы. Но Тамаре было плохо. Она выходила утром на кухню, варила кофе и долго сидела, разглядывая узоры в чашке.
– Мама, ты чего не идешь в душ? – спрашивала проснувшаяся Нина.
– Так воду жду, – отвечала удивленно мама.
– Тут всегда вода есть. Когда хочешь.
Но Тома жила по своему режиму. Воду ведь давали не раньше восьми, и она, вставая в шесть, покорно ждала восьми утра, с вечера набирала воду в бутылки. Она не понимала, почему так тихо, настолько тихо, что страшно. Никто сверху не ходит, никто не здоровается, и квартира очень высоко – из окна ничего не видно: кто пришел, кто приехал? Как можно увидеть с тринадцатого этажа? Да и страшно жить так высоко. Мама отказывалась ездить в лифтах – у нее начиналась клаустрофобия, а подниматься по лестнице ей было тяжело, поэтому сидела дома, скучая по Асе, по телефонным звонкам, по дому. Здесь она была чужая. И сулугуни, который Нина приносила ей с рынка, плохой, соленый. Кто его делал? Руки оторвать тому мало. Кто так сулугуни делает? Как можно так людей обманывать? Ведь они будут думать, что сулугуни именно такой! Это же позор, стыд…
Столичным врачам мама тоже не доверяла. Она не понимала, что они ей говорят и почему анализы, которые она делала дома, здесь никто не смотрит. Тамара пересказала врачу, к которому ее записала Нина – светилу, профессионалу, – то, что ей сказал Вахтанг, и очень обиделась, когда врач даже не усомнился, нет, просто сказал, что «нужно подтвердить диагноз».
– Вахтанг не мог ошибиться! – сдерживая гнев, сказала Тамара и вышла из кабинета.
Вахтанг, конечно, знал диагноз, но не хотел огорчать Тамару. Он не был близок ей по крови, но кто скажет, что он был не родным? Он знал ее еще до того, как она вышла замуж, помнил ее молоденькой, с потрясающими глазами и голосом, от которого замирало сердце. Он видел ее в свадебном платье, красивую и испуганную. Видел ее беременную, видел после родов, первым взял на руки новорожденную Нину, раньше ее отца. Вахо был рядом всегда.
Как он мог сказать Тамаре правду? Как он вообще мог сказать женщине, которую любил всю свою жизнь, что она умирает и нет никакой надежды?
Отец Нины умер, когда ей было два года, она его совсем не помнила. Тома хранила фотографию мужа, которую Нина часто разглядывала. На нее смотрел строгий мужчина, чужой человек. Помимо фотографии, от отца остался только «инструмент» – палочка с петелькой для вынимания косточек из черешни и вишни, которую он лично выстругал и подарил жене на 8 Марта.
Вахтанг был лучшим другом Нининого отца. Можно сказать, братом. Они выросли вместе и вместе влюбились в одну девушку. Но Тома могла выбрать только одного, и Вахо отступил, не предал дружбу. Он помнил последние слова друга, который умирал у него на руках, уже в реанимации: «Береги Тому и Нину. На тебя их оставляю». Но Вахтанга не нужно было просить. Он любил Тамару всю жизнь, она об этом знала. Знали об этом и жена Вахо, и его теща, и, наверное, его дети – он никогда этого не скрывал, но никогда, ни разу в жизни не позволил себе проявить чувства. Как ни позволила себе этого Тамара, хотя Вахтанг делал ей предложение, когда после смерти друга прошел год. Он ждал, когда Тома снимет траур, но так и не дождался. Она посмотрела на него тогда строго и отказала. Вахтанг почти сразу женился на другой – хорошей, доброй девушке, и жил хорошо. Но Тамару любить так и не перестал. Он приходил к ним раз в неделю, сидел на стульчике и играл сам с собой в нарды, как когда-то играл с другом. Тома занималась своими делами, оставляла с Вахтангом маленькую Нину, кормила его, варила кофе, вытряхивала пепельницу. Они почти не разговаривали, им были не нужны слова. Но если Вахо не приходил, Тома плакала, хотя он звонил и предупреждал – день тяжелый, много больных, дежурство, не смогу зайти. Но она все равно плакала. Вахтанг ей был нужен как воздух. Без него становилось страшно и тяжело. Они были ближе, чем муж и жена, уважали и берегли друг друга. И никто в городе не посмел сказать никакой гадости в их адрес, ни одного косого взгляда не было брошено им вслед. Так не бывает? Бывает. Остается молчать и завидовать.
* * *
Тома так и не прижилась в Москве. Не справилась с клаустрофобией и боязнью высоты, не привыкла к тишине и к тому, что никто не заходит в гости и не у кого попросить сковородку для хачапури. Тома не смогла привыкнуть к другой еде, другой воде. Она пила воду с газом, но газ был другой – не такой мягкий, а шибающий в нос. И рыба, которую она очень любила, была другая, не такая, как привозил из рейсов Рафик, трудившийся на рыболовецком судне и заработавший на собственный автомобиль. Между рейсами Рафик возил соседей по делам – на базар, на кладбище. Никому не отказывал.
Тома просилась домой. Молча. Только вздыхала. Ни таблетки, ни лечение ей не помогали. Нина видела, что мама хочет вернуться, но боялась ее отпустить.
Она уехала неожиданно. Когда Нина пришла вечером с работы, мамы не было, она оставила записку: «Нино, я уехала. Ася за мной досмотрит».
Нина тогда чуть не сошла с ума. Как мама смогла побороть все свои страхи, как смогла спуститься на лифте с сумкой? Как смогла купить билет и добраться до аэропорта?
Нина позвонила крестной, которая, как всегда, была лаконична и сдержанна:
– Не волнуйся, Рафик ее встретит. Она сделала все правильно. Здесь ей будет лучше.
Нина плакала и не понимала, как мама могла променять столичную квартиру с горячей водой и всеми удобствами на жизнь там, в доме, где все было подчинено выживанию, а вся жизнь крутилась вокруг быта, и не было никакой возможности хоть полчаса побыть в одиночестве. И почему мама решила, что с родной дочерью ей будет хуже, чем с Асей и другими соседками?
* * *
Их район так и назывался – «Болото». Дома были построены на искусственно высушенном болоте, о существовании которого напоминал хор лягушек, начинавший выступление после ночного дождя. Нина все свое детство засыпала под мелодичное кваканье и звук гудящего вентилятора.
Звуки для жителей района значили очень многое. Они, как слепцы, слышали все и даже больше, словно эта способность передавалась на генном уровне из поколения в поколение. Впрочем, обострен был не только слух, но и зрение. Дети, едва встав на ножки, учились видеть в темноте.
Их дом. Пятиэтажка, которая стояла вопреки законам гравитации и архитектурному замыслу. Изначально построенная без балконов, она обросла лоджиями и крошечными навесными балкончиками, или увитыми диким виноградом, или уставленными кадками с развесистыми, как пальмы, кактусами.
Балконы соседи строили совместными усилиями – это превращалось в священнодействие, не помочь было нельзя: заливали бетон, доставали арматуру, крепили, проверяли на прочность.
Каждому окну полагался свой трос, который тянулся к окну дома напротив. На тросе развешивали белье, которое сушилось на ветру. Хорошие, образцовые хозяйки вывешивали белье «по росту»: от самых маленьких вещей – колготок и детских маек, до самых больших – простыней и пододеяльников. Рубашки обязательно должны были быть расправлены, полотенца следовало встряхнуть и растянуть без единой морщинки, чтобы не пришлось потом разглаживать. Не потому что лень, а потому что свет могут отключить, и тогда не до глажки – успеть бы обед приготовить.
В обязанности Нины входило собирать высохшее белье. Надо было тянуть на себя трос так, чтобы вещи не попали в механизм и не испачкались маслом. Ни разу у Нины не получилось повесить белье так, как делала мама, и ее трос, который видели все соседки, был немым укором в безрукости.
Девочкам в пример неизменно ставили соседку Сону. Ей всегда несли детские мягкие игрушки, в которые подросшие дети переставали играть, и она их сначала вручную стирала, а потом развешивала «по росту»: сначала маленьких зайчат и медвежат, а в конце – больших медведей, которых подвешивала за уши. Медведи висели, тараща глаза. Сона потом раздавала игрушки новорожденным младенцам соседок. И каждый день на тросе появлялись новые белки, зайцы и собачки – выстиранные, вычесанные, высушенные. А если на тросе появлялся плюшевый монстр, которого Сона вывешивала непременно в середину троса, значит, жди прибавления. Она чувствовала беременность у женщин раньше врачей, раньше самой будущей матери. Самые большие игрушки доставались самым маленьким детям. Как правило, тогда, когда младенцу исполнялось сорок дней и его начинали показывать людям, не боясь дурного глаза.
Здесь росло, колосилось и плодоносило все, что ни воткнешь. Кактусы, которые так любила Тамара, достигали гигантских размеров. Они стояли в кадках и топорщились колючками. У Томы была легкая рука. Она ела сушеный финик и втыкала косточку в ближайший цветочный горшок. Тома вообще ничего не выбрасывала, даже косточки. Сказывалось прошлое, когда семья жила без света, воды и даже самых необходимых вещей. Так вот, даже косточки у нее прорастали.
Нине на память от мамы остался финиковый росток, который она, когда была в Москве, посадила в горшок, стоящий в общем коридоре. Там долго и мучительно погибал фикус – засыхал, но не сдавался. А благодаря Томе и фикус ожил, и финиковая косточка проросла. Они прекрасно уживались в одном горшке, как уживалась Тамара со всеми соседями.
Два раза в год Тамара с Ниной и дядей Вахо ездили на кладбище, на могилу отца. Вез их всегда Рафик. Он же брал с собой специальный топорик с закругленным лезвием – вырубать кусты, иначе к могиле подойти было невозможно. Тома держала в руках мешочек с крупной солью – считалось, что если смешать соль с землей и посыпать этой землей могилу, то на ней ничего расти не будет. Но даже этот способ, восхваляемый соседками, у Тамары не действовал. Все равно Рафику приходилось идти первым, прорубая тропинку, а Вахтанг с Томой вырывали руками сорняки.
Выезжать приходилось очень рано, часов в шесть, чтобы успеть хотя бы до одиннадцати. Но уже к восьми они все были липкие от пота и жары. Бутылки с водой, которые Вахтанг загружал в багажник к Рафику, нагревались, становясь почти горячими, и пить становилось противно. Зато после тяжелой работы, когда могилу можно было увидеть с дороги, когда памятник был освобожден от цепких, с крепкими корнями растений-вьюнов, они отправлялись есть рыбу. Рафик и Вахтанг очень любили рыбу, только что выловленную, поджаренную сразу же, здесь, в придорожном кафе.
– Ешь, Нина, это же хлеб! – говорил Рафик.
А Нина только удивлялась, почему он называл камбалу хлебом? Потом мама ей объяснила, что на рыболовецком судне, на котором плавал дядя Рафик, камбала была на завтрак, обед и ужин. Она не считалась ценной рыбой и шла морякам на повседневную еду, поэтому ее и назвали хлебом, который как раз был в большом дефиците.
Специально для мамы Вахтанг брал горбуля, Тома благодарила его взглядом. Вахтанг всегда знал, что она любит. Перед Ниной ставили огромную тарелку с мидиями, остро пахнущими морем, которые за еду вообще никто не держал – так, семечки, детям баловство.
– Спасибо тебе, – благодарила Тамара Рафика, который, конечно же, отказывался брать деньги.
– О чем ты говоришь? – обижался тот. – Кто поможет, как не сосед? Куда пойдешь? Не чужие ведь!
* * *
Этого Тамара тоже не могла понять – как это дочь не знает, кто живет внизу? А кто стучит наверху? На лестнице стоит детский велосипед – сколько лет мальчику? Как можно этого не знать?
Нина боялась признаться матери, что не хочет никого знать, нет никакого желания, и такая норма поведения, принятая у жителей столицы, ей очень нравится.
Откуда в ней было такое равнодушие, ни Тамара, ни сама Нина не знали. Тома только качала головой, и бровь от возмущения ползла вверх. Ведь не так она воспитывала дочь, не по таким правилам.
Нина тоже помнила, как в беду, в несчастье собирались все соседи, всем домом, всем миром, чтобы помочь справиться.
– А помнишь Отара? У него теперь собственная мастерская, – говорила Тамара дочери, намекая на то, что нельзя жить одной, нельзя не знать, что творится за стеной, кто ходит у тебя по потолку и на чью голову ты бросаешь разбитую тарелку.
Отар был Нининым ровесником. Они вместе играли в детстве во дворе, вместе ходили в детский сад. Здоровый, красивый парень, добрый, улыбчивый, безотказный – и за хлебом сбегает, и с детьми маленькими поиграет. Никто не мог понять, за что на его голову такое горе, за какие грехи предков он так расплачивается. Нина прекрасно помнила, сколько шума наделала свадьба Отара, когда он в семнадцать лет решил жениться. Так полюбил, что никого слушать не хотел. Молодой жене, Ие, и вовсе исполнилось всего шестнадцать. Нина была на этой свадьбе и только удивлялась – неужели женятся, неужели жить будут вместе? Она не то чтобы не смотрела на мальчиков, но никак не могла представить никого из своих одноклассников в роли мужа, мужчины. Ия – совсем ребенок, хрупкая, насмерть испуганная. Но свадьбу сыграли, сделали все, как положено, благо родственники были давно знакомы, дружили семьями. Они встали кланом и помогали молодым, чем могли.
Но когда на тросе у Соны на почетном месте появился здоровенный слон голубого цвета, которого она подвесила прищепками за уши, соседки опять стали судачить. Неужели Ия беременна? И действительно: Ия родила сына, которому Сона подарила плюшевого слона. И жить бы, радоваться, но случилось горе. Такое горе, которое ничто не могло предсказать, даже кофейная гуща. Отар заболел.
Когда утром он не смог встать с кровати, позвали Вахтанга, Тамара позвала: у соседей горе – сын не может встать, ноги не слушаются, а жена только родила.
Вахтанг пришел и сделал все, что мог. Но что он мог, когда мышечная дистрофия? У Отара отнимались ноги, и остановить этот процесс было невозможно. «Дальше будет только хуже», – честно сказал Вахо. И опять соседки запричитали, заплакали – Отарик должен был стать наследником отца, который работал в обувной мастерской. Очень хороший мастер. Золотые руки. Но как перенять дело, если Отар даже до мастерской не мог дойти? Ног не чувствовал.
Вахтанг заказал ему инвалидную коляску, и каждое утро молодая жена, хрупкая и слабенькая Ия, выносила мужа во двор. У этой девочки совсем не было сил, чтобы спустить своего мужа с четвертого этажа. Но соседки слышали, когда хлопала дверь их квартиры, и выходили каждая на свой этаж. Так женщины спускали Отара вниз, передавая друг другу с рук на руки, как передают младенца. Младенец тоже был – его оставляли с теми невестками, которые нянчили своих детей. Где один, там и двое. И пусть только попробует слово поперек сказать!
Пока свекрови дружно сносили Отара по лестнице, невестки по очереди нянчились с его младенцем. Внизу Ия забирала мужа и везла его на работу. Пятнадцать минут по городу. Если быстро толкать коляску и если не было дождя. А если ночью шел дождь, то все полчаса, чтобы обойти лужи. Ия довозила Отара до мастерской свекра и бежала назад, чтобы забрать сына у соседок, приготовить, постирать, убрать. А вечером все повторялось. Опять Отара на руках, уже наверх, поднимали женщины. Он никогда ничего не говорил – ему было стыдно. Так стыдно, что по ночам он кричал во сне – от бессилия. Ия его укачивала, прижимая к себе, как делала это с новорожденным сыном, который от криков отца просыпался и тоже плакал.
Прошло несколько месяцев. Было понятно, что дальше так продолжаться не может. Слишком тяжело. Так тяжело, что не вынести. Отец Отара закрыл свою обувную мастерскую и ушел на пенсию. Всем своим клиентам он сообщил, что сделать набойку лучше, чем делает его сын, невозможно. И если они хотят, пусть приходят к Отару. В его новую мастерскую. Да, не в центре города, на «Болоте», но… Гарантия на обувь – пятьдесят, нет, сто лет. Если Отарик сделает, а каблук полетит, то он, его отец, до конца жизни сам в женских туфлях проходит! Это подействовало. Клиенты ждали, когда Отарик начнет принимать обувь.
У Отара в это время тряслись колени, которых он давно не чувствовал и которыми не управлял. Он сидел в комнате и держался за голову, не зная, что теперь делать.
Соседи мужчины собрались во дворе под навесом – там, где всегда по вечерам играли в нарды. Они привычно двигали шашки, перебрасывая друг другу кубики, но никто не следил за счетом. Они обсуждали, как сделать мастерскую.
Наверное, такое можно сделать только на болоте, под кваканье лягушек. Такое могут сделать только люди, совершенно чужие друг другу, у которых есть дети, жены и матери.
На первом этаже жила семья Резо. Его невестке часто приходилось сидеть с сыном Отара – их дети родились с разницей в три месяца. В гостиной у них стояла точно такая же стенка, а в спальне – точно такая же кроватка. И Резо сказал жене, сыну и невестке, что они будут жить в квартире Отара, а Отар – на первом этаже. Невестка покорно пошла собирать сумки, жена Резо побежала к соседкам. Пока женщины вносили и выносили мебель и вещи, мужчины сидели за нардами и продолжали обсуждать план действий.
На следующий день Рафик привез инструменты и материалы, которые достал не пойми где, и мужчины начали вырезать окно там, где его не могло быть в принципе. Прямо в стене дома. Чтобы на входе в подъезд была обувная мастерская. Чтобы Отар мог выехать из спальни и проехать на инвалидном кресле к окошку, открыть его и принять обувь. Никто не думал о том, что дом может не устоять и рухнуть. Отару сделали окно и прибили красивую витиеватую вывеску – «Обувная мастерская Отара». Он сидел в окошке с восьми утра и здесь же, на глазах у всех, чинил, прибивал, менял подметки.
По умению он превзошел своего отца. Ия передавала через окошечко чашки с кофе – чтобы клиенты могли посидеть на лавочке и подождать. Их сын часто сидел на коленях у отца, который всегда улыбался. Они хорошо жили. И очень любили друг друга. Иначе как объяснить, что у Отара скоро родилась девочка? Малышка была похожа на мать, но, когда начала плести венки, пришивать бусины к ткани и помогать отцу в мастерской, становилась копия он.
* * *
Нина приняла решение матери. Если бы она могла честно себе признаться, то сказала бы, что рада. Рада, что мама вернулась домой. Нина много работала и очень дорожила своим местом, подолгу задерживаясь в банке. Дома ее никто не ждал. Зато после отъезда Томы она смогла вернуться к рисованию: доставала краски, кисточки, подрамник. Ей было все равно, что рисовать – вид из окна, портрет мамы с фотографии. Это был ее способ отдыха, хобби, по-настоящему любимое дело. Но ни разу, даже на минутку, она не посмела подумать о том, что сейчас могла бы не сидеть в банке, прикованная к стулу, а стоять на свежем воздухе, на природе, где-нибудь за городом, и писать пейзаж. И что вся ее жизнь могла бы сложиться иначе. И, возможно, не было бы такой тоски, какая накатывала на нее по вечерам.
Нина всегда рисовала, но Тамара не относилась к увлечению дочери всерьез. Когда однажды она заикнулась о том, чтобы пойти учиться в местную художественную школу, мать подняла одну бровь и спросила:
– Ты хочешь, как Ляля, сидеть на бульваре?
Больше Нина не заговаривала о рисовании, хотя часто приходила на набережную, куда по вечерам выходил на променад чуть ли не весь город, и смотрела, как рисует Ляля, местная сумасшедшая.
Ляле было лет тридцать пять. Одинокая старая дева. Она зарабатывала тем, что рисовала портреты не очень трезвых туристов или детей – девочек в коронах, мальчиков в рыцарских доспехах. Ляля зарабатывала мало, портреты делала откровенно халтурно, но других знакомых художников, у которых можно было бы часами стоять за спиной, у Нины не было.
Не в сезон Ляля выходила на свое привычное место и рисовала море. Нина стояла рядом и чуть не умирала от восторга. Лялины пейзажи не шли ни в какое сравнение с ее принцессами в коронах – они были потрясающими.
Иногда Ляля набиралась смелости и вывешивала свои пейзажи на продажу. Их никто не покупал, она страдала и часто плакала. Собственно, поэтому ее и сочли сумасшедшей – она плакала, и когда рисовала доспехи и короны. Детям было все равно, даже любопытно – сидит взрослая тетя, рисует и плачет, а родители старались быстрее забрать рисунок, заплатить и уйти.
Ляля, когда совсем не было клиентов, давала Нине то мелки, то кисточку и показывала, как нужно класть тени, как чертить горизонт. Бросала взгляд, подправляла. Так Нина училась. Ляля оказалась хорошей учительницей, она привила девочке любовь к краскам, к пейзажам, к мору, вечно грязному, часто штормящему, но такому прекрасному на ее рисунках. Она не отбила у Нины охоту, а возбудила в ней интерес и даже поселила в ее сердце страсть к этому искусству. А что еще требуется от учителя?
Тамара, конечно же, узнала об увлечении дочери, но сочла это невинным занятием и даже приплачивала Ляле какую-то копеечку, как няне, которая посидела час с ребенком.
Нина любила приходить к Ляле в гости – та жила с кошками и досматривала за больной матерью. Мать болела долго и тяжело, из-за этого Ляля не смогла выйти замуж и родить детей. Мать чувствовала свою вину и тоже часто плакала. Дом был захламленный, с запахом нищеты. В единственной комнате были разбросаны кисточки, грязные тряпки и подрамники. Повсюду ходили тощие, вечно голодные кошки. Но Нине там было хорошо. Она часто стояла на бульваре с огромной картонной коробкой, помогая Ляле раздавать котят. Коробка с котятами была такой же неизменной декорацией, как и художница с мольбертом на набережной.
Пока Лялина мама плакала дома, не в силах дотянуться до тазика, заменявшего утку, ее дочь плакала на бульваре, рисуя очередную корону на портрете носатой черноволосой девочки, которая на бумаге превращалась в голубоглазую блондинку с тонкими чертами лица.
Пару раз Нина приносила котенка домой, но мама была категорически против и даже один раз строго сказала, что если дочка еще раз принесет котенка в дом, то она ей запретит ходить к сумасшедшей художнице-кошатнице.
Ляля много раз говорила Нине, что у нее есть талант, что ей нужно рисовать, учиться, заниматься, смотреть альбомы по искусству, срисовывать, ходить в музеи. Нина только однажды передала маме Лялины слова, но Тома только хмыкнула и подняла бровь:
– Рисуй сколько хочешь. Кто тебе не дает? Вот получи нормальную профессию и рисуй себе, пока мужа и детей нет!
Нина кивнула, запомнив, что художник – это не «нормальная» профессия, а так, не пойми что. Занятие для сумасшедшей Ляли-кошатницы, старой девы.
* * *
– Тетя Ася, можно я приеду? – позвонила Нина крестной.
– Это кто? Алле! Кто это?
– Это Нина, дочка Тамары.
– Нино! – закричала Ася. – Где ты? Что ты говоришь?
– Можно я приеду? На несколько дней. У вас поживу.
– Зачем ты мне звонишь? Приезжай и живи, сколько хочешь! Что-то случилось у тебя?
– Нет. Просто Натэла прислала приглашение на свадьбу.
– Натэла? Дочка Мэри? Она замуж выходит и свадьбу устраивает? Это ты так шутишь?
– Нет, правда, я сама удивилась.
– А чего она тебя позвала? Хочет всему миру сообщить, что замуж выходит?
– Видимо, да. – Нина улыбнулась: она искала какие-то скрытые мотивы, а ведь все так просто объясняется, тетя Ася права. Натэла просто хотела, чтобы о ее свадьбе узнали все.
– Я скажу Рафику, он тебя встретит! Когда ты прилетаешь?
– Да не надо! Я сама доеду!
– Слушай, не морочь мне голову! Я сказала – Рафик встретит, значит, так и будет!
Нине оставалось только согласиться. Она купила Натэле в подарок красивое блюдо, обмотала его платьями, чтобы не разбилось, и полетела домой, не зная, что ее ждет и зачем она вообще это делает.
* * *
Нина вышла из самолета. Ноги подкашивались от волнения. Еще десять минут, и она будет дома. В своем дворе. Но не в своей квартире, которую продала после смерти мамы под крики, проклятия и причитания тети Аси.
– Зачем ты это делаешь? Ты пожалеешь! Пусть будет квартира. Я зайду, приберу, все будет готово к твоему приезду! – уговаривала ее тогда крестная. – Смотри, на этом диване Тома умирала, а ты его продавать хочешь! У тебя рука поднимется?
– Поднимется, тетя Ася. Я сюда не вернусь.
– Детей родишь, на море захочешь повезти, куда поедешь? – не сдавалась тетя Ася.
– Еще неизвестно, когда рожу. И сюда точно не привезу. После вашего моря все дети с поносом под капельницей в больнице лежат, – огрызалась Нина.
– Слушай, зачем ты так говоришь? Зачем обижаешь? Ты купалась, все дети купались, ничего, выжили, а твои, видишь ли, поносом болеть будут!
– Какие дети? Может, у меня вообще детей не будет! – Нина уже чуть не плакала.
Она физически не могла находиться в квартире, где пахло лекарствами, где еще чувствовалась рука Томы. Не могла сидеть на диване, где в течение долгих месяцев умирала ее мама, где ничего не изменилось и не изменится никогда. Даже плитка в ванной останется прежней – ее клал еще Нинин отец, когда они только въехали в эту квартиру. Каждая чашка, каждая ножка стула здесь напоминали о маме. В этой квартире Нина так остро чувствовала свое сиротство, что начинала задыхаться – дышала, но липкий воздух, который звенел от зноя, не проникал в легкие, и становилось так плохо, будто Нина перенимала боль мамы. Она даже ночевать здесь не могла, потому что чувствовала, слышала, как мама ходит по комнатам, варит кофе на кухне, включает вентилятор. Нина засыпала раскрытая, сбросив одеяло от жары, но просыпалась всегда под одеялом, как будто мама зашла к ней, как в детстве, и укрыла. Нет, она бы этого не смогла выдержать.
Но про поносы Нина сказала правду. Все дети в городе знали, что нельзя пить из-под крана и нельзя глотать морскую воду, иначе поедешь в больницу, где медсестра воткнет тебе в руку иглу, поставит капельницу и через два часа отправит домой. Летом, в сезон, в больнице не было свободных мест.
– Эх, локоток-то близок, а не укусишь, – сказала Нине тетя Ася, когда та сидела на ее кухне и пересчитывала деньги, полученные за квартиру.
– Тетя Ася, погадайте мне, – попросила Нина.
– Не буду, – отказалась крестная. – Иди в церковь лучше сходи, свечку поставь.
– Некогда. В Москве схожу.
– Все, уходи, не хочу тебя больше видеть. Перед матерью твоей стыдно. Она вот смотрит на тебя и, что ты думаешь, радуется?
– Теть Ась, я уже не маленькая. Кто на меня смотрит?
Тетя Ася не ответила. Нина досчитала деньги, собралась и уехала. Крестная даже до двери ее не проводила – обиделась. И дядя Рафик, когда вез ее в аэропорт, молчал. Ни слова не сказал.
* * *
В аэропорту, на выходе, сразу после паспортного контроля, стояли мальчик и девочка в национальных костюмах и предлагали гостям пахлаву. Нина взяла сначала одну, но сразу потянулась к подносу за следующей. Пахлава была самой обычной, не такой, как у мамы, и не такой, как у тети Аси. Но Нине она все равно показалась такой вкусной, что захотелось еще.
Был вечер, и эти дети лет двенадцати обходили с подносами вновь прибывших пассажиров. «Интересно, им за это платят?» – успела подумать Нина.
Выйдя в крошечный вестибюль, она попыталась узнать дядю Рафика и тут услышала крик:
– Дедуля!
Дядя Рафик махал ей руками.
Так ее больше никто и никогда не называл. Это пошло с тех пор, когда маленькая Нина никак не могла выговорить «дядя Рафик» и стала называть его «дедуля». Нина подросла, и уже дядя Рафик стал называть ее «дедуля» – ласковым детским прозвищем.
Они ехали по пустому городу, и Нина старалась не смотреть на дорогу. Дядя Рафик проезжал на красный свет, ехал по встречной и не переставал говорить.
– Ой, а где роддом? Здесь же был роддом! Я в нем родилась. – Нина увидела пустырь там, где его не должно было быть.
– Так снесли! Будут гостиницу строить! Поехали, я тебе хоть город покажу.
Рафик резко свернул на другую улицу и начал экскурсию. Город стал неузнаваем: новая набережная, фонтаны, памятники, новостройки.
– Вот, видишь, у нас на Ленина тоже пробка! – Дядя Рафик посигналил и опять выехал на встречную полосу. – Ты думаешь, только у вас в Москве пробки? У нас тоже есть!
– А разве улицы не переименовали? – спросила Нина.
– Переименовали, конечно! Как не переименовали? Но кто эти названия новые знает? Люди как привыкли, так и говорят. Скажешь новую улицу, так никто из местных тебя не отвезет, только приезжий какой-нибудь. А местные таксисты только по старым знают.
Наконец они заехали во двор. Нина с облегчением увидела, что он совсем не изменился, разве что шифер, которым была обита стена около одного из подъездов, был покрашен в ярко-синий цвет, а балкончики с пятого по третий этаж стали изумрудными. Видимо, краски не хватило.
Дядя Рафик не успел хлопнуть дверцей машины, как занавески на окнах дружно раздвинулись и из окон стали выглядывать соседки.
– Рафик, ты? – крикнула тетя Ася, свесившись до половины с балкона.
– Я! Нину привез! – ответил Рафик.
– Нино! – закричала Ася. – Доченька!
– Давай, иди, дедуля, я чемодан сам возьму! – сказал Рафик.
– Он тяжелый!
– Обижаешь! Что, я чемодан поднять не могу?
– Дядя Рафик, а сколько вам лет? – вдруг спросила Нина.
– Семьдесят три, – гордо ответил Рафик.
– Ни за что не дашь! – искренне сказала Нина.
– Это потому что я рыбу ел, вино пил, женщин любил. Знаешь, какие у меня женщины были!
– Да вы и сейчас хоть куда, – засмеялась Нина.
– Да, ты громче кричи, чтобы моя Софико услышала. Да, Софико? – крикнул дядя Рафик в одно из окон. Там быстро задернулась занавеска. – Слушай, не уши у нее, а локаторы! Все слышит, что надо и не надо! Мозгов бог не дал женщине, зато слух – стопроцентный! Шагу не могу ступить, чтобы она не узнала! Хоть азбукой Морзе общайся, чтобы в нарды пойти поиграть! Сразу скандал начинает! А орет как… как… о, цесарка! Знаешь, как орут цесарки? Вот, у моей Софико такой же голос! Вон у соседей из частного дома три цесарки, так моя Софико их троих перекрикивает. Они замолкают, потому что так не могут! Всё, пришли. – Дядя Рафик поставил чемодан около дверей тети Аси. – Ты, если куда поедешь, позвони мне, Ася телефон знает, отвезу, возьму недорого. Я ведь теперь официально таксистом работаю. Около магазина стою. А если сядешь к Леванчику, так я тебя знать не буду! В сторону твою не посмотрю!
– Хорошо, спасибо. – Нина решила не спрашивать, кто такой Леванчик.
Крестная уже висела на ней, целовала и тащила в комнаты.
* * *
Нина лежала в спальне крестной на чистых, высушенных на тросе простынях под тихий гул вентилятора и слушала, как квакают лягушки. Уснуть она не могла. Шел дождь, значит, завтра на море будет шторм, в воду не зайдешь. До свадьбы Натэлы оставалось еще три дня – Нина специально приехала пораньше, чтобы… прийти в себя. Ей было не по себе, даже страшно. А вдруг все будет не так, как она помнила?
Но пока все было так, как раньше. Нина, когда заходила с дядей Рафиком в дом, успела подумать о том, что столько лет прошло, а света в подъезде так и нет. И никто из местных мастеров, которые и балкон припаяют, и стену прорубят, не смог ввинтить обычную лампочку.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/masha-traub/tetya-asya-dyadya-vaho-i-odna-svadba/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Маша Трауб
Здесь кофе бывает трех видов – сладкий, средний и несладкий. Здесь жених не догадывается, что приехал на собственную свадьбу. Здесь нельзя предсказывать погоду и строить планы даже на ближайшие пять минут. И здесь есть всё, кроме чужих людей и одиночества. Это роман о дружбе и верности, терпении и прощении, радости и горе, о времени и судьбе.
Маша Трауб
Тетя Ася, дядя Вахо и одна свадьба
Памяти Светланы Григорьевны Канкелиди
– Цель поездки? – спросил пограничник.
– Туризм, – ответила Нина.
Пограничник если и удивился, то виду не показал. Шлепнул отметку и пожелал ей счастливого пути.
Нина ехала домой, в город, где родилась и выросла. Город, в котором не была с тех пор, как похоронила маму. Давно, очень давно, но кажется, только вчера уезжала «насовсем» во второй раз, обещая себе, что больше никогда не вернется. Все. Мамы больше нет. Пуповина оборвалась, и связи никакой нет. Не к кому ехать.
Она хорошо помнила, как уезжала в первый раз, сразу после школы, – в Москву поступать в университет. Мама плакала, соседки плакали, весь двор вышел ее провожать. Нина злилась и хотела побыстрее отлепиться и от матери, и от соседок, которые передавали ее с груди на грудь, прижимали, поливали слезами и разве что волосы на себе не рвали в знак скорби. Скорее уехать в другой город, в другую жизнь. Как же здесь все надоело! Каждый день – такой же, как предыдущий. Ничего не меняется. Опять соседки, опять вопросы, ни встать ни сесть без их ведома. Нине хотелось свободы и взрослой самостоятельной жизни.
– Нина-а-а! Подумай! Заклинаю тебя! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Смотри, тетя Ася плачет! Зачем ты делаешь так, что тетя Ася плачет! – причитала мама. И тут же без перехода, на том же вдохе: – А ты билет не забыла-а-а? Надо было картонкой чемодан обмотать, как говорил дядя Рафик! Почему его не послуша-а-ась? Дядя Рафик плохого не скаже-е-ет!
Мама тянула гласные. Как будто пела песню. Соседки подвывали на последних слогах, складывая многоголосие. Ровное, мелодичное, чистое. У Нины разболелась голова от этого «а-а-а-а», «э-э-э-э», «о-о-о-о». Как они так могут – плачут, как будто поют?
Здесь же стояла и тетя Лиана – ее первая и последняя учительница музыки. Нину привели к ней в семь лет, в большой, красивый дом в центре города. Нужно было покрутить звонок, который отзывался мелодичным звоном, и сильно толкнуть дверь. Нине понравилось крутить звонок, но дверь была такой тяжелой, что ее пришлось толкать попой. Мама перекрестила Нину и побежала в магазин.
– Я тебя заберу. Куплю тебе конфет, – пообещала мама.
Когда мама вернулась с конфетами и пирожными для тети Лианы, Нина очень обрадовалась, но не конфетам. Она очень боялась учительницу, потому что у той рос ус – длинный черный волос, закручивающийся на конце, торчащий из огромной, размером с навозную муху, родинки на щеке. Нина никак не могла сосредоточиться и все время смотрела на волосатую родинку тети Лианы. Наконец мама ее заберет отсюда!
– Ну что? – кинулась к учительнице мама Нины.
– Пойдем, Томочка, на балкон, я тебе кофе сварю.
– Что? – тут же испугалась та.
– Ничего. Совсем ничего, – объявила тетя Лиана. – Она глухая, не слышит. И ты знаешь, что странно? Она меня не понимает! Я ей говорю – сиди красиво, руку держи так, а она не понимает! Я забыла, ты средний кофе пьешь?
– Как глухая? – испугалась Тома. – Может, серная пробка? Может, ее Вахтангу показать? Сейчас я ему позвоню. Дай мне телефон.
– А-а-а! При чем тут Вахтанг? Он реаниматолог, а не ухо-горло-нос! Зачем ее реанимировать? При чем тут серная пробка? Глупости ты говоришь совсем! Я тебе объясняю, слуха у нее нет! Ни до не слышит, ни ля!
– Как – нет слуха? Не может быть! – ахнула Тома. У нее самой был такой прекрасный голос, что, когда она пела, даже соседки замолкали. И на торжествах ее обязательно просили спеть. Ну а когда она пела дуэтом с Вахтангом, тут «даже лягушки прекращали квакать», как всегда замечала тетя Лиана. Никто так не пел, как они.
– Вот и я тебя спрашиваю, почему у нее нет слуха? Может, ты ее роняла в детстве? – обеспокоенно покачала головой тетя Лиана.
– Куда я ее роняла? – закричала Тома. – Я ей в попу дула, а то ты не знаешь! Как ты могла такое подумать?
– Тогда не знаю. Значит, в мужа твоего. Или в его родственников. Больше не в кого. У него слух был?
– Не знаю, – заплакала Тома.
– Значит, не было. Если бы был, ты бы знала, – отрезала тетя Лиана.
– Лианочка, но что же делать? Как девочка будет жить? – продолжала плакать Тома. – Позанимайся с ней, ты же волшебница!
– Да, я волшебница, – согласилась тетя Лиана и посмотрела на себя в большое мутное зеркало в тяжелой оправе. – Я многое могу. Я даже дочку Тариэла учу. А ты ведь знаешь Тариэла: одна ошибка – и все, нет тети Лианы. Никто с его Натэлой заниматься не хотел. А я ничего не боюсь!
– Натэла с Ниночкой в одном классе будут учиться, – забеспокоилась Тома. – И ты хочешь сказать, что у дочки Тариэла есть слух, а у моей Ниночки нет? И вдруг они будут сидеть за одной партой, и дочка Тариэла скажет моей Нине, что занимается музыкой с тетей Лианой, а что моя Нина ей ответит? Представляешь, какой удар для девочки! А для меня? Все будут говорить, что у дочки Томы нет слуха! Как я это переживу? – Она сделала большие глаза, а ее брови так уползли вверх, что Лиана сдалась.
– Хорошо. Я с ней позанимаюсь. Но только ради тебя. Ты же знаешь, как я тебя люблю.
– Знаю, Лиана, спасибо.
– Кстати, только между нами: у Натэлы слух еще хуже, чем у твоей Нины, – шепнула тетя Лиана. – Слон на ухо наступил!
– Медведь, Лиана, – поправила ее Тома.
– Нет, слон! Медведь – это у твоей Нины!
Так Нина была обречена на занятия музыкой и созерцание родинки учительницы. У тети Лианы был балкон, увитый виноградом, где стояли столик и стулья. Там тетя Лиана пила кофе, там сидели родительницы, пока в комнате девочки разучивали «Жили у бабуси», там же тетя Лиана поджидала опаздывавших на занятие учеников.
Нина с мамой подходили к дому, и девочка слышала, как Натэла, дочка Тариэла, долбила одним пальцем по клавишам.
– Мама, а тетя Лиана так уважает дядю Тариэла, что боится? – спросила Нина маму.
– Нет, его никто не уважает, но все боятся, – ответила Тома.
– А так разве бывает?
– И не такое бывает.
Нина крутила пимпочку звонка – это ей быстро надоело, и звонок из волшебного превратился в самый обычный, – толкала попой дверь и входила внутрь, сжимаясь и втягивая голову в плечи. В такой позе она сидела весь урок, несмотря на просьбы тети Лианы «сидеть красиво».
– Тома, почему она так сидит? – спрашивала тетя Лиана.
– Не знаю, – сокрушалась та. – Говорит, что у нее спина болит. Может, показать ее Вахтангу?
– Слушай, при чем тут твой Вахо? Я бы ее быстро выпрямила. – Тетя Лиана изобразила удар по спине. – Но ты же знаешь мои принципы! Я их пальцем не трогаю!
Нинина мама покивала, хотя и знала, что такой принципиальной Лиана стала недавно, с тех пор как стала заниматься с Натэлочкой. За «красивую спиночку» Тариэл мог выслать тетю Лиану из города в двадцать четыре часа. И ради спокойствия Тариэла, точнее тети Лианы, все соседи в один голос твердили, что Лиана учеников так любит, так любит, как родная мать не любит!
– Что я могу сделать? Что? – продолжала тетя Лиана, перейдя на шепот. – Если я ударю твою Нину, она скажет Натэлочке, что тетя Лиана ее бьет, и об этом узнает Тариэл…
Нина мучительно учила «Гусей», сидя за пианино, как страус. После урока она шла к соседке – крестной тете Асе, чтобы сделать домашнее задание. Тетя Ася стояла рядом и «проверяла».
– Нина, иди скорее, тетя Ася ждет ноты читать! – кричала ей мама в окно, стоило Нине выскочить во двор, чтобы попрыгать в резиночку.
Нина покорно шла читать ноты. У нее была удивительная форма дислексии – она прекрасно читала ноты на бумаге, но они никак не складывались в голове с клавишами. У нее была хорошая память, и ноты она запоминала быстро. Зато найти их пальцами никак не могла.
– Читай! – почти кричала тетя Лиана, и Нина покорно, без запинок, читала ноты.
– Играй! – уже кричала тетя Лиана, и Нина дрожащей рукой тыкала пальцем куда придется.
– Ты смерти моей хочешь? – переходила на зловещий шепот тетя Лиана.
Нина поглубже вжимала голову в плечи, сутулилась и подбирала под себя ноги.
После музыки Нина приходила домой и валилась без сил на диван.
– Какая Нина тихая стала! – удивлялись соседи. – Не слышно ее и не видно. Как мышка, да?
Конец мучениям положил дядя Вахо, которому Тома все-таки показала дочь – мол, на спину жалуется.
– Выйди, – велел он Томе, и та покорно вышла на кухню.
– Спина болит? – обратился он к Нине.
– Только когда музыкой занимаюсь. И голова тоже болит. И нога, правая, – добавила, чтобы уж наверняка, Нина.
– Понятно, – кивнул дядя Вахо, прощупывая Нине позвонки. – А как сильно болит?
– Очень сильно, – сказала Нина и стала внимательно разглядывать узор на босоножках.
– Совсем не хочешь музыкой заниматься? – ласково спросил ее дядя Вахо.
– Совсем. Так совсем не хочу, что… что… я боюсь тетю Лиану. У нее бородавка усатая… только маме не говорите.
Вахо улыбнулся и вышел к Томе на кухню.
– Ну что с ней? – обеспокоенно спросила та.
– Ничего. Все нормально. Немножко сколиоз, – ответил Вахтанг.
– О господи, а что делать?
– Пусть танцами занимается! Сколиоза точно не будет!
– Хорошо, Вахо, как скажешь, – кивнула Тома и тут же позвонила тете Лиане сказать, что у Нины сколиоз и музыкой она заниматься больше не будет.
Тетя Лиана так радовалась, что, когда Тома с Ниной пришли отдавать ноты, накормила их пахлавой, расцеловала и отпустила с богом. Себе она сварила кофе и долго смотрела в гущу, разглядывая тайные знаки – что ей готовит будущее. Будущее обещало новых учеников.
* * *
Нина с Натэлой учились вместе с первого по десятый класс в школе номер шесть, которая считалась лучшей в городе. Девочки друг друга ненавидели, но терпели, поскольку все десять лет просидели за одной партой. И даже если одна пересаживалась, то все равно возвращалась на привычное место, выстроив однажды отношения и диспозицию за партой и будучи не в силах делать это еще раз с кем-то другим. Все вокруг считали их лучшими подружками. Конечно, они были маленькими и многого не понимали. А если и догадывались о чем-то, то старались помалкивать.
Они, например, при такой тесной связи не ходили друг к другу в гости, что для их города – событие из ряда вон выходящее. Нинина мама, Тамара, терпеть не могла Мэри, мать Натэлы. Точнее, они старательно делали вид, что друг с другом плохо знакомы. Это девочки поняли быстро и никогда не говорили про дом. Если и общались, то только по поводу уроков. Хотя они вообще мало разговаривали – им это было и не нужно. Каждая умела читать настроение соседки по знакам, невидимым остальным. Если Натэла начинала выкладывать аккуратной лесенкой ручки и карандаши, добиваясь идеальной симметрии, значит, вчера мама опять на нее кричала, а то и отлупила. Если Нина пришла без учебника, значит, опять не спала всю ночь – рисовала в альбоме. И Натэла молча клала учебник на середину парты. Нину все любили, потому что любили ее маму – Тамару, а Натэлу – жалели из-за Мэри и Тариэла.
Натэла никогда не рассказывала Нине про родителей. Тома тоже не отвечала на вопросы дочери, когда та спрашивала про дядю Тариэла или тетю Мэри. Но из обрывков разговоров и сплетен соседок Нина смогла составить историю. Они с Натэлой учились уже в старших классах, и Нина по-другому посмотрела на свою подругу. Как будто вдруг увидела в ней свою одногодку, живого человека, с чувствами, мыслями, планами и желаниями.
Мэри, армянку по происхождению, Тариэл нашел в Ленинакане и заставил выйти за него замуж. Поговаривали, что силой. Тариэл в то время только-только поступил на работу в КГБ, но рассказывал о себе чуть ли не легенды. Ему повсюду мерещились шпионы. Он даже не мог просто пройти по улице – оглядывался, искал слежку. Что из того, что он рассказывал, было правдой, а что – его больной фантазией, не знал никто. Проверить ведь было невозможно. Тариэл придумывал себе то ранение в голову в ходе спецоперации, то работу «под прикрытием». Это были первые признаки болезни, которая проявилась у него с годами, но кто тогда мог подумать, что это болезнь? В Ленинакане, куда его занесло случайно – нужно было просто передать документы, – он ходил, придерживая отворот пиджака, как будто под ним было оружие. Строил из себя барина, высокопоставленного чиновника, хозяина жизни – ведь там его никто не знал, никто не мог рассказать о нем правду, никто над ним не смеялся, не издевался. Его боялись и уважали. От вдруг нахлынувших эмоций, от ощущения вседозволенности у Тариэла окончательно помутился разум, и он сделал то, о чем даже не мог, не смел подумать: увидел на улице девушку и подошел, пригласил в ресторан. Девушка фыркнула, оглядев его презрительным взглядом, и оскорбила. Сказала, чтобы он сначала на себя в зеркало посмотрел. Тариэл схватился за пояс, как будто там было оружие, но девушка уже ушла, даже не обернулась и не испугалась. От этого ему стало совсем нехорошо. То, что произошло дальше, он помнил с трудом, как будто это был не он, а другой человек. Он, Тариэл, никогда бы даже не посмотрел на такую красавицу. Не для него такая. Тут и старая обида вспомнилась.
Буквально месяц назад до этой поездки он приглядел себе невесту и отправился свататься. Невеста была больна с детства – маленькая, ростом с ребенка, переболевшая полиомиелитом, из-за чего одна нога стала чуть короче другой. Она работала секретарем в его отделе и нечасто вставала из-за стола, а когда вставала, то шла с трудом, заваливаясь на одну ногу. Ходили слухи, что у нее очень богатый и влиятельный отец – начальник начальника Тариэла, – и приданое за дочку даст хорошее, и со связями поможет. Конечно, дочери уже двадцать восемь, а все не замужем. Тариэл решил, что здесь отказа не будет – где она еще мужа найдет? – и пошел свататься. Взаимовыгодный, так сказать, брак. Однако его с порога прогнали, едва узнав, зачем пришел, еще и посмеялись. Даже эта хромоножка смеялась. Тариэл тогда слег с температурой на нервной почве. Такой обиды – сильной, горькой, от которой останавливается сердце и темнеет в глазах, – он никогда не получал.
Это был тот случай, про который говорят – звезды так сошлись. Тариэла могли не отправить отвозить документы, история с его сватовством могла случиться позже, в конце концов, он мог просто не встретить Мэри на улице. И ничего бы не было. Но у Тариэла опять поплыли черные круги перед глазами, опять зашлось сердце, и он пошел следом за девушкой, прячась за деревьями. Узнав, где она живет, он зашел в кафе, сытно поел и украл со стола нож. Через два часа, когда девушка снова вышла на улицу, Тариэл схватил ее и приставил нож к горлу. Она не кричала, как он ожидал, не просила ее отпустить, а покорно пошла с ним в машину. Так же покорно она села на переднее сиденье и ехала, глядя прямо перед собой. Тариэл отъехал от города и изнасиловал ее. Она не произнесла ни звука – нож не понадобился. Тариэл был даже разочарован. Он хотел, чтобы она кричала, умоляла, царапалась и дралась. Хотел борьбы и крови. Но все случилось быстро и не так, как он себе представлял. Ночь они провели в машине. Девушка спала, Тариэл так и не смог уснуть. Только утром он спросил, как ее зовут.
– Мэри, – спокойно ответила она.
Тариэл завел машину и поехал в город, решив забрать Мэри с собой. И опять все было не так, как он думал. Девушка жила со старой теткой, даже не заметившей отсутствия племянницы. Родители Мэри давно умерли. Она собрала вещи, поцеловала тетку, которая так ничего и не поняла, и Тариэл повез ее к себе.
Конечно, не обошлось без слухов, домыслов и разговоров. Но и Тариэл, и Мэри как воды в рот набрали. Даже свадьбы не было – расписались тихо, в церкви не венчались. Соседки остались без дополнительной информации. Мэри приняли хорошо, но она держалась уж слишком замкнуто, отстраненно и даже с гонором, поэтому подруг так и не завела.
Мэри быстро освоилась на новом месте и, хотя, по мнению соседок, была плохой хозяйкой, много работала – преподавала в школе английский язык. Правда, по-английски она говорила с армянским акцентом и во время объяснений часто переходила на родной язык, так что бедные дети вообще ничего не понимали.
К тому моменту, когда единственная дочь Мэри и Тариэла Натэлочка, которая родилась ровно через девять месяцев после той ночи в машине, пошла в первый класс, отец семейства серьезно продвинулся по службе в КГБ, а Мэри стала директором шестой школы. Тариэл свою должность высидел каменным задом, выклянчил подхалимажем, выбил доносами. А еще очень удачно скончался их шеф. Именно такими словами: «очень удачно» – Тариэл описывал Мэри кончину того самого начальника начальника, к которому метил в зятья. Тариэла в их маленьком управлении повысили сразу, чего бы никогда не случилось, останься шеф в добром здравии.
Уже в новой должности он заходил в свой бывший отдел, смотрел на хромоногую секретаршу, так и оставшуюся безмужней, и ухмылялся. Если бы он мечтал о мести, то вот она и случилась – он отомстил, и от этого чувства хотелось смеяться. Тариэл хохотал в голос, пугая несчастную женщину, которая оплакивала и своего отца, и свою жизнь. Конечно, Мэри села в кресло директора не без помощи мужа, о чем тоже все судачили, но шепотом, с оглядкой.
Мэри все-таки была красавицей. Удивительной. Можно сказать, уникальной. Тариэл гордился женой и старался чаще появляться с ней в гостях и на городских торжественных мероприятиях. Хотя с годами Мэри приобрела тяжелый обширный низ, который тщательно декорировала широкими юбками, декольте у нее осталось такое, как в молодости, – что надо декольте. Она гордо несла свою высокую пышную грудь, бережно укладывая в ложбинку длинные золотые ожерелья. Тариэл смотрел на жену маслеными глазами и провожал взглядом, когда она поворачивалась к нему спиной.
Еще одним достоинством Мэри были волосы – длинные, уложенные в затейливый узел, густые, волнистые. Шелк, а не волосы. На нее заглядывались многие мужчины, но близко никто не подходил – себе дороже.
Тариэла как мужчину местные жители, конечно, ни во что не ставили. Он был труслив, скуп и осторожен. Мог подставить и предать. Умом не блистал. Пить не умел, в застольях не участвовал. Злобливый, злопамятный. В общем, не мужчина. До своего высокого назначения держался особняком, ни с кем не дружил. Ходил на работу пешком и жался к домам. Мимо всегда мог проехать бывший однокашник и облить его грязью. Вроде бы как не специально.
Все изменилось в один день. Ну практически в один. Сначала он привез себе красавицу жену, а потом занял солидную должность. И только после этого начал по-настоящему жить. Вспомнил все обиды и наслаждался властью. Своего однокашника, соседа, который как раз не упускал случая после ночного дождя облить его грязью из лужи, проезжая мимо на машине, он посадил в тюрьму. Лишилась работы хромоногая секретарша, которая когда-то отказалась выйти за него замуж. После этого Тариэл затаился, выжидал. Но все шло как обычно, никто не пикнул и слова не сказал. К нему не пришли родственники его жертв, чтобы перерезать горло. Все молчали. И Тариэл понял, что теперь ему можно если не все, то многое. После этого пропал его одногруппник по институту, который, увидев Мэри, прямо сказал, что она сошла с ума, раз вышла замуж за Тариэла, и предложил ей себя – для начала в качестве партнера по танцу. Мэри не стала отказываться, а ответила на флирт, пошла танцевать, раскрасневшись, распрямив плечи и мелодично звеня золотым ожерельем в глубоком декольте. Тариэл смотрел, как его жена танцует с институтским приятелем, прижимается к нему, улыбается, и наливался злобой. Жене он ничего не сказал, зато приятель через неделю исчез, и никто не знал, куда и надолго ли.
Вот после этого и пошли слухи, будто это он виноват, его рук дело. Слухи росли как снежный ком, и кагэбэшного начальника стали бояться. Больше никто не обливал его грязью, никто не вспоминал по старой памяти его школьное прозвище Писун – за то, что он во втором классе описался прямо при всех, у доски. Да и от Мэри мужчины держались на расстоянии как минимум вытянутой руки, хотя она и старалась эту дистанцию сократить.
Почему она тогда не закричала, не позвала на помощь? Почему покорно уехала с Тариэлом и согласилась с ним жить? Сам Тариэл это понял быстрее, чем соседки: Мэри нужно было уехать. Любым способом. В своем маленьком городе, с больной, выжившей из ума теткой у нее не было никаких шансов уехать за пределы своей округи. Тариэл был не тем, о ком мечтала Мэри. Но он приехал из другого мира. И потом – какой-никакой, а начальник – с квартирой, деньгами. Так что Мэри молчала тогда не просто так. Она все просчитала. И Тариэл – этот шизофреник с манией величия, этот самовлюбленный идиот, пародия на мужчину, – появился как нельзя кстати. Он сделал то, чего Мэри от него ждала, – увез ее в свой город, столицу, да еще в другой республике и даже женился. Но того, что произошло потом, Мэри никак не ожидала. Оказалось, что ее мужа боятся. Не уважают, но боятся. И этот страх мешал ей жить. Мужчины не смотрели на нее, потому что у них дрожали поджилки. Разве это мужчины? А Тариэл? Как он мог становиться сильнее и влиятельнее? Разве те, кто продвигал его по службе, не понимали, что он ничтожество? Пустое место. Мерзкий, отвратительный, лживый насквозь. Мэри начинало подташнивать от одного вида мужа. Впрочем, эти приступы тошноты очень скоро нашли очень простое объяснение – она была беременна.
Конечно, она была несчастлива в браке. Тариэла она искренне презирала, что было хуже ненависти, хуже отвращения. Не проснулись в ней и материнские чувства к Натэлочке, которая была похожа на отца, особенно в младенчестве. Мэри смотрела на новорожденную дочь и не испытывала никаких приливов нежности, только презрение. Она видела в дочери черты мужа, и ее передергивало, как от судороги. Она быстро перетянула себе грудь простыней, чтобы не кормить дочь, лишний раз к ней не прикасаться. Девочка не была ее продолжением – она была дочерью Тариэла, и Мэри с ужасом думала, что ждет ее дальше. Как отцовские пороки, его жестокость и жадность, его мстительность и ненависть воплотятся в дочери.
От матери Натэле достался пышный низ и, собственно, все. Ни роскошных волос, ни манящей глубины глаз. Натэлочка так сильно проигрывала матери в красоте, что ее можно было только пожалеть. «Бедная девочка, и не выправится», – качали головами соседки. Надо признать, Мэри делала все, что могла, – держала Натэлочку на диете, не давая ей разъедаться, и втирала в голову дочери разнообразные снадобья на основе лука, чеснока и чуть ли не козлиной мочи, отчего Натэла все детство проходила с сальными, липкими волосами, распространяя по классу зловоние. Даже одноклассники Натэлу не дразнили, и не потому что боялись ее матери-директрисы, а потому что жалели. Над убогой смеяться неинтересно.
Так вот, пока муж работал в своем КГБ, набирая силу, вес и усиленно отращивая живот и второй подбородок, чем втайне очень гордился, поскольку в молодости стеснялся раздеваться даже в мужской раздевалке из-за своей синюшной худобы, пока Натэлочка ходила с луковыми масками на своих жиденьких волосенках, Мэри расцветала и мечтала о личном, женском, счастье. С мужем как жена она не жила – ей было противно, да и Тариэл не настаивал. Он обнаружил у себя импотенцию, которую скрывал так тщательно, что даже жена не догадывалась об истинных причинах его равнодушия. Он тщательно выстроил легенду. Мэри была убеждена, что у Тариэла есть любовница, чему втайне радовалась и удивлялась: неужели нашлась женщина, которая согласилась лечь с ним в постель? Мэри считала, что на такое можно пойти только за деньги, и еще больше презирала мужа, брезгливо моя руки после каждого его случайного прикосновения.
Тариэл приходил поздно, якобы с работы после совещания, от него пахло женскими духами, а на рубашке были щедро оставлены следы помады. Для полноты картины, чтобы у жены не осталось никаких сомнений, Тариэл, изображая легкое подпитие, начинал приставать, хватая жену за филейную часть. Мэри вяло отпихивалась, боясь оттолкнуть его уж слишком резко, ссылаясь на то, что завтра рано вставать, и Тариэл отпускал ее. Если бы Мэри в тот момент кто-то сказал, что ее супруг – банальный импотент, она бы, наверное, не поверила. Как не поверила бы и в то, что Тариэл специально держал на работе флакон духов и помаду и перед приходом домой тщательно обливал себя духами и, намазав губы, оставлял следы на рубашке.
Впрочем, Тариэл нисколько не страдал от отсутствия влечения к женскому полу. Куда больше его возбуждали власть, всесилие и страх, который появлялся в глазах даже соседок, когда он выходил утром на работу и вежливо с ними здоровался. А вот Мэри очень страдала. Решив для себя, что раз у Таро есть любовница, проститутка, то она тоже имеет право на личную жизнь, она начала искать себе мужчину. И нашла бы, даже не выходя далеко за ворота, если бы не муж. Но к Мэри, несмотря на углубившееся декольте и искры в глазах, которыми она сыпала направо и налево, мужчины не приближались – жизнь дороже. Мэри в ярости рвала на груди золотое ожерелье. После очередной неудачной попытки закрутить роман ожерелье приходилось нести в мастерскую – чинить замок.
В принципе Мэри была согласна уже на кого угодно. Предлагала себя откровенно. Но власть Тариэла оказалась сильнее ее женской энергетики. Она ходила на работу и возвращалась домой – усталая и равнодушная ко всему. Мэри поняла, что переезд в город ничего ей не дал. Она все так же заперта в четырех стенах, только вместо тетки у нее есть ее Таро – такой же сумасшедший, только более опасный. Мэри задыхалась и не знала, как вырваться. Она, не задумываясь, развелась бы с мужем, но уходить в никуда не могла. Мэри мечтала, чтобы ее увел мужчина – сильный, богатый, щедрый. Но причина была даже не в том, что такового не нашлось в городе, а в том, что она тоже боялась Тариэла. Иногда просыпалась по ночам от его взгляда – он сидел в кровати и смотрел на нее. Просто смотрел остановившимся взглядом, от которого ей становилось плохо. Мэри понимала, что Таро может ее убить – просто взять и задушить, например. Или перерезать горло одним из кинжалов, которые он собирал. У него была большая коллекция – сабли, ножи, кинжалы, с разными ручками, разными лезвиями. Тариэл любил их трогать, протирать мягкой тряпочкой, имитировать резкие удары, разрубая воздух. Мэри страсть мужа к холодному оружию пугала. Когда родилась Натэла, ей удалось засунуть часть коллекции на шкаф, подальше. Чтобы, даже стоя на табуретке, не сразу достать. Но самые любимые кинжалы Тариэл держал на рабочем столе. Мэри подозревала, что один из них он носит с собой все время.
Мэри ждала. Набралась терпения, которого никогда не имела. Ночами она представляла себе, как Тариэл сойдет с ума окончательно, его положат в психушку и она станет свободной. Иногда, как девочка, она мечтала о том, что в ее жизни появится мужчина из ниоткуда, как когда-то возник муж, и заберет ее, окажется сильнее. Думала она и о том, что Тариэла как назначили в один день, так и снимут, он потеряет свою власть, и тогда она сможет от него уйти. Мэри ждала подарка судьбы и часто смотрела в кофейную чашку, разглядывая узоры. И ни разу, ни единого раза, в ее мыслях не появилась дочь, Натэла. Мэри не была женщиной-матерью, она была женщиной-женщиной. Ребенок, появившийся в результате изнасилования, ей был не нужен. Она не могла его по-настоящему любить. И заставлять себя не хотела.
Маленькие дети остро чувствуют это состояние: любовь – не любовь, плохой – хороший, злой – добрый. У них все просто, на тактильном уровне, на уровне подсознания. Натэла плакала на руках у матери, когда была грудной. Рано научилась занимать себя играми и тянулась к отцу. Тариэл любил дочь, хоть и старался это не показывать. Он гладил ее по голове и был счастлив, когда девочка сказала сначала «папа», а уже потом «мама». Он разрешал ей потрогать ножны и провести пальчиком по лезвию кинжала. Очень осторожно. Он приносил ей конфеты. Натэла, став постарше, научилась жалеть папу. Мама не нуждалась в жалости или сочувствии, а у папы были грустные глаза, и он вздрагивал, когда Натэла заходила к нему в комнату. Мама никогда ее не целовала и не обнимала, а папа сажал на колени, и они могли молча сидеть так часами. Девочка рисовала принцесс на листочке бумаги, а папа протирал тряпочкой свои кинжалы. Они друг другу не мешали.
Время не просто бежало, а неслось с головокружительной скоростью. Мэри перестала мечтать по ночам, Тариэл становился все влиятельней. Мэри даже смирилась со своей судьбой и уже ничего не ждала – ни перемен, ни счастья, ничего… Но именно в тот момент, когда она поставила на себе и на своей жизни крест, появился Аркадий, родной брат Тамары и дядя Нины.
Аркадий был мужчиной что надо: красавец, умница, при этом щедрый, веселый, легкий, с невероятным мужским обаянием и тактом. Таких поискать. Он рано женился и уехал жить к жене в Майкоп – та наотрез отказалась переезжать, и влюбленный Аркадий бросил мать с сестрой, чтобы быть рядом с женой. Домой он приезжал редко, поскольку то жена рожала одну за другой двух дочек, то работа, то нескончаемые бытовые заботы. Аркадий приезжал в родной город, вырываясь из цейтнота, чтобы глотнуть свежего воздуха, обнять сестру и племянницу, погулять, отвести душу с друзьями детства, выпить, наговориться, отдохнуть и с новыми силами вернуться к жене и детям.
Мэри он увидел, когда приехал забирать Нину из школы – хотел сделать ей сюрприз. Но Нина дядю не заметила и прошла мимо, а Аркадий засмотрелся на Мэри, которая вышла в школьный двор просто так, от скуки и тоски, и тоже не увидел, как племянница вышла из здания. Он смотрел на директрису школы откровенно, как оголодавший и свободный мужчина. От такого взгляда Мэри вздрогнула и даже не сразу поняла, что именно она является объектом внимания. Нина доехала до дома одна, на автобусе, а Аркадий подошел к Мэри и сделал все, что мог, чтобы эта красавица обратила на него внимание.
Мэри, конечно, не осталась равнодушной. Аркадий пригласил ее в ресторан, и она согласилась. Но уже вечером за столом Мэри сразу призналась, что замужем, а ее муж Тариэл работает в местном КГБ и что у нее «очень сложная ситуация».
– Тариэл? – переспросил Аркадий. – Писун? – Он захохотал на весь зал. Мэри даже обиделась и вздернула недовольно бровь. Но Аркадий был таким обаятельным, таким смелым и таким красивым, что она заулыбалась и сдалась… Вот мужчина, которого она так долго ждала.
Их роман закрутился стремительно. Тариэл как нельзя кстати уехал в командировку, а Натэла была обречена на уроки музыки. Мэри пришла к тете Лиане и договорилась, что будет платить ей не за час занятий, а за полтора – по повышенной ставке. Эти полтора, а то и два, два с половиной часа, пока Натэла играла этюды Черни и покорно отбывала время на балконе у тети Лианы, ожидая, когда ее заберет мама, Аркадий сидел дома у Мэри и играл ей на гитаре. Мэри улыбалась, трогала ожерелье на груди и оправляла складки на юбке. На это время она забывала о том, что у нее есть муж, дочь и дом. Зачем они ей, когда у нее есть Аркаша. Вот, рядом, только руку протяни. Живой, сильный, умный, смешливый, влюбленный – настоящий мужчина.
Мэри влюбилась. Впервые в жизни. Она ничего не боялась – ни взглядов соседок, ни разговоров, ни того, что об измене станет известно мужу. Хотя за последнее она не очень беспокоилась – кто в здравом уме доложит Тариэлу о том, чем занималась его жена, пока он был в командировке? Никто не решится. Побоятся.
Но Мэри хотела большего. Она себе придумала, что всю оставшуюся жизнь проведет рядом с Аркадием, который, конечно же, бросит жену. Зачем ему какая-то жена, тем более в Майкопе, когда есть она, Мэри, красивая, любящая, страстная. И он так на нее смотрит, как никто не смотрел.
Наверное, это была подлинная любовь, кто знает? Или страсть, которая застилает глаза.
– Где ты ходишь? – спрашивала у Аркадия взволнованная Тамара, до которой доходили слухи о том, что его часто видят с Мэри.
– Давай завтра, спать хочу, – отвечал осоловевший от любви Аркадий и падал без сил на диван, тут же засыпая. А Тамара еще долго сидела на кухне, глядя на своего спящего брата, и ничего хорошего не ожидала.
– Это правда, что ты с Мэри связался? – спросила она его напрямую. О романе судачил уже весь город, а Тариэл должен был вот-вот вернуться.
– Откуда ты знаешь? – спросил Аркадий, но не испуганно, а довольно.
Тамаре доложила тетя Лиана, которая посетовала на то, что у нее нет никаких сил заниматься с Натэлочкой, да еще полтора часа, а то и два – Мэри никогда не забирает дочь вовремя и приводит раньше.
– И чем она так занята? – спросила Тамара.
– Не чем, а кем! Твоим братом! Все знают, только ты не знаешь! А я страдаю! Ты не представляешь, как мне тяжело!
– Она же тебе платит наверняка в двойном размере, – сказала Тамара, не подумав, потому что опешила от такой новости. Слухи до нее доходили, но она им не верила. Не хотела верить.
– Не ожидала от тебя, Тома, – обиделась тетя Лиана, – при чем тут деньги? Ты вот ко мне в карман заглядываешь, а лучше подумай, что Таро сделает с твоим Аркашей, когда узнает. – Тетя Лиана, стуча каблучками, ушла на кухню, дав понять, что обиделась.
И тут до Тамары дошло, чем может обернуться эта история. Она плакала всю дорогу до дома. Плакала от страха за себя, Аркашу и даже за Нину.
Аркадия дома не было.
Тамара велела Нине делать уроки и ушла. Она знала, куда идти. Ворота были, конечно, открыты. Тамара подошла к дому и заглянула в окно. Сколько она так простояла – не помнила, глядя, как Аркадий сидит, развалившись, размякнув, на диване и перебирает струны гитары. На столе стояло щедрое угощение. Мэри сидела рядом с Аркадием, прильнув, прижавшись, в вечернем платье, не скинув туфли.
Тамара несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, как учил Вахо – чтобы успокоиться, распрямила плечи и зашла в дом.
– Или ты сейчас пойдешь со мной, или я звоню твоей жене, – с порога объявила Тамара брату.
– Тома, прекрати этот концерт, – поморщился Аркадий и даже не встал.
– А ты знаешь, что у него двое детей? – спросила Тамара у Мэри.
Мэри, судя по дрогнувшей улыбке, о наличии детей не подозревала.
– Тома, иди домой, я скоро приду, – велел Аркадий.
– Нет, ты пойдешь со мной сейчас! И завтра же возьмешь билет и поедешь домой! Себя не жалеешь, обо мне и Нине подумай. Нам здесь жить. Мне людям в глаза смотреть.
– Что ты мне указываешь? Я взрослый человек! – Аркадий наконец отбросил гитару и встал.
– Ты сделаешь так, как я тебе сказала, или завтра твоя жена будет здесь. А ты, – Тамара посмотрела на Мэри, – не смей подходить к моему брату и наш дом обходи стороной. – На этом силы и решительность ее оставили. Тома присела на стул. – Ты же знаешь, что говорят о твоем муже. Я боюсь, понимаешь? – теперь она обращалась только к Мэри. – Таро ведь не ему, он нам начнет мстить. Пожалуйста, ради детей тебя прошу.
Мэри молчала. Тамара поднялась и ушла. Больше она ничего не могла сделать.
Аркадий не ушел с сестрой, но быстро вернулся от Мэри. Нина помнила, как мама отправила ее спать и плотно закрыла дверь в комнату. Тамара пыталась говорить шепотом, но все равно срывалась на крик. Она рассказала Аркадию про Тариэла, про его работу в КГБ, про сгинувших без вести людей, которые перешли ему дорогу, про несчастную больную секретаршу, которую он уволил за то, что та посмела ему отказать, и про ее отца, который умер.
– Я боюсь за тебя! Понимаешь? Тариэл на все пойдет! Он из-под земли тебя достанет! Ты думаешь, Мэри тебя любит? Она себя любит. Ей что нужно? Только от мужа сбежать! На твоем горбу выехать! Ей все равно кто, лишь бы не Таро! Ты просто первый идиот, который к ней подошел! А до тебя она на любого вешалась! – заклинала Аркадия Тамара. – Найди себе другую женщину, я тебе слова не скажу поперек. Делай что хочешь, живи с кем хочешь, только не с этой! Тариэл может сделать так, что ты больше никогда сюда не приедешь!
– Слушай, не преувеличивай! Что ты мне бабкины слухи пересказываешь? Соседка наплела, а ты подхватила! – возмущался Аркадий, но Тамара поняла, что он тоже испугался. Или, во всяком случае, задумался.
– Уезжай, пожалуйста, пока он не вернулся! – просила Тамара.
Что бы ни двигало Аркадием, он сделал так, как просила сестра, – взял билет на самолет и улетел к жене и детям. Мэри ходила черная от горя. Тамара знала, что Мэри звонила в Майкоп, просила Аркадия вернуться, умоляла, заклинала. Приходила она и к Тамаре. Плакала, просила помочь уговорить брата. Мольбы сменились гневом – Мэри стала Тамару ненавидеть. Решила, что она во всем виновата – пересказала Аркадию слухи, и тот поверил. Мэри сыпала проклятиями и уходила в слезах. Но уже на следующий день через Нину передавала Томе записку: «Прости, я очень люблю Аркадия. Помоги, умоляю».
Тома не знала, что делать. И тетя Ася, которая, конечно же, была в курсе всей истории, тоже не знала. Аркадий звонил почти каждый день и спрашивал про Мэри. Тома отвечала сухо – мол, все хорошо, Тариэл вернулся, живут, как прежде. Хотела, как лучше, но только все испортила. Аркадий опять приехал и стал встречаться с Мэри по углам – то во дворе школы, то в дальнем кафе. Но разве скроешься в их городе от посторонних глаз? Дошло даже до того, что Тома столкнулась с Мэри в своей собственной квартире – Аркадий не постеснялся и привел ее к себе. Тома поднималась с Ниной по лестнице, когда им навстречу выскочила Ася и предупредила, что Аркадий сейчас с Мэри.
– Там. – Ася показала наверх. – Все слышали, как они пришли и чем сейчас занимаются.
– Какой позор, – ахнула Тома, – что делать?
– Пойдем ко мне, посидим, а когда они закончат, пойдешь домой, – предложила соседка.
– Ты хочешь, чтобы я спокойно сидела и все слушала? – тут же вспыхнула Тома.
– Хорошо, хочешь, иди туда, только давай Нина у меня побудет.
Тамара кивнула, велела Нине идти с крестной, а сама пошла домой. Аркадий открыл дверь не сразу. Когда Тома вошла в квартиру, Мэри, замотанная в полотенце, проскочила перед ней в ванную.
– Тебе сколько лет? – заорала Тома. – Что ты меня позоришь? И полотенце мое сними! Ты хоть понимаешь, что тебя весь дом видел? Как я теперь это полотенце на трос повешу?
Тома сама не понимала, что кричит, и совсем забыла, что ее крик слышат не только Аркадий с Мэри, но и все соседи.
– Как ты посмел ее в наш дом привести? – продолжала она, забыв о приличиях. – У тебя совести совсем нет?
Мэри выскользнула из квартиры, Аркадий побежал за ней. Тома сидела на кухне и плакала. Но это был еще не конец.
Аркадий метался с год – неожиданно приезжал, так же неожиданно уезжал. Больше Тамара с Мэри не сталкивалась, но чувствовала ее присутствие. У Нины стали появляться украшения – то заколочка, то бусики.
– Откуда это? – спрашивала Тома.
– Дядя подарил, – отвечала Нина и прятала подарок в шкатулку. На мать она старалась не смотреть. Тома не расспрашивала, решив не вмешивать ребенка в дела взрослых. К тому же она прекрасно знала, что дочь никогда ничего не расскажет, будет молчать, как партизан. И потом, она видела, что Нине очень нравятся украшения, которые Тома ни за что бы ей не купила, считая это излишним баловством.
Аркадий уезжал, и Тома какое-то время жила спокойно. Но потом позвонила его жена, Света. Видимо, она все-таки о чем-то догадалась, но Тамара тут была совсем ни при чем.
– Тома, здравствуй. Ответь мне только на один вопрос. У него есть женщина?
Тома слышала, как Света плачет.
– Я не знаю, – ответила она.
– Он ее любит? Он уйдет к ней? – спрашивала Света сквозь слезы.
– Света, Аркадий никуда не уйдет. У вас двое детей. Не думай о плохом, – сказала Тамара.
Тома оказалась права, хоть и не верила в то, что говорила. Аркадий перегорел, переболел и остался с семьей. Перестал приезжать и звонил только по праздникам. А потом вдруг приехал со Светой и дочками. Тома не могла нарадоваться, была счастлива как никогда. Они ходили на пляж, в рестораны, гуляли по бульварам. Тома хотела, чтобы весь город знал, что Аркадий приехал с женой и детьми, что все у них хорошо. Она водила племянниц в книжный магазин, в театр и к тете Лиане, втайне надеясь столкнуться с Мэри. Это оказалось просто: они сидели вечером в кафе, девочки ели мороженое, Тамара разговаривала со Светой и Аркадием, когда вдруг увидела, что брат переменился в лице. Тома повернулась и увидела, что за соседний столик сели Мэри, Тариэл и Натэла. Мэри сверлила взглядом Аркадия, тот наклонился к жене. Мэри дернулась, подняла Тариэла, цыкнула на дочь, они ушли. Это и был конец. Тамара попросила брата заказать девочкам пирожные, а взрослым – бутылку вина. Аркадий кивнул. Света улыбалась.
Аркадий вместе с женой и дочерьми вернулся в Майкоп. С тех пор Мэри, когда случайно сталкивалась с Тамарой, делала вид, что с ней незнакома. В такой, так сказать, жизненной ситуации их дочери, Нина и Натэла, сидели за одной партой и считались подружками.
После того как Аркадий окончательно оборвал все связи с Мэри, та сильно изменилась, стала злой и придирчивой, все время раздраженной. На лице застыла перекошенная улыбка. Ученики, да и учителя ее боялись как огня. Всю свою нерастраченную женскую энергию Мэри направила на единственную дочь. Она так завинтила гайки, что Натэла даже вздохнуть не могла. Мэри контролировала, когда дочка пришла с прогулки, с кем гуляла, с кем разговаривала. Натэла не блистала способностями, и Мэри заставляла ее часами переписывать страницы из книжки, надеясь, что дочь выработает грамотность и почерк.
Соседки качали головой, слыша, как Мэри кричит на девочку, как лупит ее чем придется, как плачет Натэла. Тогда-то Мэри и увлеклась луковыми масками и обрекла дочь на изоляцию. Натэла перестала заниматься музыкой с тетей Лианой, поскольку Мэри считала учительницу тоже виноватой, хоть и косвенно – нечего было язык распускать. Музыка Натэле нравилась, тетю Лиану она любила, но маме она не могла сказать поперек ни слова.
Единственным, кому пришлись по душе произошедшие с Мэри изменения, был Тариэл. Он, конечно же, узнал о том, что у жены был роман, но сделал вид, что пребывает в неведении. Нет худа без добра – он одобрял, что жена взялась за дочь, дрессирует ее, как цирковую собачку. Не мог скрыть он радости и оттого, что жена прикрыла свое знаменитое декольте черными глухими кофтами. Мэри перестала за собой следить, сняла ожерелье и купила туфли без каблуков. Таро тщательно скрывал свою радость – он своего добился: жена пела под его дудку и демонстрировала покорность. Теперь она от него никуда не денется, даже если захочет. Ни один мужчина больше не посмотрит в ее сторону, раз Аркадий сбежал, бросил ее, как последнюю шалаву. Пусть на своей шкуре почувствует, каково это, когда над тобой смеются, когда от тебя отказываются. Вот что думал Тариэл, совершенно не испытывая ревности, жалости, обиды. Только злобный восторг – никому Мэри не нужна. Только ему, Тариэлу. Для него это была победа, безусловная, безоговорочная, нокаут и урок для всех врагов и злопыхателей.
Жизнь шла своим чередом, годы летели незаметно. Натэла и Нина подрастали. У обеих девочек особого выбора профессии не было. Можно было пойти или в педагогический, или в медицинский. За Натэлу решила Мэри – педагогический, и точка, пусть будет преподавателем английского. Место в шестой школе ей всегда найдется. Нина, чтобы разорвать эту странную дружбу, решила поступать в медицинский, что активно поддержала Тамара.
– В семье должен быть хоть один врач! – говорила она дочери. – Мне укол сделать, внуков моих лечить, а дядя Вахо тебе поможет…
– Каких внуков? – удивлялась Нина.
– Как каких? Вот поступишь, потом тебе жениха подберем, замуж выйдешь, и приглашения на свадьбу купим в книжном магазине. Помнишь? Белые, с золотыми кольцами и голубями. Свадьбу можно будет сыграть скромную, человек на двести. Зал снимем в ресторане. – У Тамары от таких мыслей на губах блуждала счастливая улыбка. – После свадьбы родишь ребенка, я тебе помогу, лишь бы со свекровью повезло, такого жениха подберем, чтобы мать у него хорошая была. Надо будет у соседок спросить…
– Мам, я хочу уехать, – вдруг ни с того ни с сего сказала Нина.
Даже спустя столько лет она точно могла сказать, что решение уехать было спонтанным. Ни о чем таком она не думала, пока мама не размечталась на тему свадьбы. Нина представила то, что планировали мама и судьба, и ей стало плохо. До потери сознания. Голову стянуло, как обручем, немедленно отозвался нервным урчанием кишечник.
– Что с тобой? – испугалась Тамара, глядя на дочь, которая вдруг даже не побелела, а посинела. – Я тебе говорила, не ешь так много инжира! Сейчас Вахо позвоню, а когда станешь врачом, сама будешь знать, что с тобой.
– Не надо никому звонить, – остановила ее Нина. – Я хочу уехать. Не хочу здесь учиться.
– А куда ты поедешь? К Аркаше в Майкоп? Надо будет ему позвонить и спросить про их медицину, – опять кинулась к телефону Тамара.
– Я не поеду в Майкоп, – сказала Нина.
Тамара села на стул, уронив руки на колени.
– А куда ты поедешь?
– Не знаю, в Москву, может.
– И кто тебя там ждет? Кто встречать будет? Или кто-то хачапури в честь твоего приезда испечет?
Тамара все-таки рванула к телефону и стала названивать Асе – соседке, ближайшей подруге и Нининой крестной.
– Ася! Поднимайся! Нина тут такое придумала! Иди скорее, я кофе ставлю!
Ася пришла через минуту.
– Что ты кричишь так, что весь двор слышит? – спросила она.
– Как не кричать? Нино уезжать собралась! Пусть все знают, что моя дочь придумала!
– Пусть едет! – не задержалась с ответом Ася. – Куда ты едешь? В Ботанический сад? Или к дяде своему?
– Какой сад? Какой дядя? Она в Москву собралась!
– Ты так орешь, что куры у соседей кудахтать перестали, помолчи хоть минуту, а то я сама себя не слышу! – одернула Тамару Ася. – И что ты там будешь делать? – спросила она у Нины.
– Учиться, – ответила та.
– А чем тебе тут плохо? – опять закричала Тамара. – Тут нельзя учиться? Все учатся, а ты не можешь? Не хочешь в медицинский, иди в педагогический! Сиди со своей Натэлой еще пять лет!
Нину от этих слов скривило.
– Это ты вот сейчас что такое говоришь? – строго сказала Ася подруге. – Она десять лет с Натэлой мучилась, хочешь, чтобы девочка дальше страдала?
– Вот ты мне сейчас еще раз объясни! – Тамара встала перед подругой. – Я тебя зачем позвала? Чтобы ты на ее сторону встала?
– Нет, пусть она этих лягушек до конца жизни слушает? – закричала в свою очередь Ася. – Пусть всю жизнь белье на тросе растягивает туда-сюда и станет такой же сумасшедшей, как Сона? Пусть выйдет замуж и ее свекровь съест, не разжевывая, и не подавится? Пусть выучится в медицинском и будет своих детей от поноса лечить! Этого ты хочешь?
– Что ты говоришь? Что ты говоришь? – Тамара села за стол и заплакала. Нина молчала. Ася встала и пошла заново варить кофе, который давно убежал.
Нина знала, что мама не сможет ей запретить уезжать. Так было всегда. Тамара могла кричать, топать ногами, даже дать по попе, но, по большому счету, никогда не вставала поперек дороги. Случай с Аркадием был в этом смысле исключительным. Видимо, Тамарой двигал страх, иначе она ни за что не стала бы вмешиваться, покоряясь судьбе. Тома верила в судьбу, в то, что предначертано, что нужно только перетерпеть, и все пойдет своим чередом, так, как должно.
– Денег я тебе дам – на новую стенку откладывала, – говорила тем временем Нине крестная. – Позвоню Георгию, моему троюродному племяннику. Кажется, он живет где-то под Москвой. Хотя я его видела последний раз, когда ему года четыре было. Ничего, не откажет. За Тому не волнуйся. Досмотрю за ней.
Нина всегда помнила и часто вспоминала это слово «досмотрю», в котором было заключено очень многое. Это больше, чем «буду заботиться», «навещать». «Досмотреть» означало оставаться рядом все время, каждую минуту, каждую секунду. Не думать о себе, а думать о том, кто рядом. Столько, сколько потребуется.
Тетя Ася, как показала жизнь, слово сдержала – «досматривала» за подругой до последнего ее вздоха, когда та была уже смертельно больна и тихо угасала. Приходила каждое утро, кормила, мыла полы, готовила и уходила к себе, продолжая прислушиваться к дыханию Томы через стены, через лестницы. Слушала ее шаги и прибегала снова, стоило той задержаться в ванной – Ася до секунды знала, сколько времени подруга проведет там. Она знала, во сколько Тома проснется и когда начнет мучиться бессонницей. Тихонько спускалась в четыре утра, чтобы дать таблетку. Когда болеутоляющие не действовали, Ася варила отвары или «заговаривала боль» беседами. И в семь снова была рядом – чтобы сделать укол. Она красила подруге ногти и по привычке варила кофе на двоих, переворачивая чашку. Кофейная гуща неизменно обещала скорое выздоровление и счастье для Нины. Часто стала приходить Валя – соседка, с которой Тома никогда особо не была близка, но именно ее болезнь их сблизила. Валя иногда подменяла Асю, и ей не было равных в том, что касалось городских сплетен. Валя своей болтовней умела рассмешить, что для Томы было очень полезно, с точки зрения Аси.
* * *
Нина сглотнула слюну. Сразу стало легче. Она всегда боялась летать, тем более такими маленькими самолетами.
Поехать сейчас домой было таким же спонтанным решением, как и когда-то уехать оттуда. Нина решилась в одну минуту. И только потом, уже после покупки билетов, которых не было и нужно было лететь с пересадкой, с шестичасовым ожиданием в зоне трансфера, думала, что совершает глупость. Зачем полетела? И почему Натэла ее вообще позвала?
Она вспомнила, как стояла перед почтовым ящиком и рассматривала присланное Натэлой приглашение на свадьбу, то самое, с голубями и золотыми кольцами, из книжного магазина. Под приглашением Натэла сделала приписку – просила обязательно приехать, быть свидетельницей на свадьбе. И Нина решила поехать. Сначала она заказала билеты, отпросилась на работе и только потом удивилась – с чего вдруг спустя столько лет ее подруга детства захотела увидеться?
* * *
Уехав в Москву учиться, она первое время жила в семье Георгия – того самого троюродного племянника крестной, который, конечно же, не мог отказать своей тетке, хоть и не помнил, как та выглядит. Но встретил Нину в аэропорту, довез до дома и через день звонил тете Асе с отчетами. Нина не стала поступать в медицинский, а поступила на экономический факультет. От всего сердца поблагодарив Георгия, она ушла жить в общежитие, хоть тетя Ася и мама просили племянника привязать ее к стулу и не отпускать из дома.
Нина выучилась, устроилась на работу в банк. Сначала снимала жилье, потом взяла кредит в собственном банке и купила крошечную квартирку на окраине Москвы. Господи, как она была счастлива! Фотографировала квартиру, стараясь, чтобы фотографии были красивые, как в журналах, с разных ракурсов. После этого села в самолет и полетела домой, где на кухне показывала фото маме и крестной.
– Это хорошо, ты молодец, – говорила мама, но Нина видела, что Тома не очень рада. Все пошло не так, как она рассчитывала.
– Нет, ты мне скажи, а что, там нет мужчин с квартирами? Почему ты замуж не выходишь? – прямо спросила ее тетя Ася.
– Не знаю. Не получается, – ответила Нина.
– Послушай, я зачем тебе деньги на билет дала, которые на стенку откладывала? Чтобы ты экономистом стала? Нет! Я думала, ты замуж хорошо выйдешь! – рассердилась тетя Ася. – Зачем ты мне фотографии квартиры показываешь? Я хочу фотографии твоих детей смотреть!
Тома заплакала.
– Мам, тетя Ася, ну вы чего? При чем тут муж? Знаете, сколько мне за эту квартиру еще расплачиваться? – обиделась Нина.
– Нино? Разве в этом счастье? – тихо проговорила Тома.
– Вот скажите мне, зачем я сюда приехала? – Нина от обиды повысила голос, успев мысленно отметить, что начала говорить с акцентом. – Я думала, что вы мной гордиться будете, а вы про мужа спрашиваете!
Тетя Ася и Тома промолчали. Нина, все еще обиженная, уехала тогда, не попрощавшись. Неужели мама и крестная не понимают, как тяжело ей далась эта квартира? Сколько ей пришлось работать? Какой там муж? На личной жизни Нина поставила жирный крест. Нет, были мужчины, которые за ней ухаживали, но все это было не так, неправильно. Все-таки она выросла в другой среде, в другой культуре, и принятые нормы отношений, впитанные с кровью, давили, всплывали где-то в подкорке, и она не могла позволить себе ни флирт, ни отношения без будущего. И здесь не было ни мамы, ни тети Аси, которые могли бы все устроить – узнать о потенциальном женихе, его родственниках, сосватать, поддержать… Это было возможно только в их городе, куда Нина возвращаться не хотела и, что важнее, не могла. Она уехала, оборвала, отрезала, и ее судьба стала уже другой.
Тетя Ася, которая в кофейной гуще увидела у Нины новую жизнь, новую судьбу и свою дорогу, была права. Только гуща не говорила о том, что эта дорога окажется столь тяжелой, а жизнь совсем не такой, о какой мечтала для дочери Тамара. И уж совсем не такой, какую рисовала себе Нина. Мама не должна была умереть так рано, она не должна была болеть и терпеть такую боль.
Нина уже перед самой смертью мамы привезла ее в Москву – врачи, уход, анализы. Но Тамаре было плохо. Она выходила утром на кухню, варила кофе и долго сидела, разглядывая узоры в чашке.
– Мама, ты чего не идешь в душ? – спрашивала проснувшаяся Нина.
– Так воду жду, – отвечала удивленно мама.
– Тут всегда вода есть. Когда хочешь.
Но Тома жила по своему режиму. Воду ведь давали не раньше восьми, и она, вставая в шесть, покорно ждала восьми утра, с вечера набирала воду в бутылки. Она не понимала, почему так тихо, настолько тихо, что страшно. Никто сверху не ходит, никто не здоровается, и квартира очень высоко – из окна ничего не видно: кто пришел, кто приехал? Как можно увидеть с тринадцатого этажа? Да и страшно жить так высоко. Мама отказывалась ездить в лифтах – у нее начиналась клаустрофобия, а подниматься по лестнице ей было тяжело, поэтому сидела дома, скучая по Асе, по телефонным звонкам, по дому. Здесь она была чужая. И сулугуни, который Нина приносила ей с рынка, плохой, соленый. Кто его делал? Руки оторвать тому мало. Кто так сулугуни делает? Как можно так людей обманывать? Ведь они будут думать, что сулугуни именно такой! Это же позор, стыд…
Столичным врачам мама тоже не доверяла. Она не понимала, что они ей говорят и почему анализы, которые она делала дома, здесь никто не смотрит. Тамара пересказала врачу, к которому ее записала Нина – светилу, профессионалу, – то, что ей сказал Вахтанг, и очень обиделась, когда врач даже не усомнился, нет, просто сказал, что «нужно подтвердить диагноз».
– Вахтанг не мог ошибиться! – сдерживая гнев, сказала Тамара и вышла из кабинета.
Вахтанг, конечно, знал диагноз, но не хотел огорчать Тамару. Он не был близок ей по крови, но кто скажет, что он был не родным? Он знал ее еще до того, как она вышла замуж, помнил ее молоденькой, с потрясающими глазами и голосом, от которого замирало сердце. Он видел ее в свадебном платье, красивую и испуганную. Видел ее беременную, видел после родов, первым взял на руки новорожденную Нину, раньше ее отца. Вахо был рядом всегда.
Как он мог сказать Тамаре правду? Как он вообще мог сказать женщине, которую любил всю свою жизнь, что она умирает и нет никакой надежды?
Отец Нины умер, когда ей было два года, она его совсем не помнила. Тома хранила фотографию мужа, которую Нина часто разглядывала. На нее смотрел строгий мужчина, чужой человек. Помимо фотографии, от отца остался только «инструмент» – палочка с петелькой для вынимания косточек из черешни и вишни, которую он лично выстругал и подарил жене на 8 Марта.
Вахтанг был лучшим другом Нининого отца. Можно сказать, братом. Они выросли вместе и вместе влюбились в одну девушку. Но Тома могла выбрать только одного, и Вахо отступил, не предал дружбу. Он помнил последние слова друга, который умирал у него на руках, уже в реанимации: «Береги Тому и Нину. На тебя их оставляю». Но Вахтанга не нужно было просить. Он любил Тамару всю жизнь, она об этом знала. Знали об этом и жена Вахо, и его теща, и, наверное, его дети – он никогда этого не скрывал, но никогда, ни разу в жизни не позволил себе проявить чувства. Как ни позволила себе этого Тамара, хотя Вахтанг делал ей предложение, когда после смерти друга прошел год. Он ждал, когда Тома снимет траур, но так и не дождался. Она посмотрела на него тогда строго и отказала. Вахтанг почти сразу женился на другой – хорошей, доброй девушке, и жил хорошо. Но Тамару любить так и не перестал. Он приходил к ним раз в неделю, сидел на стульчике и играл сам с собой в нарды, как когда-то играл с другом. Тома занималась своими делами, оставляла с Вахтангом маленькую Нину, кормила его, варила кофе, вытряхивала пепельницу. Они почти не разговаривали, им были не нужны слова. Но если Вахо не приходил, Тома плакала, хотя он звонил и предупреждал – день тяжелый, много больных, дежурство, не смогу зайти. Но она все равно плакала. Вахтанг ей был нужен как воздух. Без него становилось страшно и тяжело. Они были ближе, чем муж и жена, уважали и берегли друг друга. И никто в городе не посмел сказать никакой гадости в их адрес, ни одного косого взгляда не было брошено им вслед. Так не бывает? Бывает. Остается молчать и завидовать.
* * *
Тома так и не прижилась в Москве. Не справилась с клаустрофобией и боязнью высоты, не привыкла к тишине и к тому, что никто не заходит в гости и не у кого попросить сковородку для хачапури. Тома не смогла привыкнуть к другой еде, другой воде. Она пила воду с газом, но газ был другой – не такой мягкий, а шибающий в нос. И рыба, которую она очень любила, была другая, не такая, как привозил из рейсов Рафик, трудившийся на рыболовецком судне и заработавший на собственный автомобиль. Между рейсами Рафик возил соседей по делам – на базар, на кладбище. Никому не отказывал.
Тома просилась домой. Молча. Только вздыхала. Ни таблетки, ни лечение ей не помогали. Нина видела, что мама хочет вернуться, но боялась ее отпустить.
Она уехала неожиданно. Когда Нина пришла вечером с работы, мамы не было, она оставила записку: «Нино, я уехала. Ася за мной досмотрит».
Нина тогда чуть не сошла с ума. Как мама смогла побороть все свои страхи, как смогла спуститься на лифте с сумкой? Как смогла купить билет и добраться до аэропорта?
Нина позвонила крестной, которая, как всегда, была лаконична и сдержанна:
– Не волнуйся, Рафик ее встретит. Она сделала все правильно. Здесь ей будет лучше.
Нина плакала и не понимала, как мама могла променять столичную квартиру с горячей водой и всеми удобствами на жизнь там, в доме, где все было подчинено выживанию, а вся жизнь крутилась вокруг быта, и не было никакой возможности хоть полчаса побыть в одиночестве. И почему мама решила, что с родной дочерью ей будет хуже, чем с Асей и другими соседками?
* * *
Их район так и назывался – «Болото». Дома были построены на искусственно высушенном болоте, о существовании которого напоминал хор лягушек, начинавший выступление после ночного дождя. Нина все свое детство засыпала под мелодичное кваканье и звук гудящего вентилятора.
Звуки для жителей района значили очень многое. Они, как слепцы, слышали все и даже больше, словно эта способность передавалась на генном уровне из поколения в поколение. Впрочем, обострен был не только слух, но и зрение. Дети, едва встав на ножки, учились видеть в темноте.
Их дом. Пятиэтажка, которая стояла вопреки законам гравитации и архитектурному замыслу. Изначально построенная без балконов, она обросла лоджиями и крошечными навесными балкончиками, или увитыми диким виноградом, или уставленными кадками с развесистыми, как пальмы, кактусами.
Балконы соседи строили совместными усилиями – это превращалось в священнодействие, не помочь было нельзя: заливали бетон, доставали арматуру, крепили, проверяли на прочность.
Каждому окну полагался свой трос, который тянулся к окну дома напротив. На тросе развешивали белье, которое сушилось на ветру. Хорошие, образцовые хозяйки вывешивали белье «по росту»: от самых маленьких вещей – колготок и детских маек, до самых больших – простыней и пододеяльников. Рубашки обязательно должны были быть расправлены, полотенца следовало встряхнуть и растянуть без единой морщинки, чтобы не пришлось потом разглаживать. Не потому что лень, а потому что свет могут отключить, и тогда не до глажки – успеть бы обед приготовить.
В обязанности Нины входило собирать высохшее белье. Надо было тянуть на себя трос так, чтобы вещи не попали в механизм и не испачкались маслом. Ни разу у Нины не получилось повесить белье так, как делала мама, и ее трос, который видели все соседки, был немым укором в безрукости.
Девочкам в пример неизменно ставили соседку Сону. Ей всегда несли детские мягкие игрушки, в которые подросшие дети переставали играть, и она их сначала вручную стирала, а потом развешивала «по росту»: сначала маленьких зайчат и медвежат, а в конце – больших медведей, которых подвешивала за уши. Медведи висели, тараща глаза. Сона потом раздавала игрушки новорожденным младенцам соседок. И каждый день на тросе появлялись новые белки, зайцы и собачки – выстиранные, вычесанные, высушенные. А если на тросе появлялся плюшевый монстр, которого Сона вывешивала непременно в середину троса, значит, жди прибавления. Она чувствовала беременность у женщин раньше врачей, раньше самой будущей матери. Самые большие игрушки доставались самым маленьким детям. Как правило, тогда, когда младенцу исполнялось сорок дней и его начинали показывать людям, не боясь дурного глаза.
Здесь росло, колосилось и плодоносило все, что ни воткнешь. Кактусы, которые так любила Тамара, достигали гигантских размеров. Они стояли в кадках и топорщились колючками. У Томы была легкая рука. Она ела сушеный финик и втыкала косточку в ближайший цветочный горшок. Тома вообще ничего не выбрасывала, даже косточки. Сказывалось прошлое, когда семья жила без света, воды и даже самых необходимых вещей. Так вот, даже косточки у нее прорастали.
Нине на память от мамы остался финиковый росток, который она, когда была в Москве, посадила в горшок, стоящий в общем коридоре. Там долго и мучительно погибал фикус – засыхал, но не сдавался. А благодаря Томе и фикус ожил, и финиковая косточка проросла. Они прекрасно уживались в одном горшке, как уживалась Тамара со всеми соседями.
Два раза в год Тамара с Ниной и дядей Вахо ездили на кладбище, на могилу отца. Вез их всегда Рафик. Он же брал с собой специальный топорик с закругленным лезвием – вырубать кусты, иначе к могиле подойти было невозможно. Тома держала в руках мешочек с крупной солью – считалось, что если смешать соль с землей и посыпать этой землей могилу, то на ней ничего расти не будет. Но даже этот способ, восхваляемый соседками, у Тамары не действовал. Все равно Рафику приходилось идти первым, прорубая тропинку, а Вахтанг с Томой вырывали руками сорняки.
Выезжать приходилось очень рано, часов в шесть, чтобы успеть хотя бы до одиннадцати. Но уже к восьми они все были липкие от пота и жары. Бутылки с водой, которые Вахтанг загружал в багажник к Рафику, нагревались, становясь почти горячими, и пить становилось противно. Зато после тяжелой работы, когда могилу можно было увидеть с дороги, когда памятник был освобожден от цепких, с крепкими корнями растений-вьюнов, они отправлялись есть рыбу. Рафик и Вахтанг очень любили рыбу, только что выловленную, поджаренную сразу же, здесь, в придорожном кафе.
– Ешь, Нина, это же хлеб! – говорил Рафик.
А Нина только удивлялась, почему он называл камбалу хлебом? Потом мама ей объяснила, что на рыболовецком судне, на котором плавал дядя Рафик, камбала была на завтрак, обед и ужин. Она не считалась ценной рыбой и шла морякам на повседневную еду, поэтому ее и назвали хлебом, который как раз был в большом дефиците.
Специально для мамы Вахтанг брал горбуля, Тома благодарила его взглядом. Вахтанг всегда знал, что она любит. Перед Ниной ставили огромную тарелку с мидиями, остро пахнущими морем, которые за еду вообще никто не держал – так, семечки, детям баловство.
– Спасибо тебе, – благодарила Тамара Рафика, который, конечно же, отказывался брать деньги.
– О чем ты говоришь? – обижался тот. – Кто поможет, как не сосед? Куда пойдешь? Не чужие ведь!
* * *
Этого Тамара тоже не могла понять – как это дочь не знает, кто живет внизу? А кто стучит наверху? На лестнице стоит детский велосипед – сколько лет мальчику? Как можно этого не знать?
Нина боялась признаться матери, что не хочет никого знать, нет никакого желания, и такая норма поведения, принятая у жителей столицы, ей очень нравится.
Откуда в ней было такое равнодушие, ни Тамара, ни сама Нина не знали. Тома только качала головой, и бровь от возмущения ползла вверх. Ведь не так она воспитывала дочь, не по таким правилам.
Нина тоже помнила, как в беду, в несчастье собирались все соседи, всем домом, всем миром, чтобы помочь справиться.
– А помнишь Отара? У него теперь собственная мастерская, – говорила Тамара дочери, намекая на то, что нельзя жить одной, нельзя не знать, что творится за стеной, кто ходит у тебя по потолку и на чью голову ты бросаешь разбитую тарелку.
Отар был Нининым ровесником. Они вместе играли в детстве во дворе, вместе ходили в детский сад. Здоровый, красивый парень, добрый, улыбчивый, безотказный – и за хлебом сбегает, и с детьми маленькими поиграет. Никто не мог понять, за что на его голову такое горе, за какие грехи предков он так расплачивается. Нина прекрасно помнила, сколько шума наделала свадьба Отара, когда он в семнадцать лет решил жениться. Так полюбил, что никого слушать не хотел. Молодой жене, Ие, и вовсе исполнилось всего шестнадцать. Нина была на этой свадьбе и только удивлялась – неужели женятся, неужели жить будут вместе? Она не то чтобы не смотрела на мальчиков, но никак не могла представить никого из своих одноклассников в роли мужа, мужчины. Ия – совсем ребенок, хрупкая, насмерть испуганная. Но свадьбу сыграли, сделали все, как положено, благо родственники были давно знакомы, дружили семьями. Они встали кланом и помогали молодым, чем могли.
Но когда на тросе у Соны на почетном месте появился здоровенный слон голубого цвета, которого она подвесила прищепками за уши, соседки опять стали судачить. Неужели Ия беременна? И действительно: Ия родила сына, которому Сона подарила плюшевого слона. И жить бы, радоваться, но случилось горе. Такое горе, которое ничто не могло предсказать, даже кофейная гуща. Отар заболел.
Когда утром он не смог встать с кровати, позвали Вахтанга, Тамара позвала: у соседей горе – сын не может встать, ноги не слушаются, а жена только родила.
Вахтанг пришел и сделал все, что мог. Но что он мог, когда мышечная дистрофия? У Отара отнимались ноги, и остановить этот процесс было невозможно. «Дальше будет только хуже», – честно сказал Вахо. И опять соседки запричитали, заплакали – Отарик должен был стать наследником отца, который работал в обувной мастерской. Очень хороший мастер. Золотые руки. Но как перенять дело, если Отар даже до мастерской не мог дойти? Ног не чувствовал.
Вахтанг заказал ему инвалидную коляску, и каждое утро молодая жена, хрупкая и слабенькая Ия, выносила мужа во двор. У этой девочки совсем не было сил, чтобы спустить своего мужа с четвертого этажа. Но соседки слышали, когда хлопала дверь их квартиры, и выходили каждая на свой этаж. Так женщины спускали Отара вниз, передавая друг другу с рук на руки, как передают младенца. Младенец тоже был – его оставляли с теми невестками, которые нянчили своих детей. Где один, там и двое. И пусть только попробует слово поперек сказать!
Пока свекрови дружно сносили Отара по лестнице, невестки по очереди нянчились с его младенцем. Внизу Ия забирала мужа и везла его на работу. Пятнадцать минут по городу. Если быстро толкать коляску и если не было дождя. А если ночью шел дождь, то все полчаса, чтобы обойти лужи. Ия довозила Отара до мастерской свекра и бежала назад, чтобы забрать сына у соседок, приготовить, постирать, убрать. А вечером все повторялось. Опять Отара на руках, уже наверх, поднимали женщины. Он никогда ничего не говорил – ему было стыдно. Так стыдно, что по ночам он кричал во сне – от бессилия. Ия его укачивала, прижимая к себе, как делала это с новорожденным сыном, который от криков отца просыпался и тоже плакал.
Прошло несколько месяцев. Было понятно, что дальше так продолжаться не может. Слишком тяжело. Так тяжело, что не вынести. Отец Отара закрыл свою обувную мастерскую и ушел на пенсию. Всем своим клиентам он сообщил, что сделать набойку лучше, чем делает его сын, невозможно. И если они хотят, пусть приходят к Отару. В его новую мастерскую. Да, не в центре города, на «Болоте», но… Гарантия на обувь – пятьдесят, нет, сто лет. Если Отарик сделает, а каблук полетит, то он, его отец, до конца жизни сам в женских туфлях проходит! Это подействовало. Клиенты ждали, когда Отарик начнет принимать обувь.
У Отара в это время тряслись колени, которых он давно не чувствовал и которыми не управлял. Он сидел в комнате и держался за голову, не зная, что теперь делать.
Соседи мужчины собрались во дворе под навесом – там, где всегда по вечерам играли в нарды. Они привычно двигали шашки, перебрасывая друг другу кубики, но никто не следил за счетом. Они обсуждали, как сделать мастерскую.
Наверное, такое можно сделать только на болоте, под кваканье лягушек. Такое могут сделать только люди, совершенно чужие друг другу, у которых есть дети, жены и матери.
На первом этаже жила семья Резо. Его невестке часто приходилось сидеть с сыном Отара – их дети родились с разницей в три месяца. В гостиной у них стояла точно такая же стенка, а в спальне – точно такая же кроватка. И Резо сказал жене, сыну и невестке, что они будут жить в квартире Отара, а Отар – на первом этаже. Невестка покорно пошла собирать сумки, жена Резо побежала к соседкам. Пока женщины вносили и выносили мебель и вещи, мужчины сидели за нардами и продолжали обсуждать план действий.
На следующий день Рафик привез инструменты и материалы, которые достал не пойми где, и мужчины начали вырезать окно там, где его не могло быть в принципе. Прямо в стене дома. Чтобы на входе в подъезд была обувная мастерская. Чтобы Отар мог выехать из спальни и проехать на инвалидном кресле к окошку, открыть его и принять обувь. Никто не думал о том, что дом может не устоять и рухнуть. Отару сделали окно и прибили красивую витиеватую вывеску – «Обувная мастерская Отара». Он сидел в окошке с восьми утра и здесь же, на глазах у всех, чинил, прибивал, менял подметки.
По умению он превзошел своего отца. Ия передавала через окошечко чашки с кофе – чтобы клиенты могли посидеть на лавочке и подождать. Их сын часто сидел на коленях у отца, который всегда улыбался. Они хорошо жили. И очень любили друг друга. Иначе как объяснить, что у Отара скоро родилась девочка? Малышка была похожа на мать, но, когда начала плести венки, пришивать бусины к ткани и помогать отцу в мастерской, становилась копия он.
* * *
Нина приняла решение матери. Если бы она могла честно себе признаться, то сказала бы, что рада. Рада, что мама вернулась домой. Нина много работала и очень дорожила своим местом, подолгу задерживаясь в банке. Дома ее никто не ждал. Зато после отъезда Томы она смогла вернуться к рисованию: доставала краски, кисточки, подрамник. Ей было все равно, что рисовать – вид из окна, портрет мамы с фотографии. Это был ее способ отдыха, хобби, по-настоящему любимое дело. Но ни разу, даже на минутку, она не посмела подумать о том, что сейчас могла бы не сидеть в банке, прикованная к стулу, а стоять на свежем воздухе, на природе, где-нибудь за городом, и писать пейзаж. И что вся ее жизнь могла бы сложиться иначе. И, возможно, не было бы такой тоски, какая накатывала на нее по вечерам.
Нина всегда рисовала, но Тамара не относилась к увлечению дочери всерьез. Когда однажды она заикнулась о том, чтобы пойти учиться в местную художественную школу, мать подняла одну бровь и спросила:
– Ты хочешь, как Ляля, сидеть на бульваре?
Больше Нина не заговаривала о рисовании, хотя часто приходила на набережную, куда по вечерам выходил на променад чуть ли не весь город, и смотрела, как рисует Ляля, местная сумасшедшая.
Ляле было лет тридцать пять. Одинокая старая дева. Она зарабатывала тем, что рисовала портреты не очень трезвых туристов или детей – девочек в коронах, мальчиков в рыцарских доспехах. Ляля зарабатывала мало, портреты делала откровенно халтурно, но других знакомых художников, у которых можно было бы часами стоять за спиной, у Нины не было.
Не в сезон Ляля выходила на свое привычное место и рисовала море. Нина стояла рядом и чуть не умирала от восторга. Лялины пейзажи не шли ни в какое сравнение с ее принцессами в коронах – они были потрясающими.
Иногда Ляля набиралась смелости и вывешивала свои пейзажи на продажу. Их никто не покупал, она страдала и часто плакала. Собственно, поэтому ее и сочли сумасшедшей – она плакала, и когда рисовала доспехи и короны. Детям было все равно, даже любопытно – сидит взрослая тетя, рисует и плачет, а родители старались быстрее забрать рисунок, заплатить и уйти.
Ляля, когда совсем не было клиентов, давала Нине то мелки, то кисточку и показывала, как нужно класть тени, как чертить горизонт. Бросала взгляд, подправляла. Так Нина училась. Ляля оказалась хорошей учительницей, она привила девочке любовь к краскам, к пейзажам, к мору, вечно грязному, часто штормящему, но такому прекрасному на ее рисунках. Она не отбила у Нины охоту, а возбудила в ней интерес и даже поселила в ее сердце страсть к этому искусству. А что еще требуется от учителя?
Тамара, конечно же, узнала об увлечении дочери, но сочла это невинным занятием и даже приплачивала Ляле какую-то копеечку, как няне, которая посидела час с ребенком.
Нина любила приходить к Ляле в гости – та жила с кошками и досматривала за больной матерью. Мать болела долго и тяжело, из-за этого Ляля не смогла выйти замуж и родить детей. Мать чувствовала свою вину и тоже часто плакала. Дом был захламленный, с запахом нищеты. В единственной комнате были разбросаны кисточки, грязные тряпки и подрамники. Повсюду ходили тощие, вечно голодные кошки. Но Нине там было хорошо. Она часто стояла на бульваре с огромной картонной коробкой, помогая Ляле раздавать котят. Коробка с котятами была такой же неизменной декорацией, как и художница с мольбертом на набережной.
Пока Лялина мама плакала дома, не в силах дотянуться до тазика, заменявшего утку, ее дочь плакала на бульваре, рисуя очередную корону на портрете носатой черноволосой девочки, которая на бумаге превращалась в голубоглазую блондинку с тонкими чертами лица.
Пару раз Нина приносила котенка домой, но мама была категорически против и даже один раз строго сказала, что если дочка еще раз принесет котенка в дом, то она ей запретит ходить к сумасшедшей художнице-кошатнице.
Ляля много раз говорила Нине, что у нее есть талант, что ей нужно рисовать, учиться, заниматься, смотреть альбомы по искусству, срисовывать, ходить в музеи. Нина только однажды передала маме Лялины слова, но Тома только хмыкнула и подняла бровь:
– Рисуй сколько хочешь. Кто тебе не дает? Вот получи нормальную профессию и рисуй себе, пока мужа и детей нет!
Нина кивнула, запомнив, что художник – это не «нормальная» профессия, а так, не пойми что. Занятие для сумасшедшей Ляли-кошатницы, старой девы.
* * *
– Тетя Ася, можно я приеду? – позвонила Нина крестной.
– Это кто? Алле! Кто это?
– Это Нина, дочка Тамары.
– Нино! – закричала Ася. – Где ты? Что ты говоришь?
– Можно я приеду? На несколько дней. У вас поживу.
– Зачем ты мне звонишь? Приезжай и живи, сколько хочешь! Что-то случилось у тебя?
– Нет. Просто Натэла прислала приглашение на свадьбу.
– Натэла? Дочка Мэри? Она замуж выходит и свадьбу устраивает? Это ты так шутишь?
– Нет, правда, я сама удивилась.
– А чего она тебя позвала? Хочет всему миру сообщить, что замуж выходит?
– Видимо, да. – Нина улыбнулась: она искала какие-то скрытые мотивы, а ведь все так просто объясняется, тетя Ася права. Натэла просто хотела, чтобы о ее свадьбе узнали все.
– Я скажу Рафику, он тебя встретит! Когда ты прилетаешь?
– Да не надо! Я сама доеду!
– Слушай, не морочь мне голову! Я сказала – Рафик встретит, значит, так и будет!
Нине оставалось только согласиться. Она купила Натэле в подарок красивое блюдо, обмотала его платьями, чтобы не разбилось, и полетела домой, не зная, что ее ждет и зачем она вообще это делает.
* * *
Нина вышла из самолета. Ноги подкашивались от волнения. Еще десять минут, и она будет дома. В своем дворе. Но не в своей квартире, которую продала после смерти мамы под крики, проклятия и причитания тети Аси.
– Зачем ты это делаешь? Ты пожалеешь! Пусть будет квартира. Я зайду, приберу, все будет готово к твоему приезду! – уговаривала ее тогда крестная. – Смотри, на этом диване Тома умирала, а ты его продавать хочешь! У тебя рука поднимется?
– Поднимется, тетя Ася. Я сюда не вернусь.
– Детей родишь, на море захочешь повезти, куда поедешь? – не сдавалась тетя Ася.
– Еще неизвестно, когда рожу. И сюда точно не привезу. После вашего моря все дети с поносом под капельницей в больнице лежат, – огрызалась Нина.
– Слушай, зачем ты так говоришь? Зачем обижаешь? Ты купалась, все дети купались, ничего, выжили, а твои, видишь ли, поносом болеть будут!
– Какие дети? Может, у меня вообще детей не будет! – Нина уже чуть не плакала.
Она физически не могла находиться в квартире, где пахло лекарствами, где еще чувствовалась рука Томы. Не могла сидеть на диване, где в течение долгих месяцев умирала ее мама, где ничего не изменилось и не изменится никогда. Даже плитка в ванной останется прежней – ее клал еще Нинин отец, когда они только въехали в эту квартиру. Каждая чашка, каждая ножка стула здесь напоминали о маме. В этой квартире Нина так остро чувствовала свое сиротство, что начинала задыхаться – дышала, но липкий воздух, который звенел от зноя, не проникал в легкие, и становилось так плохо, будто Нина перенимала боль мамы. Она даже ночевать здесь не могла, потому что чувствовала, слышала, как мама ходит по комнатам, варит кофе на кухне, включает вентилятор. Нина засыпала раскрытая, сбросив одеяло от жары, но просыпалась всегда под одеялом, как будто мама зашла к ней, как в детстве, и укрыла. Нет, она бы этого не смогла выдержать.
Но про поносы Нина сказала правду. Все дети в городе знали, что нельзя пить из-под крана и нельзя глотать морскую воду, иначе поедешь в больницу, где медсестра воткнет тебе в руку иглу, поставит капельницу и через два часа отправит домой. Летом, в сезон, в больнице не было свободных мест.
– Эх, локоток-то близок, а не укусишь, – сказала Нине тетя Ася, когда та сидела на ее кухне и пересчитывала деньги, полученные за квартиру.
– Тетя Ася, погадайте мне, – попросила Нина.
– Не буду, – отказалась крестная. – Иди в церковь лучше сходи, свечку поставь.
– Некогда. В Москве схожу.
– Все, уходи, не хочу тебя больше видеть. Перед матерью твоей стыдно. Она вот смотрит на тебя и, что ты думаешь, радуется?
– Теть Ась, я уже не маленькая. Кто на меня смотрит?
Тетя Ася не ответила. Нина досчитала деньги, собралась и уехала. Крестная даже до двери ее не проводила – обиделась. И дядя Рафик, когда вез ее в аэропорт, молчал. Ни слова не сказал.
* * *
В аэропорту, на выходе, сразу после паспортного контроля, стояли мальчик и девочка в национальных костюмах и предлагали гостям пахлаву. Нина взяла сначала одну, но сразу потянулась к подносу за следующей. Пахлава была самой обычной, не такой, как у мамы, и не такой, как у тети Аси. Но Нине она все равно показалась такой вкусной, что захотелось еще.
Был вечер, и эти дети лет двенадцати обходили с подносами вновь прибывших пассажиров. «Интересно, им за это платят?» – успела подумать Нина.
Выйдя в крошечный вестибюль, она попыталась узнать дядю Рафика и тут услышала крик:
– Дедуля!
Дядя Рафик махал ей руками.
Так ее больше никто и никогда не называл. Это пошло с тех пор, когда маленькая Нина никак не могла выговорить «дядя Рафик» и стала называть его «дедуля». Нина подросла, и уже дядя Рафик стал называть ее «дедуля» – ласковым детским прозвищем.
Они ехали по пустому городу, и Нина старалась не смотреть на дорогу. Дядя Рафик проезжал на красный свет, ехал по встречной и не переставал говорить.
– Ой, а где роддом? Здесь же был роддом! Я в нем родилась. – Нина увидела пустырь там, где его не должно было быть.
– Так снесли! Будут гостиницу строить! Поехали, я тебе хоть город покажу.
Рафик резко свернул на другую улицу и начал экскурсию. Город стал неузнаваем: новая набережная, фонтаны, памятники, новостройки.
– Вот, видишь, у нас на Ленина тоже пробка! – Дядя Рафик посигналил и опять выехал на встречную полосу. – Ты думаешь, только у вас в Москве пробки? У нас тоже есть!
– А разве улицы не переименовали? – спросила Нина.
– Переименовали, конечно! Как не переименовали? Но кто эти названия новые знает? Люди как привыкли, так и говорят. Скажешь новую улицу, так никто из местных тебя не отвезет, только приезжий какой-нибудь. А местные таксисты только по старым знают.
Наконец они заехали во двор. Нина с облегчением увидела, что он совсем не изменился, разве что шифер, которым была обита стена около одного из подъездов, был покрашен в ярко-синий цвет, а балкончики с пятого по третий этаж стали изумрудными. Видимо, краски не хватило.
Дядя Рафик не успел хлопнуть дверцей машины, как занавески на окнах дружно раздвинулись и из окон стали выглядывать соседки.
– Рафик, ты? – крикнула тетя Ася, свесившись до половины с балкона.
– Я! Нину привез! – ответил Рафик.
– Нино! – закричала Ася. – Доченька!
– Давай, иди, дедуля, я чемодан сам возьму! – сказал Рафик.
– Он тяжелый!
– Обижаешь! Что, я чемодан поднять не могу?
– Дядя Рафик, а сколько вам лет? – вдруг спросила Нина.
– Семьдесят три, – гордо ответил Рафик.
– Ни за что не дашь! – искренне сказала Нина.
– Это потому что я рыбу ел, вино пил, женщин любил. Знаешь, какие у меня женщины были!
– Да вы и сейчас хоть куда, – засмеялась Нина.
– Да, ты громче кричи, чтобы моя Софико услышала. Да, Софико? – крикнул дядя Рафик в одно из окон. Там быстро задернулась занавеска. – Слушай, не уши у нее, а локаторы! Все слышит, что надо и не надо! Мозгов бог не дал женщине, зато слух – стопроцентный! Шагу не могу ступить, чтобы она не узнала! Хоть азбукой Морзе общайся, чтобы в нарды пойти поиграть! Сразу скандал начинает! А орет как… как… о, цесарка! Знаешь, как орут цесарки? Вот, у моей Софико такой же голос! Вон у соседей из частного дома три цесарки, так моя Софико их троих перекрикивает. Они замолкают, потому что так не могут! Всё, пришли. – Дядя Рафик поставил чемодан около дверей тети Аси. – Ты, если куда поедешь, позвони мне, Ася телефон знает, отвезу, возьму недорого. Я ведь теперь официально таксистом работаю. Около магазина стою. А если сядешь к Леванчику, так я тебя знать не буду! В сторону твою не посмотрю!
– Хорошо, спасибо. – Нина решила не спрашивать, кто такой Леванчик.
Крестная уже висела на ней, целовала и тащила в комнаты.
* * *
Нина лежала в спальне крестной на чистых, высушенных на тросе простынях под тихий гул вентилятора и слушала, как квакают лягушки. Уснуть она не могла. Шел дождь, значит, завтра на море будет шторм, в воду не зайдешь. До свадьбы Натэлы оставалось еще три дня – Нина специально приехала пораньше, чтобы… прийти в себя. Ей было не по себе, даже страшно. А вдруг все будет не так, как она помнила?
Но пока все было так, как раньше. Нина, когда заходила с дядей Рафиком в дом, успела подумать о том, что столько лет прошло, а света в подъезде так и нет. И никто из местных мастеров, которые и балкон припаяют, и стену прорубят, не смог ввинтить обычную лампочку.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/masha-traub/tetya-asya-dyadya-vaho-i-odna-svadba/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
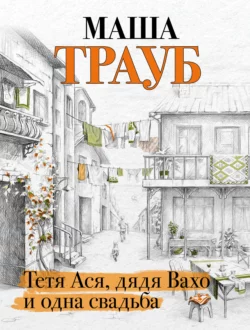
Маша Трауб
Тип: электронная книга
Жанр: Современная русская литература
Язык: на русском языке
Издательство: Эксмо
Дата публикации: 07.09.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Здесь кофе бывает трех видов – сладкий, средний и несладкий. Здесь жених не догадывается, что приехал на собственную свадьбу. Здесь нельзя предсказывать погоду и строить планы даже на ближайшие пять минут. И здесь есть всё, кроме чужих людей и одиночества. Это роман о дружбе и верности, терпении и прощении, радости и горе, о времени и судьбе.