Фата на дереве
Галина Марковна Артемьева
Лабиринты души #10
Сана мечтала о тихом семейном счастье с самого детства. Казалось, ее желание близко к осуществлению, когда появился красавец-жених, и не какой-нибудь легкомысленный щеголь, а серьезный, успешный, основательный. Может, даже слишком серьезный для Саны, в которой живет душа вольной птицы. Шаг за шагом росла между ними стена непонимания. Даже фата, которая была для девушки олицетворением долгожданного счастья стала для ее мужа символом непонятных ему, а значит, глупых фантазий. Мечта при соприкосновении с реальностью лопнула, как лопаются мыльные пузыри, но что же делать Сане, как ей жить дальше?..
Галина Артемьева
Фата на дереве
Лучик
– Агу, – нежно пролепетала Викуся, широко улыбаясь. – А-гуууу, а-гуууууу.
Красиво у нее получалось. Песня.
Солнечный лучик заглядывал в чисто вымытое окно. Викуся потянулась, чтобы его поймать и рассмотреть как следует. Лучик не давался. Ну никак. Не убегал, не прятался, но не давался.
– Гу! – рассердилась Викуся и зажмурилась.
Нахальный лучик лез прямо в глаза.
Спать не дает и играть не хочет.
Викуся чихнула, удивилась, еще раз чихнула и принялась икать. Агукать она при этом не перестала.
– Аааа-ик-гууу-ик… ааа-ик-гууу-ик…
Ой-ой-ой… Уже ж утро! Эх, утро доброе! Чего ж ты такое раннее? Хотя – нет… Спасибо, конечно! Лето! Долгожданное! Свет – повсюду. Ясный, радостный. Вон и птички щебечут… И Викуся свою песню выводит… И чего ей не спится? Ведь сухая, сытая… Спала бы себе и росла во сне, сил набираясь. Икать взялась…
Сана, как сомнамбула, восстала со своего ложа и, не открывая глаз, направилась к детской кроватке.
Викуся стойко икала и столь же стойко агукала.
Сана склонилась над детской кроваткой, вытащила оттуда невесомое сокровище, прижала к себе маленькое беспомощное тельце.
Икота немедленно прекратилась.
– Солнышко мое! – обрадовалась Санка. – Рыбусик мой золотой! А, вот что тебе спать мешало!
Яркий лучик игриво подрагивал на белоснежной младенческой подушке с кружевными оборками. Ему было явно все равно, с кем играть, кого заставлять просыпаться и радоваться предстоящему долгому летнему дню. Его не интересовало, что взрослый человек вот уже вторую неделю один возится с грудничком и мечтает элементарно отоспаться. Тем более дачный свежий воздух действует опьяняюще. Спать бы и спать…
– Агуууу, – взялась за свое Викуся.
– Ага, – вздохнула Сана, – Слышу… Агу… Тебе веселиться час настал. А давай так? Давай я лягу, а ты своим пузом на меня, а? Я подремлю, а ты разговаривай, пой – все, что захочешь… Давай?
– Агыыы! – восхитилась Викуся, улыбаясь так широко, что сил на то, чтобы держать голову прямо, у нее уже не осталось. Бум – и душистая головушка, пахнущая солнышком и молочком, уткнулась в плечо Саны.
– Мы с тобой девчонки-молодцы! Мы с тобой подруги хоть куда! Нам с тобой не страшно ничего! Ни жара, ни холод, ни вода! – льстиво бормотала стихами, которые всегда лезли ей в голову, если надо было уговорить Викусю поспать еще чуток, невыспавшаяся Сана.
Она осторожно улеглась на свою широкую кровать, водрузила на себя бодрого и счастливого младенца.
– Ты не думай, я просто полежу, я ж всю ночь с тобой… Просто полежу… И ты рядышком погуляешь…
Санка мучительно зевнула…
Зевота – штука заразительная.
Викуся зевнула тоже.
– Баю-бай, – с надеждой попросила Сана. – Ты сытая, сухая… Баю-бай…
Хороший человек и надежный друг Викуся и правда закрыла глазки. Нагулялась, видно. Значит – счастье. Значит – выспаться сегодня все же получится.
Когда начнется настоящий день, хлопоты подступят…
Одно дело за другим…
Важные и неважные, вперемешку…
Но сейчас – о делах думать нельзя. Сейчас – только спать. Сколько позволит милостивая Виктория, ее повелительница двух месяцев от роду, которую она должна беречь и спасать от всего, что только может грозить маленькому беспомощному человечку.
Вернулся
В то время как замечательный девичий дуэт спал себе крепким утренним сном на даче у Саниных деда и бабушки, муж Саны возвратился домой, в их просторную московскую квартиру из командировки.
Прямо как в начале нескончаемой серии анекдотов… Муж вернулся из командировки, а жена…
Ростислав, уже столько лет благополучно женатый, никогда не имел реальных оснований для ревности. Но неустанно и болезненно ревновал.
Так выходило. Такой у него от природы характер. И все тут. Можно же просто принять это и постараться понять. У него и отец ревнивый, и дед, а может, даже и прадед. Скорее всего.
Мама Ростислава с гордостью повторяет, что такого тяжелого характера, как у ее мужа и, стало быть, Славочкиного отца, наверняка больше в целом свете не сыщешь. Что не по нему – мрачнее тучи. И поди разберись, что не так. На кого слишком тепло взглянула, кому напрасно улыбнулась… Бывает, ревность его возникает совсем нелогично. Например, если в воскресенье на обед не тот суп приготовила или не тот десерт. Ну, происходят такие кулинарные неудачи время от времени с каждой хозяйкой.
К чему тут ревновать?
Хы! Да как же? Вот: приготовила не то, стало быть, не чувствует желаний мужа, не помнит о его вкусовых пристрастиях.
А почему? Ну, тут все ясно: у нее другой! И из-за этого подлого грязного другого она и перестала думать о муже.
Разве не логично?
И по такому поводу можно и нужно несколько дней грозно и непримиримо хмуриться, а то и не разговаривать вообще с женой. Чтоб знала! Чтоб помнила! И предчувствовала, какая гроза разразится, если на самом деле хоть что-то промелькнет!
Конечно, ничего никогда не мелькало. Папочку в семье обожали. Как и маленького Славочку, оказавшегося тоже ревнивцем хоть куда.
И только попробуй вести себя иначе… Только рыпнись!
Недавно мать (так про себя называла Сана свекровь) на семейном празднике, посвященном очередной годовщине их с отцом семейного счастья, с какой-то даже торжествующей гордостью неожиданно поделилась впечатляющим воспоминанием времен ее молодости.
Славику тогда было шесть лет. Определили его в первый класс. Ждали Дня знаний всем дружным семейством. Костюм парню купили школьный, туфли – загляденье. Настоящие мужские. Все приготовили. До первого дня осени оставалась какая-то неделя.
Естественно, в конце августа семья находилась на даче.
Дача у них – сказка. Царские хоромы. Прадеду-генералу выделили после войны гектар подмосковного леса – стройся. И истосковавшийся по удобствам, красоте и домашнему уюту вояка отстроился на века. В умно спроектированном доме из бревен полуметрового диаметра могло с удобствами разместиться человек пятьдесят. Причем масштабы постройки становились понятны только тому, кто оказывался внутри, кто удостоился чести стать званым гостем чудо-замка. Снаружи глянешь – ничего особенного.
Но гости почему-то нечасто к ним выбирались. У всех свои дачи и свои на них дела и хлопоты. А тут, на излете лета, неожиданно образовалась группа давних студенческих друзей и подружек, решивших вспомнить юность и провести за городом выходные. Шашлыки, винцо грузинское… Песни под гитару. Ну, все как тогда полагалось. Все радовались друг другу, вдруг очутившись после скучных взрослых забот в собственном, полном ожидания счастья, не столь уж и давнем прошлом.
Славочку уложили спать в положенное ему время. Папа с мамой сидели у костерка в дальнем углу дачного участка и пели вместе со всеми. Наконец папе захотелось отправиться на боковую.
– Пошли, – велел он жене.
А та настолько увлеченно пела, что и не догадалась немедленно исполнить мужнин приказ.
– Ты иди, – беззаботно откликнулась она. – Я скоро… Еще чуть-чуть…
Папа встал и ушел, не произнеся ни слова.
Мама посидела у затухающего костра еще около часа – ну уж очень хорошо пелось и вспоминалось вместе… До слез хорошо.
Распрощалась с гостями до встречи в Москве: утром всем предстояло разъехаться очень рано, заглянула в детскую, проверить, как спит Славочка, улеглась рядом с мужем, прильнула, поцеловала. Тот крепко спал, не шевельнулся. И она уснула безмятежным сном, ничего не предчувствуя.
Утром проснулась – тишина. Никого не слышно. Ну, гости – понятно. Они так и собирались уехать ни свет ни заря.
А Славочка почему не прибежал к мамочке? Не разбудил, не попросил покушать…
О муже вообще говорить нечего…
Он обычно по утрам требовательно осуществлял свои супружеские права, не спрашивая, хочешь – не хочешь, устала-не устала, есть настроение – нет настроения. Про это она довольно быстро поняла, что лучше не прекословить, если хочешь, чтобы в семье царил мир. По представлениям мужа, хотеться ей должно было всегда, а если она отказывается проявлять свое чувство к своему единственному мужчине, отвергает его ласки, это означает только одно: у нее появился другой.
Естественно, она всячески старалась доказать обратное. Чтоб ни тучки не возникло на семейном небосклоне.
Но сегодня мужа рядом не было. Она вскочила и босиком побежала в Славкину комнату. Никого. И в столовой никого. Принялась звать мужа и сына. На крик спустилась со второго этажа свекровь и сообщила, что сын с внуком отбыли в город.
– Как в город? Почему? Мы же через три дня только собирались?
– Значит, у твоего мужа поменялись планы, – безмятежно установила свекровь.
И тут только маму Славика озарила догадка. Пронзила ее.
Он обиделся!
Она же не пошла спать вместе с ним! И как это ей в голову пришло? Расслабилась с друзьями юности, как под гипнозом оказалась. Это ведь что он мог подумать? Там же не только супружеские пары сидели в обнимку. Там и холостяки ночной романтикой наслаждались, о лесной любви пели, о звездочках. А ей и в голову не пришло почему-то, что муж звал ее не просто спать. Ему в ту пору доказательства ее любви требовались. Ее безусловной верности и принадлежности ему, отцу ее ребенка, между прочим.
Она, сообразив все это, немедленно помчалась в Москву. Помчалась – легко сказано. На машине-то уехал муж. Ей пришлось бежать на станцию, ждать электричку, потом трястись в полном вагоне рядом с теми несчастными, кто ежедневно ездил с дач на работу в город. Но в то утро, конечно же, самой несчастной среди подневольных загородных трудяг, забившихся в электропоезд, была она. Потому что последствия своего проступка предсказать абсолютно не могла. И в свое оправдание не находила слов. Ведь за семь лет могла бы уже привыкнуть к характеру мужа и его реакциям.
А тут вдруг такой сбой. Такая промашка.
Оказавшись у дверей их квартиры, мать дрожащими руками попыталась вставить ключ в замочную скважину.
Ключ не вставлялся.
Неужели муж успел замки в двери поменять?
Выходило, что успел.
Из глубины квартиры доносилась веселая детская музыка. Значит, муж и сын дома.
Она принялась звонить.
– Кто там? – послышался голос мужа.
– Это я, Боречка, открой, пожалуйста, – зарыдала несчастная женщина, припав к двери лицом.
– Ты здесь больше не живешь, – последовал равнодушный ответ.
Говорить так у мужа имелось полное юридическое право: прописана Зоя была у родителей, в коммуналке. И таким образом никакого отношения к кооперативной квартире, подаренной Боречке родителями перед свадьбой, иметь не могла.
Зоя умоляла пустить ее к Славику. Муж был совершенно непреклонен. Он хладнокровно объяснял этой почти уже посторонней женщине за дверью, что своим отвратительным эгоистичным поступком она сама навсегда перечеркнула все, доверия у него к ней больше нет и быть не может.
«Посторонняя женщина» рыдала и умоляла простить и поверить, что больше подобного не повторится. Рыдания матери услышал Славик и тоже заплакал в голос.
– Папа, пусть мама войдет, – слышала провинившаяся и непрощенная мать просьбы сыночка.
– Она раньше должна была думать о последствиях. Голова обычно дается, чтобы думать, а не для блуда и похабных мыслей, – пояснял Борис Леонидович сыну.
Он был непреклонен несколько дней.
Эти дни Зоя провела, почти не отходя от двери, за которыми скрывался неумолимый супруг с сыном, постепенно переходящим на сторону отца. Через пару дней Славик, уже не плача, объяснял маме, что она сама виновата и что он хочет жить с папой и только с папой. А она пусть им не мешает.
От двери женщина отходила только в туалет (пускали сердобольные соседи). Не ела ничего: кусок в горло все равно бы не полез. Спала, сидя на лестнице, прислонившись к холодной стене. Она очень боялась, что, если отлучится надолго, муж увезет Славика в неизвестном направлении и найти ребенка уже не получится. Сейчас по крайней мере она могла быть уверена, что находится рядом с сыном.
Наступило первое сентября. Предполагаемый и давно ожидаемый праздник. Зоя очень надеялась, что муж смягчится перед этим днем и простит ее в последний раз.
Выглядела она просто ужасно: настоящим бомжом.
Человеку, оказывается, очень немного-то и надо, чтобы превратиться и внешне, и внутренне в неприкаянного бродягу: всего-то пару ночей без еды и надежного крова. Глаза гаснут, волосы сваливаются и повисают, как пакля, голос дрожит, руки трясутся… А если помыться нет возможности, то и запах идет… Она, правда, быстренько ополаскивалась у соседей просто по привычке к чистоплотности и на тот случай, если муж все-таки пустит ее к Славику, чтоб мальчик не испугался ее запаха.
Очень Зоя надеялась на День знаний. И поначалу казалось, что надежды ее оправдаются. Муж из-за двери объявил, что позволит ей сопровождать их с сыном в школу, но только на расстоянии. Зоя поклялась. Пусть на расстоянии. Все-таки это уже было какое-то послабление. Правда, Боречка потребовал, чтобы ее родители не вздумали приходить на торжественную линейку, иначе…
Пришлось позвонить родителям и взмолиться, чтобы они не приезжали в школу к единственному внуку-первокласснику. Она врала, что детей сразу разведут по классам, что никакой линейки перед школой не будет, что опасаются нового вируса, поэтому торжества свернули… Выкрутилась как-то.
Утром первого сентябрьского дня торчала у коврика перед квартирой, как побитая собачонка.
Наконец дверь приоткрылась. Зоя увидела сына в форме, с новеньким ранцем. Ребенок выглядел осунувшимся, бледным, под глазами синева. Чем отец кормил его все эти дни? Борис же прежде никогда не готовил. Даже яичницу сделать не умел.
– Славочка, – прошептала мама, словно боясь спугнуть чудесное виденье.
– Посмотрела? – жестко спросил отец. – Ну и все. Отдыхай теперь. В школу он не пойдет. Я передумал.
– Как же так? Ведь праздник же… – безвольно вымолвила несчастная Зоя.
– Вот себе и скажи большое человеческое спасибо, что навсегда лишила сына такого праздника, – холодно отчеканил Борис.
Да, первый раз в первый класс Славочка пошел не первого, а третьего сентября, когда отец все же сменил гнев на милость, даровав матери прощение, правда, твердо пообещав, что следующий прокол станет для Зои последним.
– Не было больше проколов, – смеясь, подытожила свекровь, гордо глядя на своих гостей. – Научил тогда на всю оставшуюся жизнь, да, Боречка?
Боречка, переживший полгода назад инсульт, но уже умеющий говорить, кивнул. Он, похоже, не совсем понял, о ком в рассказе жены шла речь, но на слово «да» реагировал кивком, то есть вполне адекватно.
Мать сейчас стала полноправной хозяйкой положения. Все ее страхи остались в далеком, безвозвратно ушедшем прошлом.
Да, есть о чем вспомнить, над чем посмеяться. Пусть другие поучатся!
Ростислав тогда, во время материнского повествования, внимательно вглядывался в лицо Саны: поняла ли она, в чем заключается настоящая женская любовь, настоящий женский героизм?
Вот его мать прочувствовала характер мужа, учла все тонкости обращения с ним. И пожинает сейчас плоды своих неимоверных усилий, своего фантастического терпения.
У них по-прежнему крепкая надежная семья, Зоя теперь в ней самая главная. Сын успешный. Отец, подающий надежды на полное выздоровление.
Ведь можно же приспособиться? Можно учесть? Мать же смогла!
Правда, на мать у отца рычагов воздействия было поболе… Тут даже сравнивать нельзя. Мать от бати зависела надежно, крепко. Хоть и образование у них высшее – из одного института вышли, – но квартира, дача, машина были батянины… Другой общественный круг… Он, Славик, сыночек единственный, опять же… Все держало. И характер у матери другой. Более покладистый, что ли. Хотя… Не всегда. Упрямая она. Но отцу подчинялась. Старалась изо всех сил подладиться. Чего еще желать?
Ростислав поначалу, приглядываясь к красивой девчонке, к которой его жутко тянуло, составил о ней несколько иное мнение. По чисто внешним показателям.
Из многодетной семьи – это первый плюс.
Старшая сестра. Ну, не самая старшая, но вторая по старшинству. И три младших брата, о которых с детства всерьез заботилась. Баловать их с сестрой не баловали. Это серьезный и твердый плюс номер два!
Плюс третий: негуляющая и негулящая. Работающая всерьез и надолго, прекрасно понимающая, что такое долг и обязанности.
Плюс четвертый, вытекающий из предыдущих: некапризная и невздорная совершенно, хоть и цену себе понимает.
Пятый плюс, он же и возможный минус: красивая до невозможности, до того, что дыхание у Славы перехватывало в первый момент, как встречался с ней. Каждый раз замирал и не верил глазам своим. Жаль только, что засматривался на девушку не он один. Далеко не он один. Ему не встречался ни один человек, который, мельком взглянув на Сабину Мухину, не начинал пялиться на нее во все глаза.
И, переходя к безоговорочным минусам, как ни странно, как ни удивительно было признать ему самому, первым он назвал бы ее финансовую независимость и известность. Она в ее юные годы была уже знаменитым дизайнером, надеждой, как не раз отмечали в прессе, отечественной моды. Семейству ее принадлежал популярный модный магазин. И не только…
Ее самостоятельность казалась ему чем-то угрожающим для их возможного совместного будущего. Он чувствовал, что из-за того, что Сабина твердо стоит на ногах, в его руках не оказывается никаких рычагов воздействия в том случае, если возникнут у нее мысли о расставании.
К тому же смущали Славика и слишком крепкие тылы красавицы: огромная дружная семья – старшая на год сестра Регина с мужем Петром, три брата и его же однокурсник Денис Давыдов, женившийся на матери Мухиных и опекавший братьев и сестер с отцовским рвением, несмотря на собственную молодость.
Как в этой ситуации стать полновластным главой семьи?
Как сделать, чтобы жена слушалась и повиновалась?
А ведь именно так представлял себе устройство своей будущей семьи Ростислав. Он глава. Он решает. А женщина подчиняется его воле. Прекрасная, нежная, беспомощная, верная и покорная. Вот его идеал.
И все-таки чувства и неотвязное, необоримое притяжение сделали свое дело: не сумел он отказаться от стремления взять в жены такое редкостное чудо, каким ему казалась Сабина Мухина.
Ладно – по ходу пьесы разберемся, кто в доме хозяин. Славик-то точно знал, что он и только он.
Сабинка же, похоже, ни о чем таком не задумывалась. Трудилась, рвалась на части, вызывая его невольное уважение, и явно, открыто, радостно принимала знаки его внимания.
Наконец он сообщил о своем намерении родителям.
– Хороша, – одобрил отец, тогда еще полный сил патриарх их небольшого семейства. – И на шее у тебя сидеть не будет. Ты только сразу все по полочкам разложи, ей легче будет приспособиться.
– Да вроде скромная, неиспорченная, – присоединилась к мнению супруга мама. – Только… знаешь, как в народе говорят… Красивая жена – чужая жена.
Мать знала, на какую болевую точку надавить.
У Славика аж сердце зашлось, как только он представил Сабинку в объятиях другого.
– Ну, это не всегда, – хмыкнул отец. – Это у слабаков… Дети от вас пойдут хорошие, здоровые. А насчет гулянок с другими… Была она замечена в этом?
– Да не до того ей, – постарался рассуждать справедливо жених. – Она в своих проектах погрязла, крутится как заведенная.
– Ну а как родит, вообще не до того станет, – заключил глава семьи. – Да и ты на что? По сторонам глядеть не позволишь!
Слава видел, что его девушка отцу по-настоящему понравилась. А кому бы не понравилась?
Вопрос можно было считать решенным, несмотря на материнские опасения и предупреждения.
И правда – он-то на что? Объяснит сам что хорошо, а что плохо в случае чего.
Он, похоже, сам себя знал не особо досконально. Не представлял, какие волны ревности станут на него накатывать теперь по любому поводу.
Если на каком-то светском мероприятии, где Сабина должна была присутствовать как известная персона, к ним подскакивали фоторепортеры, Ростислав с трудом сдерживался, чтоб не вырвать у этих шакалов их камеры, не растоптать их в пыль, не плюнуть их обладателям в их наглые любопытные бесстыжие рожи.
До поры до времени утешало его то, что Сабина явно тяготилась вниманием представителей прессы и особо веселой во время фотографирования не выглядела. Он порой ощущал, что она даже пугалась, зажималась, когда начинались вокруг вспышки. Несколько раз непроизвольно пыталась спрятаться за его спину, как несчастный ребенок, попавший во враждебную среду.
Тогда он ее жалел. Чувствовал себя нужным, необходимым, незаменимым защитником. Это придавало огромную уверенность. К тому же она сама не раз говорила, что только с ним ощущает себя в безопасности. Для мужчины это высшая похвала.
Но имелись и другие раздражающие моменты, которые не давали покоя и чувства стабильности.
Например, ее деловые разговоры по телефону в самые неподходящие моменты. У него тоже шли дела, да еще какие. Ей и не снилось! Но если они отправлялись вместе поужинать, Слава отключал звук у мобильника и только краем глаза смотрел, кто там его вызванивает. Сабина же откликалась на любой вызов, объясняя свои действия тем, что все держится исключительно на ней, положиться по-настоящему она может только на своих родных, а наемные работники в любой момент могут подвести, напортачить.
Ну да… ну да…
Однако ему хотелось, требовалось, чтобы принадлежала эта девушка только ему. И никому другому.
Родные – чужие, работа – отдых… Он хотел, чтобы все они катились к такой-то матери и оставили его навсегда единственным законным спутником любимой им женщины.
Он и детей поначалу не желал. Мечтал жениться, установить свои семейные порядки и долго-долго жить с женой вдвоем, непрестанно убеждаясь, что она принадлежит только ему. Его девочка. Его нежная красавица. Его лань.
Он изучил ее привычки, он баловал ее подарками, наслаждаясь при виде ее радости и изумления. Он посылал ей цветы. Из любой точки земного шара, куда приходилось летать по делам, ежедневно заказывал спецдоставку цветов. И каждое утро в любое время года получала его невеста корзину свежих роз, ирисов, лилий с приложенной к цветам запиской, в которой изливались на нее слова его любви.
– Какая же я счастливая! Не может быть! Неужели ты есть у меня? Неужели это все не сон? – спрашивала его любимая, когда они встречались после коротких разлук.
Он ей тогда верил. Верил и в ее любовь, и в искренность, и в надежность ее, верность.
Казалось бы, есть все основания для счастья. Живи и радуйся. Но радоваться не получалось. Что же мешало?
О! Мешало все!
Слава это отчетливо понял на свадьбе.
Как глаза внезапно открылись.
Увидел полное собрание ее родственников, весь выводок Мухиных – Давыдовых плюс деды с бабками, сгрудившихся вокруг его законной жены, обязанной отныне принадлежать и помыслами, и душой, и телом только ему, и сердце екнуло: сумеет ли он одолеть всю эту ораву, сумеет ли установить свое господство?
Ростислав отмечал каждую деталь, ревностно и мелочно: и как Сабина нежно гладила своих верзил-братьев по головам, ворковала с ними, вся светясь особой любовью, и как самозабвенно обнималась со старшей сестрой, похожей на нее, как две капли воды, и как бережно заботилась о матери, деде и бабке, хотя у мамочки, прилетевшей из Швейцарии с молодым муженьком, был свой защитник, вполне способный и стул ей подставить, и угощение передать, и разговором занять.
Бесили Славика и нечеловеческие, идиотские имена, которыми члены его новой семьи величали друг друга. Ну, что это такое? Какой идиот выдумал? Рыся, Птича, Ор, Дай, Пик…
Это что за игры? Детство кончилось. Все взрослые люди, а между собой как члены преступной группировки, кличками общаются. Рысенька, Орик, Птичуша… Тьфу!
– Семейство не обидится, если я к вам по именам буду обращаться? – задал он важный для себя вопрос, которому никто, кроме него, и значения-то не предал.
– Конечно-конечно, как тебе удобно, дорогой! – послышалось со всех сторон. – Это в нас наше детство играет…
– Сабиночка теперь взрослая, замужняя дама, – поддержала новоиспеченного супруга его мать. – У нее такое прекрасное имя…
Слава знал, что его жена не любит свое имя, не привыкла к нему, считая его чужим. Птича – это да. Это – ее. А Сабина – для посторонних. Для внешнего мира. Ему же хотелось, чтобы внешним миром стали для нее все. Даже те, кто пока еще дорог. А единственным родным, незаменимым, как воздух, был бы он, ее муж, ее мужчина.
Он дал ей имя Сана.
Она привыкла. Имя очень быстро к ней прилепилось, будто всегда так и было.
И только родственнички жены продолжали упрямиться. Не получалось у них, видите ли, менять свои идиотские привычки.
Но он сдаваться не собирался, уверенный, что, если проводить свою линию четко и неуклонно, все в результате получится так, как задумал.
Слава стал применять к Мухиным их же оружие: давал им новые кликухи. Только наедине с Саной. Она отличалась чуткой реакцией на слова, это он заметил. Этим и воспользовался. Ирония – штука сильнодействующая, как медленный яд. Вот Ростислав и старался – вытравливал своими шутками прежние дурные привычки жены.
Хотите кличек? Пожалуйста!
Петр, муж старшенькой Мухиной, стал называться Саврасовым. Ну, был такой художник. И что тут, казалось бы, такого? Однако роль играла интонация, с которой это произносилось. Сразу становилось понятно, что никакой Петр не Саврасов, а так – жалкий мазилка.
Вместо имени любимой сестры, Рысеньки, Слава произносил, словно оговариваясь каждый раз, Рыга… И лицо делал такое, словно стошнит его сейчас. И вроде не придерешься: оговаривается человек, и все тут. Такие у него ассоциации.
Маму Лялю он упорно именовал Примадонна. Вроде даже с почтением, торжественно. Но Сане почему-то делалось тоскливо и больно, хотелось закрыться, спрятаться. Она ощущала, что за этим шутливым именем кроется опять же иронический подтекст: разница в возрасте мамы и ее мужа, как у известных звезд отечественной эстрады.
И как будто ничего плохого и обидного… Кому-то даже лестным могло показаться. Но – задевало за живое, болезненно и глубоко.
Вообще-то, Сана до поры до времени легко шла на уступки.
Довольно быстро в присутствии мужа она перестала упоминать свою родню. А если уж приходилось это делать, то называла всех по именам. Тогда и Слава перешел на имена, давая понять, что так-то лучше.
Он ее любил!
Даже себе самому страшно было признаваться, насколько сильно он ее любил! Но почему-то эта любовь не радостью, а болью отзывалась в его сердце. Болью и страхом потери.
А чего он боялся? Мог ли он объяснить? Нет.
Все поведение жены, все поступки говорили о том, что нет оснований для ревности, подозрений, тревог. Он мог не сомневаться в ее верности, надежности, привязанности к нему.
К тому же – удивительное и невероятное: он был ее первым мужчиной! Это переполняло его нежностью и гордостью. И – почему-то – сожалением и страхом перед будущим. Иногда он говорил себе: да, до меня она была девицей, чувства ее только дремали. А сейчас – когда я сделал ее женщиной – что ей помешает найти кого-то на стороне? Теперь ведь не проверишь, появился у нее кто-то или пока нет…
А он знал, какой открыто-жаждущей бывает она в минуты их любовных объятий. Конечно, все понятно: он ее муж, они и должны доставлять друг другу радость и наслаждение. А если ей теперь захочется большего?
Глупые страхи – убеждал он сам себя. И все равно боялся. И, как мог, старался противодействовать.
Сана же, выйдя замуж, доверилась Славе полностью. Она, вообще-то, казалась простодушной и прямодушной. Откровенничала, подлаживалась, почти не обижалась ни на что. Легко с ней было ладить.
Но чем легче, казалось, с ней ладить, тем сильнее хотелось ему давить на нее, завоевывая все новые и новые рубежи.
Первая серьезная ссора возникла примерно через полгода после свадьбы.
Сана долго продержалась, надо отметить.
Не замечала его придирок.
Может, слишком занята была своим творчеством, а к мужу припадала, как истомленные жаждой путники приникают к живительному источнику, не обращая внимания на колючки, камни и жалящих насекомых вокруг. Но он не рассчитал силу удара или – боль от укуса, смотря как смотреть на истоки тех давних событий.
Ну, в общем, Сана расслабилась, доверилась мужу полностью, как совсем своему. Нет, даже не так. Как самой себе. Она рассказывала мужу обо всем. Он предложил не иметь друг от друга никаких тайн. Она радостно согласилась. Он сообщил ей свой пароль от электронной почты. Она, естественно, выложила ему все свои пароли – и от делового, и от личного ящика. Наверное, Сана даже не догадывалась: Слава детально и внимательно каждый день прочитывал всю ее переписку. Ничего стоящего. Но он читал и читал. Вдумчиво и прилежно.
Они о многом болтали, обнявшись. Он слушал с неослабевающим интересом. Все ее рассказы о детстве, об их придумках, сказках. Убежище… Так, незаметно для себя самой, Сана все выболтала про отца, про его пагубное пристрастие в выпивке, про их детские страхи и беды.
Муж жалел, ласкал, сочувствовал.
Ей нравилось делиться с ним самым сокровенным. Он старался ее утешить как мог. И часто очередная ее печальная повесть заканчивалась поцелуями, нежными словами, прикосновениями, которые никогда не становились привычными, а, напротив, вели к вспышке чувств и жажде близости. Все плохое, прошедшее давным-давно, забывалось, стиралось из памяти, когда муж согревал Сану своим теплом.
Та, первая ссора, получилась так.
Славик вернулся с работы домой чуть раньше обычного, услышал смех и радостный голос жены. Она возбужденно читала какие-то стихи. Мухины знали невероятное количество стихов – он всегда поражался этому. И все читали, читали… Отыскивали что-то новое, делились друг с другом впечатлениями… Вдохновлялись.
Славик неслышно прошел и остановился у дверей гостиной.
На диване с ногами сидела старшенькая, Региночка, к ней привалился их любимый младшенький брательник Пик, творческая личность, если можно так выразиться. Парочка во все глаза смотрела на Сану, стоявшую напротив них, как на сцене.
– Птич, Птича, прочти-ка последнее еще раз, – попросил Пик.
И Сана, прекрасная в своей радости и удовольствии от общения с любимыми родственниками (как же кольнуло его, что она так непривычно прекрасна – не с ним и не для него!), продекламировала:
Ведите меня с завязанными глазами…[1 - Даниил Хармс. Из «Голубой тетради» № 12.]
Как же резануло Славину душу услышанное!
И это неисправимое «Птича», и стихи, которые его жена выкрикивала в неведомом ему прежде упоении. Ему показалось, что слова стиха целиком направлены против него.
Он не знал автора, да и не желал его знать. Главное, сейчас ощущалось: она явно чувствует себя несвободной, она хочет вырваться, разорвать путы, раз с таким упоением произносит ненавистные ему слова… Ишь ты!
Да кто бы ни был неведомый Пушкин, придумавший всю эту галиматью, а желание-то хорошенько запомнить и вслух произнести появилось не у кого-нибудь, а у Славиной жены!
И как это понимать?
Он с трудом заставил себя поздороваться с радостно приветствовавшими его «родственничками», чувствовавшими себя как дома в его квартире, пока его не было. Однако с появлением хозяина гости по-быстрому распрощались, давая понять, что видят его усталость и не хотят мешать.
– Я спектакль готовлю, – пояснил, прощаясь, «гениальный братик». – А Птича мне очень помогает.
Интересно – он тупой и специально зовет такой кликухой взрослую замужнюю женщину? Неужели не до всех дошло, что у его жены есть человеческое имя?
Впрочем, с родней жены он связываться не хотел. Наверное, инстинктивно ощущал, что за ними, если вступить в явное противодействие, стоит пока слишком большая сила.
Сана, радостная, довольная, что проведет вечер с мужем, быстро накрыла на стол, вынула из духовки его любимую утку с яблоками (когда только успела?) и уселась напротив – любоваться тем, как ему вкусно.
Он ел, понемногу приходил в себя, успокаивался. А она беззаботно рассказывала про новый замысел брата, про планы сестры, про то, какой отличный сюрприз, что он пришел пораньше, а они и не заметили, так увлеклись…
– Не хотел вам мешать, стоял, тобой любовался, – сказал Славик.
И неожиданно для себя добавил:
– И на твоих, знаешь, посмотрел со стороны. Представь: они сидели с выражениями лиц детей алкоголиков. Все-таки надо же – как это в генах-то отпечатывается!
Любая откровенность наказуема.
Тогда, именно после этой фразы своего благоверного, Сана поняла, что это значит. До нее дошло, что вечные истины касаются всех. В том числе и ее, влюбленную в своего мужа и доверяющую ему во всем и всегда. Во всяком случае, прежде слепо доверявшую.
Она дернулась, как от удара. Это и был удар. Очень сильный удар по самому больному. Запрещенный прием.
Лицо ее пошло красными пятнами. И, как в детстве, стараясь защититься от страшного, побежала она к двери, чтобы уйти и опомниться на улице, среди чужих, которым на нее наплевать и которые не обидят.
Он даже не сразу сообразил, что она собирается делать.
Неужели уходит?
Вышел в коридор. Сердце его стучало в ушах так, что ничего больше слышать не получалось.
Она уже стояла за входной дверью, обувалась прямо на лестничной клетке, опершись рукой о притолоку.
Бешенство охватило его. Слепая ярость. Он подскочил и с силой хлопнул дверью. Прямо по пальцам жены.
Гнев так ослепил его, что он не сразу понял, почему она рухнула как подкошенная. А сообразив, испугался смертельно. Мгновенно пришел в себя. Опомнился.
Три пальца на руке Саны оказались сломанными его железным хлопком. Открытый перелом. Как прутики – кто бы мог подумать, что такое получится от одного его резкого необдуманного движения!
Слава немедленно вызвал «Скорую». Объяснил, что случайно, что не видел, как она держится за притолоку рукой, думал, ушла уже, хотел закрыть… И вот…
Сану привели в чувство. Болевой шок сказался странным образом. Она первый день после травмы не могла почему-то говорить. Просто молчала, и все тут.
Муж просил прощения со слезами на глазах. Искренне каялся.
Случайность. Нелепая случайность. Он должен был глянуть, удостовериться… Он не подумал.
Сана кивала, давала понять глазами, что понимает его слова. Но молчала.
Он запаниковал. На волне паники позвонил ее сестрице, рассказал «всю правду», мол, не видел ее руки и так далее. Регина примчалась. Взялась ухаживать, ворковать:
– Птиченька, Птиченька… Что тебе принести? Хочешь, я пирожок испеку? Где болит?
Славику было все равно, как обращается эта чужая, неприятная ему женщина к его жене. Лишь бы все стало как раньше. Лишь бы Сана говорила, улыбалась, любила его. Он отлично понял, что переступил некую границу, которую нельзя нарушать даже самым близким и любящим. Он вспомнил свой гнев, и ему сделалось жутко. Правда, Ростислав сумел быстро объяснить себе, что его до этого довели Мухины своим пренебрежением к его правам мужа и хозяина дома.
Он думал, как вернуть все, и придумал.
Купил жене браслет от Картье, весь в бриллиантах. Что-то дорогущее, не выбирая, взял и для Регины. Чтоб Сана увидела и поняла: он раскаивается и хочет семейного мира. Ну, и цветы, цветы… И слова нежности, заботы…
Отошла.
Регина подарку крайне удивилась. Не хотела брать – зачем?
– Возьми, Рысенька, – попросила Сана.
И это были первые ее слова.
Какое счастье! Она заговорила!
– Возьми, пожалуйста, видишь, ее это радует, – искренне взмолился Славик.
Рыся потом скажет сестре, что именно с этого момента, с этого подарка и поняла, что ужасное происшествие со сломанными пальчиками случайным не было, что Ростислав таким образом покупает себе прощение. Ей был отвратителен этот дар, эта бездушная случайная никчемная вещица. И ее пугало возникшее подозрение…
Но ради Птичи пришлось смириться. И убедить себя, что все ей только кажется.
Однако случившееся имело свои положительные стороны. Мухинская родня к ним в дом больше с тех пор не заявлялась. Конечно, отношения между ними и Саной не прекратились, о таком он и не мечтал, но хотелось думать, что видеться они стали намного реже. Во всяком случае, Сана никогда не рассказывала ему о сестре и братьях, о том, как дела у мамы в Швейцарии. И навещать семью матери летала без него. Просто сообщала: «Я взяла билет в Цюрих, вернусь тогда-то».
Правда, в остальном все было замечательно. Сана его любила. Он ей по-прежнему верил. Чувствовал, что любит.
Ревновать Ростислав все равно не перестал. Ревность – жестокая спутница. Если в кого вцепится своими когтями, отодрать не получается. Но, похоже, после того страшного случая ревность наелась боли и слез и на какое-то время уснула, довольная.
Славику казалось, что он совсем исцелился от подозрений, мучений, тревоги и беспричинного страха.
Бедные пальчики жены заживали долго.
Он ее жалел и берег.
Обеспечил ей личную машину с шофером – куда ей за руль с загипсованной рукой?
Повез свою девочку в Португалию, на океан. Заехали в Лиссабон, Лишбоа… Ходили по ресторанчикам, слушали местные романсы – фадо, плакали, обнявшись над песнями о любви, хоть слов не понимали…
Красные обрывистые берега океана, огромные цветущие кактусы, виноградное вино, почему-то называвшееся здесь зеленым, дарившее легкость и радость… Они принадлежали друг другу, все плохое унес океанский ветер.
Унес и развеял, и следа не оставил… Так хотелось думать.
Вернулись в Москву, ее ждал показ новой коллекции на Неделе моды, его – покупка очередного завода за бесценок с целью дальнейшей перепродажи за миллионы…
Ее коллекцию признали тогда лучшей. Сана выходила на поклон с загипсованной рукой, пряча ее за спиной. Поза эта показалась некоторым строгим ценителям проявлением надменности модельера. Любят у нас судить о чем не знают. Молодая и слишком уж успешная красотка, да еще с явно супер-мега крутым мужем… Вышла, поклонилась и убежала, даже рукой не взмахнув для приветствия. Кто ж за такое не ухватится!
Ну, потявкали и заткнулись. Все шло своим чередом. И вполне неплохо шло!
Потом Славик решил, что пора рожать. Нагулялись.
Он опасался, что ревность проснется, и спешил задобрить ее ненасытную пасть ожиданием наследника.
Пусть жена рожает хоть каждый год – все условия созданы. А коллекции разрабатывать можно и с пузом. И если будут дети, никуда она от него не денется.
К тому же мама активно его поторапливала, внуков мечтала наконец-то понянчить.
Он прекратил предохраняться без предупреждения. Ему вполне достаточно было собственного решения. Тем более – что может им помешать? Когда женились, вместе планировали детей. И побольше…
Сана, полностью доверявшая мужу, даже не поняла сначала, что он намеренно, не спросив ее согласия, приступил к осуществлению своих планов по созданию полноценной семьи. Она поначалу жутко испугалась, решив, что средство защиты оказалось ненадежным, заметалась, собралась бежать в душ.
– Лежи, – силой удержал ее Славик. – Я тебе ребеночка сейчас сделал. Пора. Нагулялись.
Жена порывалась встать, но он был сильнее. Гораздо сильнее. Она лежала под ним и впервые за их совместную жизнь кричала, показывала свое возмущение:
– Какое ты имел право! Почему ты меня не спросил? Я тебе кто? Инкубатор? А ну пусти!
– Ты моя жена. И ты сама говорила, что хочешь детей. И я хочу. Я решил – пора. И ребенок будет! – наваливался на нее всей тяжестью муж, почему-то снова ощутивший приступ небывалого, яростного и беспощадного желания.
– Что ты делаешь, пусти! – рвалась Сана.
Но он не слушал ее криков. Вернее, слышал, но не вникал, о чем это она. Он хотел в тот момент женщину. И брал ее, свою собственную законную жену. И если только что ей было невероятно приятно и она растворялась в собственном блаженстве, почему это через пару минут должно стать нельзя, противно? Послушай, что говорит женщина, и сделай наоборот… Так любил повторять отец. Вот Славик и делал, не обращая никакого внимания на протесты, рыдания, всхлипы…
Долго в тот раз получилось. Правильно – второй же заход. И практически тут же после первого.
Славику было чем гордиться. Не охотничья байка, а настоящее реальное собственное достижение, причем без всяких специальных ухищрений. Ему очень понравилось, невероятно, так никогда еще не было. Он просто не думал, что под ним жена, женщина… Вообще об этом забыл. Он испытывал собственное небывалое наслаждение. Каждое движение приводило его в восторг. Он словно разбегался, продирался, преодолевал сопротивление и взлетал… Снова и снова…
– Не уйдешь… Не уйдешь, – стонал он, упиваясь своей полной и безраздельной властью и тем, что наконец-то понял, как ему надо, в чем соль и особое неизъяснимое удовольствие от всего того, что принято называть занятиями любовью.
Он понял, что ему нужно преодолевать сопротивление, подчинять, не идти на поводу, а делать именно по-своему, вопреки тому, что хочет та, что под ним. И ему даже нравится, что ей сейчас не хочется. Он доволен, что она отказывается – пусть. Все равно он сделает по-своему, так, как нужно ему.
И сделал.
Она вообще перестала подавать признаки жизни. Как кукла тряпичная. Ну и пусть. Зато ребенок получится наверняка.
– Ох, как же хорошо было! – выдохнул Слава, заботливо накинул на жену одеяло и обессиленный вконец своим подвигом провалился в сон.
Под утро проснулся – от Саны шел жар. Она горела. Не спала и не бодрствовала, находилась в неведомом ему прежде состоянии забытья. Он сунул ей градусник под мышку, вытащил чуть ли не сразу – сорок!!!
Вызвал «Скорую». Врач послушал: в легких чисто. Решил, что вирус какой-то. Сейчас какие только вирусы в людей не вцепляются. Сделали укол жаропонижающего. Дождались, пока температура и упала до тридцати восьми.
– Как вам? Полегче? – участливо спросил доктор.
– Спасибо, да, – шепнула больная.
Слеза катилась из ее глаза. От горячки? От плохого самочувствия?
– Вы понервничали вчера?
– Да. У меня бывает. Вдруг…
Славик не знал, что у нее так бывает. За все время, что они вместе, температура у жены поднималась лишь однажды, когда все вокруг грипповали. И не страшная, как сегодня, а вполне нормальная для недомогающего человека – тридцать семь и восемь.
Доктор велел сдать анализы, проверить почки. Да, конечно…
Все сделали и ничего не нашли. Никаких отклонений и воспалений. А температура держалась больше недели.
Так сгорало в Сане ее страдание. Ужас выходил вместе с жаром, потом, горячечным бредом.
Больше Ростислав себе подобных удовольствий не разрешал. И, кстати, старания той ночи прошли впустую: никакого ребенка не получилось, как не получалось потом годами.
Так они и жили.
Он ее любил.
Точно любил.
Наверняка.
Временами происходили всплески: сказывался отцовский характер. Требовал, чтобы все шло по его велению. Славе казалось, что жена это понимает и принимает. В остальном-то все у них просто великолепно. Другим на зависть. С детьми вот слишком надолго затянулось. Но врачи убеждали, что все в порядке, что все будет.
Вопрос времени, понимаешь…
Он любил размеренный распорядок, четкие правила жизни.
И прекрасно она усвоила эти правила: быть дома, когда он возвращается из поездок. Поменьше общаться с родными. Гнать куда подальше всех этих ее приблудных красавиц-моделей, вечно набивавшихся в подруги…
Но сегодня он вернулся, а ее нет.
Правда, вернулся он раньше обещанного. Ростислав частенько называл Сане дату возвращения на день-два позже. Просто для проверки, чтоб лишний раз убедиться в ее верности и любви к порядку.
Перед отъездом у них вышла размолвка. Какая-то дрянь ей позвонила. Что-то там наплела про срочную необходимость. А он велел остаться и проводить его. Она все равно собралась бежать, спасать свою подругу-лохушку. И он пообещал этого так не оставить…
В общем, вспылил… И потом несколько дней не звонил, чтоб знала. Чтоб понимала: его слово – закон.
Он нередко воспитывал жену молчанием. Чтоб ощущала она дискомфорт как последствие своих же действий.
Она обычно в таких случаях сама заговаривала. А он решал, хватит ли ему выдерживать характер или можно простить.
В этот раз он, как обычно, ждал звонка от нее и не дождался. Набрал ее сам.
«Вне зоны доступа»…
И так – несколько дней подряд. Рехнуться можно. И никто не знает, где она.
В офисе: «У нее же отпуск».
Родственничкам ее драгоценным он звонить не стал принципиально.
И вот теперь – один в их семейном гнезде.
Ну, где ее искать?
С чего начать?
Сто штук блинов
Сана открыла глаза.
Выспалась!
Вот чудо-то! Она по-настоящему полноценно выспалась.
Викуся все еще спала рядом в позе «руки вверх» и во сне шевелила пальчиками. Чуть-чуть. Надо ей ноготки подстричь, вот что. А то каких-то ниток набрала…
«Вечером, как искупаю, подстригу», – пообещала себе Сана.
Она осторожненько встала, чтоб не нарушить сон младенца, потянулась, глянула в окно. Сколько же они спали? Который час?
Одиннадцать! Вот это да! Викуся сжалилась и дала отдохнуть сверх меры.
Надо скорее ей еду приготовить. Проснется, а бутылочка тепленькая уже здесь. И требовать не придется.
Сана обложила спящую кроху подушками – хорошо, что та еще не умеет переворачиваться на пузо. Можно особо не тревожиться.
Расслабленно, не торопясь отправилась в ванную, глянула на себя в зеркало и впервые за долгое время понравилась самой себе. Несмотря на заспанный вид, на растрепавшуюся во время сна косу… Она увидела себя прежнюю, далекую девочку из прошлого, полную надежд, ожиданий, неясных предчувствий. И девочка улыбалась ей сквозь паутинку времени, словно уверенно обещала что-то, нежно подбадривала…
Сана улыбнулась себе, решительно встала под холодный душ, хорошенько растерлась, причесалась, заплела косу потуже, закрепив ее черной аптечной резинкой, как обычно делала в школьные годы.
Как хорошо!
И сейчас хорошо, и будет просто замечательно. Спящая красавица проснулась!
Так полушутливо подумала она о себе. И касалось это не недавнего пробуждения, а всей ее прежней жизни.
Не больше и не меньше.
Она достала из бабушкиного шкафа свой сарафанчик времен выпускного класса (он оказался даже ощутимо великоват), повертелась перед зеркалом. Предчувствие счастья усилилось. Время сегодня повернулось вспять. Говорят, так не бывает? Врут, похоже.
Вот стоит перед зеркалом счастливая девочка, которую родные называют Птича, решительно и радостно настроенная. Ей остается всего шаг. Переступишь порог – и окажешься в новой жизни. В семнадцать лет этого ждешь с нетерпением. Она давно забыла это ощущение. Или запретила самой себе чувствовать что-то подобное? И вот все вернулось.
Да будет так!
Птича быстро перемыла всю оставшуюся с вечера посуду в раковине, нагрела воду, размешала еду для Викуси. Та все еще спит, умница такая! Можно и себе что-то сварганить. Надо хоть чуть-чуть весу набрать. Хоть килограмма три, что ли. А то уж совсем неприлично. Одни кости остались. Как кто-то сказал ей недавно, «без слез не взглянешь».
Она нашла в шкафу пакет с блинной мукой. Вот! То, что нужно для вполне счастливого позднего утра, неумолимо переползающего в добрый день…
Блины пеклись исправно, они всегда у нее выходили на славу. Странным казалось готовить завтрак только для себя. Это ни у кого из Мухиных никогда не получалось: привыкли к большому семейству.
Вскоре на тарелке громоздилась целая гора блинов, как на Масленицу. И кому все это? Тут и пятерым много покажется. Хоть бы пришел кто-то!
В юности Птича не раз замечала: стоит чего-то сильно захотеть, и оно происходит. Как по заказу.
И сейчас – как давным-давно – она глянула в окно, выходящее на калитку, и сразу поняла: желание ее исполнилось, гости будут. Вернее, один гость. Но какой! Прожорливый! Точнее, никогда не страдавший отсутствием аппетита. И даже если он уже сытно позавтракал (что наверняка), десяток блинов она ему скормит запросто.
У калитки нерешительно стоял друг их счастливого дачного детства Генка, одетый, как и полагалось потомственному дачнику, в нечто вопиюще несусветное. Его так и хотелось запечатлеть навечно во всей первозданной красе: торчащие в разные стороны волосы, щетина, майка неопределенного цвета (от рождения наверняка белая, но когда это было…). Далее: то ли семейные трусы, то ли шорты. Лучше думать, что шорты, иначе совсем ах. И – валенки с галошами. Ноги тощие торчат из зимней обувки, как палки. Хотя… Птича вспомнила давнюю шутку про зимние и летние валенки. Может, у Генки это как раз летние валенки, а она тут…
– Напишу его портрет. Вот прямо сегодня начну, – велела себе художница. – Главное, чтоб он не сопротивлялся… Попозировал хоть часок… Ну, если нет, я и так… По памяти. Надо приглядеться. В лицо всмотреться, не виделись все же давно…
– Мухина! Ты тут, Мухина? – раздался сиплый крик со стороны калитки.
Сана испугалась, что Геныч своими воплями разбудит мирно спящее дитя, и, распахнув окно кухни, велела:
– Заходи давай! Тут я.
Генка лениво, шаркая своими бредовыми галошами, поплелся к крылечку.
Она вышла ему навстречу.
– Ну ты и смотришься! – испуганно-восхищенно произнесла хозяйка.
– Ох, Мухина, не сыпь мне соль на раны… Бухал я вчера… Отдыхаю, как могу, понимаешь… Прими как есть…
Друг детства без зазрения совести обнял Птичу, притянул к себе.
Она отстранилась и почему-то засмеялась.
– Ты, Геныч, перед романтическим свиданием хоть бы… помылся, что ли…
– Не нравлюсь? По-моему, вполне… Для дачи… Посконно-сермяжно… Как символ вечной отечественной мужественности. Не нравлюсь, значит…
– Нравишься, – честно ответила Мухина…
Конечно, нравится. И сейчас. Даже вот такой жутко похмельный и немытый. И прежде нравился. И будет нравиться. Всю оставшуюся жизнь. Детство ведь не исчезает. Живет в каждом человеке и определяет весь его дальнейший путь.
В их дачном поселке давным-давно соорудили общую детскую площадку на небольшом пятачке поблизости от поселкового магазинчика, куда, так или иначе, сходились все дачники, кто за спичками, кто за солью, кто за крупой или рыбными консервами. Иногда вдруг привозили деревенский творог и молоко. Бывало, даже выкладывали самое заветное: голубовато-розовую вареную колбасу, которую покупали, оправдываясь друг перед другом тем, что на свежем воздухе жутко разыгрывается аппетит.
Время от времени в прессе появлялись страшные разоблачительные статьи, с упоением повествующие о том, из чего на самом деле производят колбасу «Докторскую».
Варианты, очевидно, варьировались в зависимости от степени буйности фантазии автора и его же настроения в момент написания газетного материала.
Доброе состояние авторского духа – и ничего, в колбасу добавлялась всего лишь туалетная бумага. Новая, чистая, неиспользованная, кстати. Ну, просто для веса и объема подмешивали в колбасный фарш именно ее почему-то.
Вообще-то, бумага для санитарно-гигиенических нужд населения считалась продуктом дефицитным. Когда ее «выбрасывали» на продажу, образовывались могучие очереди. Покупали столько, сколько отпускали «в одни руки». Нанизывали драгоценную добычу на веревку, надевали эти «бусы» на шею и гордо шли по домам, нисколько не стесняясь своего шизофренически-дикого имиджа, а напротив, торжествующе указывая возбужденным встречным, где именно приобретена драгоценная покупка. Никакого классового расслоения не наблюдалось. Так поступали все: от интеллигентов до рабочих и крестьян.
Вот он, наглядный пример того, как можно – легко и просто – добиться полного равенства людей. И не только равенства, но и братства.
И при таком отсутствии присутствия на прилавках туалетной бумаги доверчивым читателям советских газет становилось ясно, куда она, собственно, девается. На их же, так сказать, нужды. Только более насущные. На корм народу!
С этим еще можно было как-то смириться. Хуже, если журналиста-разоблачителя мучило что-то экзистенциально-безысходное. Тогда колбасы, по его утверждению, делались из крыс.
Ну, не целиком из крыс…
Но частично – да.
Ужас.
Все ужасались, плевались, возмущались, верили написанному, но все же сметали с дачного прилавка этот сомнительный пищевой продукт…
Голод не тетка…
Так вот чтобы дети не скучали в то время, пока взрослые с невероятной пользой проводили время в очереди, обмениваясь достоверными новостями, и была сооружена площадка для совместных ребяческих игр. Меж старых лип, украшавших некогда княжеское имение, на руинах которого и возник дачный поселок, установили песочницу, завезли речной желтовато-белый песок, поставили вокруг лавки для бабок и нянек – готово дело!
Площадка с момента создания стала заветным местом. Сейчас бы сказали – культовым. Каждый день сюда стекались приодетые не по-дачному молодые мамаши с грудничками, исскучавшиеся на своих дачных участках. Сходилась ребятня постарше, не сговариваясь заранее, и играли самозабвенно, во что придется. А вечерами, как и полагалось, скамейки занимали ребята с гитарами и их поклонницы. Мухины не скучали у себя, но и они стремились к людям. Так и сколотилось их дачное сообщество.
Генка и тогда отличался особым своеобразием. Ходил в очках, дужки которых обматывал шоколадной фольгой. Зачем? Не пояснял. Но в глаза бросалось, выделялся с первого взгляда.
Тощий, в допотопных сандалиях (чуть ли не времен дедова детства, чудом сохранившихся во всех бурях и враждебных вихрях, веявших то и дело над страной). Генка вечно таскал с собой книжку. Приходил на площадку, усаживался не на лавочку, а на землю, под вековым деревом, открывал книгу и погружался в свою нирвану. При этом, как оказалось, за играми он следил и иногда, словно повинуясь какому-то непонятному окружающим импульсу, подключался к ходу игрового сюжета.
Персоной он был заметной и уважаемой, потому и не гнали его, а, напротив, охотно принимали.
Уважали Генку и за деда-академика, сделавшего множество открытий в области быстрого и надежного уничтожения одним махом нескольких сотен тысяч людей какой-нибудь вражеской державы.
Как позже выяснилось, дед получил от родины много наград: и Сталинские премии, перешедшие позже в Государственные, и отсидку в шарашке, где трудился, будучи наказанным неизвестно за что, вместе со столь известными персонами, что даже имена их во времена Птичиного детства произносилось с придыханием… Впрочем, похоже, Генкиному деду было все равно, где находиться. Ну – почти. Лишь бы имелась возможность что-то изобретать и воплощать задуманное.
Генка на деда походил как две капли воды: маленькая капля все равно будет точь-в-точь как капля побольше, и по форме, и по составу, и по внешнему виду, и по способностям… В том, что способности у Генки не меньше дедовых, никто не сомневался.
Он такой. Яркая индивидуальность. Сам по себе. Смелый, бесстрашный, упрямый, способный во всем.
В школу пошел сразу в третий класс. И закончил ее через пять лет просто потому, что раньше было бы как-то неудобно.
Потом университет…
О вундеркинде писали газеты, показывали чудо-ребенка по телику.
Когда Рыся с Птичей поступали в свои институты, Генка уже защищал диплом и поступал в аспирантуру. Не напрягаясь. Легко и буднично.
Впрочем, главные Птичины воспоминания о дачном летнем счастье оказались связаны совсем не с Генкой. Вернее, не совсем с Генкой. А с Рыцарем.
Однажды, ей было лет восемь тогда, все они собрались, как водилось, на площадке. Каждый играл в свое. Стояла июльская жара, бегать со всеми Птиче не хотелось, она сидела на бортике песочницы и вяло пересыпала сухой мягкий песок из одной ладони в другую, сосредоточенно глядя, как он струится… Словно вода, течет…
– Пойдем! – услышала она приказ.
Подняла глаза – над ней стоял Генка. В лице его что-то изменилось, не сразу сделалось понятно что.
– Пойдем играть в Рыцаря и Прекрасную Даму, – предложил Генка и протянул ей руку. – Вставай. Ты – Дама, я – Рыцарь.
Птича поняла, что в нем было не так: он снял очки. Но смотрел открыто, прямо, не щурясь беспомощно, как обычно делали очкарики, если оказывались без своих вспомогательных стеклышек.
– Пойдем, – согласилась она. – Только я не знаю, как это.
– Все просто. Я – Рыцарь. Я буду тебя от всего спасать. А ты должна бояться, падать в обморок, стонать и все такое. А я – твой защитник.
– Ладно.
Генка отошел с Птичей к дереву, на корнях которого лежала очередная книга с аккуратно сложенными диковинными очками.
– Я начинаю, – предупредил мальчик. – Смотри! Я – Рыцарь!
Он вдруг изменился, превратившись из себя в совсем другого.
Птича увидела Рыцаря. Голова Рыцаря была гордо откинута назад, глаза сверкали бесстрашием и волей к победе над любым противником, какой ни встретится на его славном, но тернистом пути.
– Я пришел спасти тебя от врагов, о Прекрасная Дама! – провозгласил Рыцарь, вставая перед Птичей на одно колено.
– О, Рыцарь! Благодарю тебя, ты подоспел вовремя, враги чуть было не ворвались в мои покои, я так боялась оказаться их пленницей, – простонала Прекрасная Дама, трепеща и бледнея.
– Эти негодяи все еще тут! – вскричал возмущенный Рыцарь, прикрывая своим мужественным торсом взволнованную Прекрасную Даму, всем своим видом показывавшую, что именно сейчас она близка к обмороку как никогда. – Но я не дам им уйти! Я накажу их по заслугам!
– Вон, негодяи!!! – устрашающе вскричал Рыцарь, бросаясь в кусты дикой малины.
– Ах, – простонала Прекрасная Дама, исполненная чувством благодарности к своему отважному защитнику…
У них с первого раза отлично все вышло. Рыцарь отбивал свою подзащитную от врагов. Она же старательно неоднократно падала в обморок, пока не ободрала коленку, ударившись в падении о незамеченный корень старого дуба, вылезший из-под земли, на ее беду.
– Ой! – воскликнула Прекрасная Дама, мгновенно превращаясь в Птичу Мухину.
– Сильно ударилась? – сочувственно спросил Генка, надевая очки, чтобы рассмотреть полученную в результате их увлеченного действа травму.
– До свадьбы заживет, – ответила Птича, крепясь изо всех сил, чтобы не заплакать.
Про свадьбу и исчезновение ран, ушибов и синяков к этому важному событию в жизни каждого взрослого человека всегда говорили старшие, желая утешить.
Хотя – что тут утешительного? Больно-то сейчас. А свадьба – когда еще будет, если будет.
Однако и Генке было что залечивать к свадьбе. Чтоб хорошенько зажило. Он так исцарапался в малиновых зарослях, что пугал своим видом честной народ. Живого места не было.
Шли они домой на перевязку и обработку ран мимо очереди, люди дивились странным детям: девочке Мухиных с изгвазданным вконец платьем (сказались обмороки Прекрасной Дамы) и разбитыми вдрызг коленками, а также расцарапанному от пят до макушки буквально до неузнаваемости внучонку Академика (так все лаконично величали Генкиного деда).
Ох, хорошо тогда жил народ, непугано!
Не было на них ювенальной юстиции!
Сейчас бы и Рыцаря, и Прекрасную Даму быстро приняли под их белые исцарапанные руки (все в синяках, отметим), отвели бы к психологу. Дети, конечно же, удивили бы специалиста своими «неадекватными» рисуночками, насторожили бы некоторыми фразами, и, глядишь, спасли бы ребят от их варварских семей!
Отвезли бы в детприемник, а потом и в детдом. Чтоб жили счастливо и довольно, ни в чем не нуждаясь, подальше от родственничков.
Родителей бы суд скоренько лишил родительских прав. За изуверство.
И не играть бы Птиче с Генычем больше в свои странные настораживающие игры про припадочных Дам и их ненормальных защитников.
Но, к счастью, у народа в целом в головах тогда еще имелся кой-какой порядок, кое-какая память о собственном босоногом детстве теплилась в мозгах озабоченных мелочами быта граждан, и детские синяки, царапины и ссадины, полученные во время игр на свежем воздухе, особо никого не волновали и не возбуждали.
В общем, играли дети кто во что горазд.
Мухину и Геныча угораздило погрязнуть в своих фантастических рыцарских играх на долгие годы. Постепенно игра видоизменялась, как то диктовала сама жизнь: Прекрасная Дама перестала хлопаться в обмороки – ей надоело. У Рыцаря появился меч, щит и накидка. В борьбу с недругами они включались вместе, пускались на серьезные авантюры, уходя далеко в лес в поисках особо злобных противников, умело превращавшихся в ходе преследования в мухоморы и поганки. И тут требовалось изрубить оборотней своими мечами в пыль. Чтоб они снова не превратились во врагов, состоящих на службе у вселенского зла…
Однажды – Птиче было уже лет одиннадцать – ей приснился Рыцарь. Она не понимала, кто она: просто Мухина (как чаще всего вне их игры несколько небрежно называл ее Генка) или Прекрасная Дама. Рыцарь вел себя нежно и почтительно, из чего можно было догадаться, что она все-таки Дама, находящаяся под опекой благородного и надежного защитника.
Рыцарь, как ему полагалось по статусу, и во сне встал перед Птичей на одно колено, взял ее за руку и поцеловал в ладонь. Нежно-нежно. Потом поднял на нее глаза и пристально посмотрел, не выпуская ее руку из своей.
И тут Птича проснулась.
Сердце ее жутко стучало в ночной тишине.
Она не сразу поняла, что все это: нежность, поцелуй в ладонь, пристальный взгляд – произошло во сне, таким настоящим казался и Рыцарь, и его глаза, и прикосновение его губ, пронзившее ее так, что дыхание перехватило.
Птича поняла, что влюбилась в Рыцаря.
Не в Генку – нет.
Точно – в Рыцаря!
Но Рыцарь-то был ненастоящий! Он вообще не существовал. Он являлся придумкой, их общим вымыслом. И она влюбилась в вымысел! Даже не в тень – ту можно хотя бы увидеть, а в то, чего нет и быть не может.
Вот как бывает!
Влюбилась ни во что!
Чувство небывалой силы захлестнуло Птичу. Ей хотелось, чтоб Генка, как обычно, зашел к ним, вызвал ее играть, они убежали бы в лес, он снял бы свои смешные очки, обратился Рыцарем и поцеловал ее ладонь. Интересно, она испытает то же, что и сейчас?
Но именно когда особо мучительно ждешь чего-то, оно не происходит.
Генка тогда заболел, родители увезли его в город долечиваться.
Так до конца лета Рыцарь и не увиделся со своей Прекрасной Дамой. И тот сон ее постепенно забылся, сгладился. Сердце при воспоминании о нем уже не щемило, оно билось спокойно, равнодушно.
«И хорошо, – думала Птича. – Так лучше».
Что со всем этим делать, если все наяву окажется как во сне, она не знала. Потому и радовалась покою и продолжающейся простоте своей обычной жизни.
Следующим летом они уже не играли в ту игру. Общались как нормальные люди. Живя в Москве, бывало, созванивались. Особенно если у кого-то из Мухиных возникали трудности с домашним заданием по матике или физике. Генка, не задумываясь, четко выдавал ход решения. Гений, что говорить!
И вот сейчас совсем уже взрослый гений в трусах и валенках притащился к мухинской даче, даже не скрывая, что с перебуха.
– Мухина, хорошо, что ты здесь. Ты одна? – глянул через Птичино плечо в глубь дома визитер.
– А что? – засмеявшись, заинтересовалась подруга детства. – Ты пришел тайну мне рассказать?
– Ну да, – подтвердил Геныч. – Тайну. Страшную тайну. Быстро ты догадалась. Всегда смышленой была.
– Можешь выкладывать. Никто не услышит. А я не выдам.
– Мухина. Я в тебе не сомневаюсь. Пусти меня помыться. Мы вчера с дедом… Ну, ты видишь… Мне надо ванну принять… Выпить чашечку кофе…
– Конечно, принимай. И кофе подам. Еще у меня куча блинов, только испекла, проходи, – радушно приветила визитера хозяйка. – Единственно что – объясни мне, дуре нелепой, а почему ты у себя ванну не принимаешь?
– А, – махнул безнадежно рукой заросший щетиной мужик в дикой майке, которого никто, ни под каким видом не принял бы за крупного и почитаемого ученого, доктора наук и прочее, прочее, прочее… – У нас сегодня, Мухина, с утра пораньше электричество отключили. За неуплату. Ну, и котел теперь не греет. А холодную ванну я принимать не хочу. Поняла?
Она, конечно, поняла.
Генка выступал в своем репертуаре. Окопались на даче два редкостных светоча науки, один академик, другой вот-вот им станет. И этим дивным светочам за неуплату вырубают электроток!
Ей захотелось немного повоспитывать непрактичного друга, попенять ему на недопустимость, так сказать… Предостеречь на будущее… Не из занудства. Просто весь Генкин вид вызывал желание немедленно взяться за перевоспитание. И каждая на ее месте, как говорится, взялась бы, решительно засучив рукава…
– А чего ж ты не уплатил? Денег нет? – начала она воспитательный процесс, ведя Генку к ванной, оборудованной еще в незапамятные времена их, мухинским, дедом.
– Я забыл. Понимаешь, женщина? Я чем-то другим бываю занят. И вот забыл. Я раздолбай. И чего теперь? Мне немытым ходить? Ты вот со мной даже обниматься не захотела, – пожаловался гость.
– И что же будет? Когда теперь снова включат?
– Нынче, когда включат, говорить не велено. Выходит, я тварь дрожащая и прав никаких не имею. Вот, говорят, заплати, а мы потом подумаем.
– Ох, ёлки, – сочувственно вздохнула Птича, переставая стремиться к перевоспитанию бедного забывчивого дачника. – И что теперь? Дедушка ведь тоже холодную ванну принимать не будет?
– Дед, кстати говоря, каждое утро обливается колодезной водой. А сейчас работает над тем, как обойтись без их гадского электричества. Вопрос пары дней.
– А так можно? – наивно восхитилась Птича.
– Все можно, Мухина, когда судьба велит, – подтвердил Геннадий, с вожделением глядя на наполняющуюся теплой водой просторную ванну.
– Ладно, мойся. Вот тут все шампуни, гели, мыло – выбирай. На вот еще тебе полотенце. Я б на твоем месте майку сменила, дать тебе футболку чистую? У нас много, все оставляют…
– Все дать… И блины твои дать, и футболку… Ну, иди давай. Я полез…
Пока гость принимал свою утреннюю ванну, Сана заглянула к Викусе. Та не спала. Лежала, улыбалась, рассматривала свои пальчики. Образцовый, сказочный ребенок!
Сана сменила детке памперс, взяла на руки, сунула ей бутылочку с приготовленной заранее молочной смесью. Викуся старательно зачмокала, засопела, схватившись ручками за бутылочку. Через пару минут сопение перешло в ровное дыхание крепко спящего младенца.
Примерный ребенок наелся и заснул! Такой у нее сегодня день редкостно удачный.
Сана старалась не думать о том, что будет ночью, когда наспавшаяся за день крошечная девица захочет внимания набегавшейся за день взрослой. Нет, о страшном лучше не думать… Спит сейчас, и пусть спит. Можно будет спокойно покормить чистого Генку, поболтать о том о сем. С ним всегда почему-то весело и спокойно.
Ну, весело – понятно… Одного взгляда достаточно… И спокойно – понятно… Он умный. И добрый. Вот почему…
Она плотно прикрыла дверь спальни, на кухне приготовила все для Генкиного угощения и принялась ждать, когда тот выйдет, отмытый и свежий.
Пора решаться!
Сана собирается кормить дорогого гостя, стараясь не думать о своих тревогах, и не подозревает, что в ее родном городе совершенно чужой, незнакомый человек думает почему-то о ней.
Напряженно думает, понимая, что пора решаться.
Кто его побуждает? Что заставляет?
Цепочка событий… Стечение обстоятельств…
Эх, как же эти обстоятельства иной раз стекаются! Кто бы мог подумать!
…Да, кто бы мог подумать!
Женька жил с папой-мамой в своей кирпичной восьмиэтажке и гордился своим городом, своей улицей, видом из окна своей комнаты. Комната, узкая десятиметровка, ничего собой не представляла: стол, раскладной диван, шкаф, куча игрушек на полу, беспорядок, за который вечно укоряла мама. Зато из окна был виден храм с золотыми куполами. Как бы ни бывало ему грустно, глянув на купола, кресты, колокольню, Женя всегда успокаивался и даже радовался. Он любил сидеть на подоконнике и смотреть, как по утрам люди стекаются к храму. Останавливаются у ступенек, крестятся, кланяются, заходят… Колокола звонили по воскресным дням.
Правильная жизнь шла.
Родители сами в храм не ходили. И, бывало, даже злились на колокольный звон, на всю эту кажущуюся незыблемой вечную красоту. Но Женька, глядя на верующих у храма, сам научился креститься. Прихожане крестились, и он на своем подоконнике вместе с ними.
Странно, но долгие годы своего детства он, любуясь своим храмом, и не помышлял о том, что можно запросто спуститься со своего восьмого этажа, пройти через двор и приблизиться к церковной ограде, поклониться крестам, подняться по мраморным ступенькам, войти… Это как-то не приходило в голову. Ему хватало картины из окна. Он по натуре был созерцателем. Мог смотреть, придумывать про людей во дворе храма – кто и почему туда идет, о чем молится, верит ли на самом деле или не верит… Просто так идет, за компанию.
Что удивляло и восхищало Женьку с малолетства: храм каждый день выглядел по-другому.
В дождь он казался плывущим по океану огромным кораблем. Непотопляемым! Могучим!
В снег храм был сказочным прибежищем одинокого путника в горах. Так представлялось.
Весной, когда вокруг все выглядело голым и грязным, храм сулил надежду на скорое солнышко, а летом, в солнечные дни сиял всеми своими куполами, становящимися подобиями небесного светила…
В четырнадцать лет Женька велел родителям купить ему на день рождения фотик.
Мать обрадовалась такой просьбе. Учился парень ниже среднего, ленился. И вот впервые проявил к чему-то интерес. Перспективы его будущей взрослой жизни сразу предстали перед любящим внутренним взором матери во всей великолепной красе. Увлечется фотографированием. Станет известным фотохудожником. Клиенты потянутся, деньги…
Она купила. Сама, не посоветовавшись. Как обычно все делала. Наскоком, нахрапом. Вроде симпатичный аппаратик, хорошенький с виду.
И недорогой!
Естественно, полное г.! Мягко выражаясь.
Это даже отец сказал, перед тем как вручать сыну подарок: «Что ж ты вечно лезешь, куда не просят… Хоть бы с продавцом посоветовалась».
Мать отмахнулась, подарила «мыльницу», произнеся при этом речь про грядущие перспективы.
Женька разочарование быстро подавил. Это только начало! Зато и на «мыльницу» можно было снимать его любимый вид из окна. Прилаживаться, выискивать самую правильную точку…
Дело пошло.
И материнские надежды оказались не пустыми мечтаниями. Фотограф из него вполне получался. Понял это и отец. На следующий день рождения сына он уже сам, не считаясь с расходами, купил ему вполне серьезную камеру.
Смысл жизни вырисовывался с небывалой четкостью.
А потом… Потом эти гады, эти тупые, ничего не понимающие алчные твари, хлынувшие в его город, как вонючие шакалы, за легкой добычей, лишили Женьку его долгого светлого счастья.
Он провел все лето у бабки на даче, вернулся к самой школе и не поверил своим глазам. Между их домом и храмом за каких-то три месяца воздвигли жилое чудовище, из тех, что гордо называли «элитное жилье». Окна во всю стену, балконы круговые, все фальшивое, бездушное, нечеловеческое, как сами строители.
Теперь из его окна был виден только этот достраивающийся кабздец. Храм исчез как мираж.
Женька, конечно, понимал, что храм никуда не девался. Стоит, как и стоял. И можно к нему ходить, хоть по сто раз на дню. Да только это было совсем не то. Теперь уже не бросишь взгляд, когда сидишь и решаешь ненавистную алгебру, на купола и кресты, не утешишься покоем и надежностью вида.
В жизни нет ничего надежного.
И то, что любишь всем сердцем, как в издевку над тобой, у тебя стремятся отнять.
Топчут твою любовь, даже не подозревая о твоем существовании, топчут, потому что хотят получить свои гнилые деньги или какие-то еще поганые блага. Думают только о себе.
Но если все начнут друг друга не щадить, в первую очередь станет хуже тем самым поганцам. Только они до поры до времени этого не понимают. А потом становится поздно…
Женька негодовал, метался, задыхался в сумраке своей комнаты, лишенной света из-за новорожденного исчадия ада, который так стараются отстроить люди на земле.
Время не вылечило его рану. Боль, правда, притупилась. Впрочем, у каждого минуса есть свой плюс. Он стал ходить в храм – ничего не поделаешь, это единственное, что спасало от отчаяния. Ходил, фотографировал виды с земли, а не со своей прежней высоты. В комнате теперь старался бывать как можно реже.
Так и получалось. До поры до времени.
Однажды Женя перед сном по въевшейся нервической привычке глянул в окно… и обмлел. Он увидел домину, светящуюся разными огнями. За стеклами каждой квартиры шла своя, обособленная от других жизнь, казавшаяся прекрасной, загадочной, захватывающей. Далеко не все задергивали шторы, без стыда демонстрируя любым зевакам подробности собственной шикарной жизни.
Евгений всматривался в существование ненавистных чужаков, лишивших его привычного счастья. Постепенно привыкал. Кое-что его даже веселило, как кино без слов. В одном из окон увидел, как самозабвенно гоняет на трехколесном велике малыш лет трех. Один, что ли, в квартире? И не надоест ему! Вечный двигатель! Парень так и нарезал круги в почти пустой огроменной комнатище, похожей на зал музея: по стенам картины, диван в углу – ничего больше.
Женька, сам того от себя не ожидая, схватил камеру и сфоткал мальчишку. Маленького еще человека на фоне большого пространства. Такого счастливого, бесстрашного, беззаботного.
Ему показалось, что он вновь обрел почву под ногами. Жизнь продолжалась.
Новый дом давал огромные возможности для наблюдателя.
По утрам на балконы выходили покурить не вполне проснувшиеся богатеи, ничем не отличавшиеся в моменты восхода от обычного люда: заспанные, неумытые, некоторые с бодуна, выглядели вполне по-человечески, даже жалко порой их становилось. Вот, мол, стоят они, почесываются, затягиваются, приходят в себя для рабочего дня. И почему-то даже не подозревают, что кто-то может за ними наблюдать, а кто-то и сфоткать способен.
Мысль о том, чтобы нафотографировать и предложить некоторые особо удачные снимочки желтой прессе, мелькала у Женьки не раз. Но… откладывал на потом. Если уж припрет в финансовом отношении.
Пока дела его шли неплохо. После школы решил он учиться на кинооператора, удалось поступить на бюджетный, будущее обещали лучезарное. Женя хорошо умел представлять и видеть… Камера становилась частью его… Талант! К тому же работа нашлась по душе: его мастерство фотографа заметили, пригласили в глянцевый журнал. Мечты сбывались одна за другой.
А дом, заслонивший храм… Всякое в нем происходило.
Поздними вечерами Женька устраивался со всей своей аппаратурой и глазел, и представлял, что именно происходит там… Романы можно было сочинять.
И вот однажды он увидел ее…
Тоже утром. На балконе.
Она не курила. Просто стояла себе в шелковой дымчато-серой пижаме и расплетала косу. Медленно-медленно. Не проснулась еще окончательно. Думала о чем-то, не замечая ничего вокруг.
Он ее сразу узнал. Сабина Мухина собственной персоной. И персона эта понравилась ему в своем человеческом, не гламурном, обличье так, что дыхание перехватило.
На своих показах она казалась закованной в броню: не прошибешь, не вызовешь никакого чувства у этой ухоженной и словно закованной в броню изобретательницы фасонов дамского счастья.
Женька знал, что она благополучно замужем, что вызывает всеобщий интерес своим творчеством и красотой. Но все никак не мог понять, глядя порой на ее фото: что в ней такого интересного. Кукла заводная – и только.
А в то утро – увидел. Абсолютно живая, никакая не кукла. Беззащитная, нежная и… одинокая, что ли. Хоть там у нее и муж крутой, и поклонники наверняка, и деньги, конечно…
Грусть и одиночество – вот, что он увидел.
Она наконец расплела косу, встряхнула волосами, потянулась.
Печаль исчезла из ее облика, словно стертая лучами утреннего солнца. Она ловко сделала несколько приседаний, согнулась, разогнулась… Все! Теперь она казалась готовой к прыжку, как пантера.
Вот это девушка!
Он умел любоваться красотой на расстоянии. Он и не мечтал о встрече, личном знакомстве. Вполне достаточно просто смотреть.
Женька и смотрел. Из темноты своей комнаты в ярко освещенные окна дома напротив.
Через некоторое внемя он знал всех, кто к ней приходит, знал ее привычки и пристрастия. Она расцветала, когда принимала у себя сестру и братьев. То, что они родня, понятно делалось с первого взгляда, уж очень похожи. И то, что привязаны друг к другу сильно, тоже сомнений не вызывало. Только с ними Сабина и была веселой, легкой, смеющейся. Она танцевала, кружилась под музыку, которая не могла быть слышна на таком расстоянии, но даже издалека казалась прекрасной.
В Интернете нетрудно оказалось найти все про всю ее родню, и скоро он даже мысленно называл их по именам.
Знал он и имя мужа. Ростислав. Не нравилось оно ему почему-то, это имя, как и сам муж. Это именно при муже становилась Сабина закрытой. При муже никого в доме не бывало. И, похоже, глава семьи любил устраивать разборки. Женьке их семейное немое кино казалось понятным, как два плюс два: вот он входит, она поворачивается к нему, вопрос – ответ, вопрос – ответ… Она садится за стол, подперев голову руками. Слушает. А он говорит, говорит. И не замечает, что ли, идиот, что говорит в пустоту. Она же просто слушает, не отвечая…
Хотя, бывало, заходили они в гостиную в обнимку, бывало, муж приносил цветы… Но все равно… При нем девушка никогда, ни разу не выглядела такой красивой, как без него.
Женька был стопудово уверен, что ей с ним плохо.
Но ничего не поделаешь, судьба. У нее, стало быть, такая судьба. В конце концов – ей во всем остальном везет. И еще как. И потом – ведь если б ей так уж плохо было со своим Ростиславом, ушла бы, и все. Она ж от него не зависит. И родни у нее не счесть.
Стоит только захотеть…
Стало быть, не хочет.
Тогда – пусть. Ее дела.
Женька наблюдал, любовался, фотографировал.
А дней десять назад случился ужас.
Он, как обычно, смотрел. Девушка говорила с кем-то по телефону. Кивала, подтверждала что-то… Успокаивала? Деловые переговоры, наверное…
Тут вошел этот ее… Мужельник… При полном параде, в костюме (хоть и жара), сумка через плечо – видно, уезжать по делам собрался. Спросил о чем-то. Она ответила, прикрыв трубку ладошкой. Он скинул сумку на пол, сжал кулаки. Видно, говорил что-то резкое, злое. Она попрощалась с телефонным собеседником, ответила мужу. А тот…
Женька даже задохнулся от неожиданности.
…Тот подошел и ударил! Резко, с размаху.
Она взмахнула руками, схватилась за голову, но устояла. Надо было падать, а она устояла! И тогда муж ударил ее еще, и еще, и еще.
Потом бил с размаху ногами. Пинал, как футбольный мяч.
Женька закрыл глаза.
Но камеры его все видели. Все запечатлевали. Это он потом проверил, когда смог с духом собраться.
А тогда, решившись взглянуть на происходящее в этот момент с той, которой он месяцами любовался, он увидел плотно задернутые шторы.
И почему-то уверенно подумал: «Все! Гад убил ее! А окна зашторил, почувствовав опасность. Ему же надо теперь от тела избавляться…»
Такие мысли родились в ошарашенной Женькиной голове. А что там могло появиться другое после того, что он увидел?
Он совершенно растерялся.
Почему-то думал про храм. Как его прекрасные купола закрыли от него. Лишили счастья.
А теперь этот ушлепок убил красивую и беззащитную перед его силой девушку.
Как же он бил ее, гад!
Женька нашел в себе силы посмотреть, что записалось на видео.
Вот она падает…
Вот тот бьет ее, упавшую, ногами!
Бьет, бьет, бьет…
Вот остановился отдышаться…
Устал…
Пусть бы сердце этого подонка перестало качать его черную пакостную кровищу в этот момент, остановилось бы на веки вечные!
Нет! Отдышался… Огляделся безумными глазами… Пристально взглянул в окно… Может, померещилось ему что? Или звериным своим чутьем учуял, что кто-то мог увидеть, что он сейчас сотворил?
Кто его знает…
Гад подошел и задернул шторы.
И все.
Что теперь было делать?
Как выходит гад из дому, увидеть не дано. У них там подземная стоянка, у этих жуликов, обогатившихся за счет нормальных людей. И убийца вполне мог взять свою жертву на руки, спуститься на лифте к своей машине, запихнуть в нее тело, отвезти подальше, сбросить…
И тут же отправиться в свою командировку…
А потом, вернувшись, затрубить: «У меня жена любимая пропала!»
Ну, это, положим, у него не выйдет. Тут он сядет как миленький. Свидетельство – вот оно.
Но – неужели убил? Неужели – ее больше нет?
Как жить теперь с этим?
Что делать?
Мысли накатывали с грохотом, как морские волны в шторм.
Женька размножил видео, сохранил в компе, скинул на флешки. Спрятал их в разные места…
Свидетельство против убийцы не пропадет!
Дальше он снова принялся рассуждать.
Если ее больше нет это одно. Он сделает все, чтоб преступник ответил за свое и получил что положено.
Если она жива… Дал бы Бог!.. Если она жива и выбралась из этой проклятой квартиры, надо найти ее и отдать ей флешку. Пусть у нее будет – ей пригодится.
Или надо найти кого-то из ее родных – это несложно, координаты у него были. Собрал, пока увлекался своими наблюдениями за красавицей.
Он, как скупой рыцарь, перебрал свои активы, касающиеся реальной информации о Сабине Мухиной.
Что мы имеем?
Ее страничка на Фейсбуке. Ее сайт. Ее электронная почта. Ее мобильник. Номер телефона этой растреклятой квартиры.
Номерами мужа он не заморачивался.
Зато есть все координаты ее сестры, тоже личности очень даже известной. Есть даже номер мобильного мужа сестры…
Это немало.
Женька немного собрался с мыслями и решил для себя так.
Эта тварь, ее муж, наверняка по-любасу свалил в свою командировку, как и собирался. Если Сабины нет в живых, завопит-застонет этот монстр, только когда вернется.
Если она все же жива, главное – не нагадить ей лишними действиями.
Значит – что остается?
Остается ждать.
Тупо ждать. Смотреть, когда плотные шторы на окнах наконец раздвинутся.
Как занавес в театре.
И потом уже что-то предпринимать.
Но одно Женька знал точно-преточно.
Молчать он не будет. И сопли свои зажевывать не станет. Если с Сабиной реально случилось непоправимое, он сделает все, чтоб нелюдь по имени Ростислав понял, что такое настоящий кабздец.
И вот сегодня, только что, на его глазах шторы раздвинулись. В окне показался тот, о ком со всей мощью накопившейся обоснованной ненависти Евгений думал уже вторую неделю.
Выглядел ли вернувшийся муж чем-то встревоженным или это только так показалось?
Во всяком случае – в квартире он явно находился один. Держал в руке телефонную трубку, словно взвешивая, кому позвонить. Все думал и не звонил.
Все думал.
И Женька тоже думал – что будет дальше.
А в это время…
А в это самое время вполне живая Птича сидела в дедовском доме на кухне и ждала, когда из ванны выйдет Генка и начнет уже наконец поедать эту высоченную гору блинов, которую она сгоряча соорудила.
Пусть ест и хвалит. И удивляется, как она, Мухина, так прекрасно и вкусно умеет печь блины.
И еще она думала, что вот, Генка пришел, можно сказать, с перепоя… Выглядел, во всяком случае, так. Как они в детстве боялись этого: и самого слова «перепой», и того, во что превращался их отец после выпитого…
А глядя на Генку, ей почему-то совсем не страшно.
Как она боялась пьяного отца – лучше об этом не думать! Как они забирались тогда в свое убежище, тесную кладовку, как жили там, уроки делали, стараясь не вслушиваться в пьяные крики и угрозы папаши.
Она вдруг вспомнила то, что все эти годы не вспоминала. Казалось, напрочь выжжена эта история в памяти. А сейчас выскочила, как новенькая, во всем своем ужасе.
Пистолет… Как пьяный папаша пришел тогда домой с пистолетом. Они еще до его прихода расслабились, уютно им было, сидели все вокруг мамы, которая тогда их самого маленького братца Пика вынашивала, и слушали «Битлз», про Джона Леннона говорили. Про то, как гения застрелил его фанат…
Песенка, песенка…
И тут пришел отец. И они все ринулись его встречать к входной двери… И там был еще дядька в военной форме. А у папы в руках – пистолет.
И Птиче показалось, что дуло пистолета живое. И что оно собирается кого-то из них сожрать. У этого дула был один глаз, он же рот, такое злобное жало, чтоб убить и высосать из убитого человека всю жизнь до капельки, если она в нем еще теплится.
Потом Птича внутренне отключилась… Так с ней бывало при полном ужасе. Организм спасался уходом далеко-далеко. В горячку, температуру, бред. И беда перегорала, забывалась.
Она долго горела тогда…
Почему мама столько лет терпела все это? Вот интересный вопрос. Ведь ясно было даже им, малым детям, обещаниям отца, данным после пьянок, верить нельзя. Он сам себе не верил. И маме не верил, когда она заверяла кающегося мужа, что прощает его в последний раз.
Все – сплошное вранье… И ради чего?
Ладно, зря вспомнилось. Теперь снова надо уговаривать себя забыть. Лишние воспоминания – лишний груз.
Так о чем это она?
О Генке! О том, что вот – он бухал. Да еще с дедом! Сколько же сейчас деду, интересно? Надо подсчитать… Почти девяносто вот-вот стукнет. И они, как два идиота, бухают! И дед еще после этого что-то там у себя на даче изобретает, как обойтись без электричества…
Ну и порода у них! Богатыри!
На этой жизнеутверждающей мысли тощий богатырь Генка показался на кухне. Свежий, без следов щетины, в чистой футболке Пика, глаза ясные…
– Ты зачем с дедом пил? – строго спросила Птича. – Деду нельзя! Ты соображаешь?
– Деду ничего не сделалось. Он пару стопочек только… Для расширения сосудов. Говорит, врачи рекомендовали. А я чего-то перебрал, – объяснял Геныч, жадно глядя на блины. – Да ты не бойся, Мухина, я не алкаш. А раз в год можно и поддать. Под настроение. Настроение у меня такое было вчера. Понимаешь?
– Все начинают под настроение, а потом втягиваются, – втолковывала Птича, подкладывая гостю блины в тарелку.
– Не, я не втянусь. Точно знаю. У меня сон плохой от бухла. Кошмары мучают. Не надо мне оно…
Генка ел – любо-дорого смотреть! Но и он не одолел всю гору блинов.
– Слушай, Мухина, пропадет ведь добро-то, – с сожалением вздохнул Геныч, сонно глядя на оставшиеся блины. – Знаешь, давай что сделаем? Давай ты сегодня к вечерку придешь к нам на чай. У нас чай из самовара, ты сама знаешь. Начальник, а не самовар! Такого вкусного чая ни у кого нет. Мы самоварище шишками топим… Сосновыми… Ты придешь со своими блинами, деду дадим. Он порадуется.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/galina-artemeva/fata-na-dereve/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Даниил Хармс. Из «Голубой тетради» № 12.
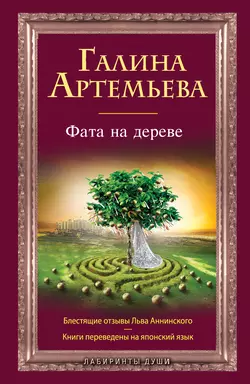
Галина Артемьева
Тип: электронная книга
Жанр: Современные любовные романы
Язык: на русском языке
Издательство: Эксмо
Дата публикации: 13.09.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Сана мечтала о тихом семейном счастье с самого детства. Казалось, ее желание близко к осуществлению, когда появился красавец-жених, и не какой-нибудь легкомысленный щеголь, а серьезный, успешный, основательный. Может, даже слишком серьезный для Саны, в которой живет душа вольной птицы. Шаг за шагом росла между ними стена непонимания. Даже фата, которая была для девушки олицетворением долгожданного счастья стала для ее мужа символом непонятных ему, а значит, глупых фантазий. Мечта при соприкосновении с реальностью лопнула, как лопаются мыльные пузыри, но что же делать Сане, как ей жить дальше?..