Выкуп
Выкуп
Виктор Иванович Калитвянский
В этом философско-авантюрном романе человеческие души, оставив свои тела, путешествуют налегке. А одушевлённые автомобили погибают, пытаясь спасти хозяев… Но, несмотря на фантасмагоричность происходящих событий, роман «Выкуп» – это, в сущности, история о дружбе, любви, о вечном стремлении человека выйти за положенные ему пределы…
Журналист. Соседский синяк
Народная мудрость гласит, что утро – вечера – гораздо мудрее…
Я нисколько не сомневаюсь в народной мудрости. Народ – он всё видит, всё знает, всё понимает. Только сказать не может, как та же собака. И поэтому народ никто и никогда не слушает, все только отмахиваются.
Может быть, для моего прадеда, который пахал землю в орловской губернии, утро и в самом деле было прекрасным временем. Возможно, он пробуждался ото сна – полным сил, с верою в себя и в своё будущее. Так ведь чему тут удивляться: прадед жил на своём хуторе, в гармонии с природой, с той средой, которая его окружала. Я даже допускаю, что прадед верил в бога, почитал царя и любил отечество… Хотя непонятно тогда, отчего всю эту замечательную триаду он рука об руку со товарищи пустил в полный исторический распыл в начале двадцатого века?..
Ну а мы, горожане, жители мегаполиса в начале двадцать первого века?
Для нас утро – кошмар.
Ты просыпаешься – одуревший, отупевший, в голове – ни одной связной мысли. В спальне – темно, потому что шторы задёрнуты. Поэтому надо взглянуть на мобильник, он всегда у изголовья. Если повезёт, у тебя ещё целый час на досып. Надо только сбегать в сортир, отлить, а затем – снова в сладкий сон…
Но только ты блаженно ткнулся носом в подушку, как под окном раздаётся такой звук, словно кремлёвская царь-пушка произвела, наконец, свой первый выстрел, – и прямо у тебя над ухом. А это всего лишь громыхнула дверь подъезда. Наверное, ранняя пташка, бравый дворник Нурали стоит на ступеньках крыльца и обозревает свои владения: прямоугольник двора, заключённый в каменную коробку шестиэтажного дома на Сухаревской площади…
Вот он поднимает свой инструмент, метлу, и…
Шарк.
Шарк.
Шарк.
Ну, за что можно любить такое утро?
Ты с проклятьями засовываешь голову в подушки и погружаешься в неверное утреннее забытьё, где стройные ряды русских крестьян с асфальтовым скрежетом пашут дворовую территорию…
А затем над твоим ухом звучит вкрадчивый голос:
– Вставай, гений! Поднимай свою задницу, продажная душа!
Голос из мобильника обращается ко мне. Я, конечно, не гений, но и не совсем уж пропащий. Истина лежит где-то в середине: чуть дальше от гения, чуть ближе к продажной душе.
А кем ещё может быть журналист в период бурных исторических событий?
И вообще – кто не продаётся в нынешнюю, информационную эпоху?
Я продаю свой талант, свои способности борзописца, а медийные олигархи покупают мой труд за деньги. За хорошие деньги. Иногда – за очень хорошие. Мне повезло. Некоторых покупают совсем за плохие деньги. Когда у тебя нет способностей борзописца, тебе платят смешные деньги. Сажают тебя в отдел писем, и ты процеживаешь словесное дерьмо в надежде, что блеснёт какая-нибудь случайная крупица информации, хотя бы для скандального подвала первой полосы. Например: дедушка недоглядел за внуком, попавшим под машину, – и повесился у себя на кухне…
Тьфу!
Такая нынче информация. Такая нынче пресса. Такие нынче гении.
Но вставать надо. Половина девятого. В десять – летучка. Раз в неделю я обязан являться в редакцию к началу рабочего дня. Пред ясные очи руководства и коллектива.
Издавая тяжкие стоны, я встаю, подхожу к окну. Шторы – вон.
А там, снаружи – прекрасное майское утро, и солнечный блик в каком-то оконном стекле заставляет меня зажмуриться на секунду…
Машина моя стоит на своём месте, целёхонькая, и поблёскивает своей перламутровой крышей.
В общем, мир не так уж и плох, каким чудится в первую секунду пробужденья.
Таким образом, отчасти примирённый с миром, я плетусь в ванную, залезаю в душ. Горячие струи смывают с меня последние остатки сна, вялости, даже кое-какие мысли для летучки рождаются в моём приободрившемся мозгу. И собственная физиономия, вопреки опасению, не раздражает меня в процессе бритья. Осталось только: чашка кофе, кусок сыру, три минуты на первую сигарету, и я готов к бою.
Выхожу из квартиры, сую ключ в замочную скважину. Тотчас за соседней дверью – шорох.
Сосед. Чёрт его знает, как он угадывает, когда я ухожу из дому. Я ведь не клерк, бывает, валяюсь в постели до полудня. Случается, вообще не являюсь домой. Никакого графика, полная анархия, стихия случайности и непредсказуемости.
Но когда бы я ни появился на лестничной площадке, сосед – за дверью – тут как тут. Неловко мужику стрелять мои сигареты каждый день, поэтому иной раз не показывается, шуршит за дверью и молчит.
Сейчас я с ним общаться не расположен. Кладу пару сигарет на перила, ступаю на лестницу, иду по ступенькам вниз.
Замок щёлкает в ту секунду, когда я делаю поворот. Соседская физиономия появляется в щели между дверью и стеной.
– Привет, Димыч! – говорит сосед и при этом как-то странно выворачивает голову, глядя на меня правым глазом, когда ему ловчее – левым.
– Привет! – отвечаю я и на секунду торможу – приглядываюсь.
Ага, башкою он крутит оттого, что у него весь левый глаз заплыл синяком.
– Что ж ты бабе своей позволяешь, а? – говорю я и бегу вниз.
На спуск с четвёртого этажа уходит полминуты. Когда я поднимаю голову вверх – рожа соседа торчит над перилами. Мне показалось даже – удивлённая рожа.
Во дворе я завожу машину, оглядываю её, мою ласточку, по периметру, – нет ли каких ущербов. Московский двор – такое место, что можно ждать самого неприятного сюрприза. Проколотой шины, поцарапанного крыла, прилепленной жвачки на переднем стекле.
Слава богу, всё чисто, я снова лезу внутрь и успеваю заметить в подъездном окне четвёртого этажа ту же соседскую физиономию.
– Здравствуйте, уважаемый Дмитрий! – раздаётся над моим ухом радостный голос.
Бравый дворник Нурали стоит слева по борту. В руках – метла, в пол-лица – металлическая улыбка.
– С вашей машиной всё в порядке! – торжественно говорит Нурали. – Мы следили за ней.
«Мы» – это та компания, что вечно торчит у Нурали в подвале. Он сам, женщина, замотанная в платок, какие-то мужики в тюбетейках.
– Ваша машина всегда будет в порядке, – продолжает Нурали, – пока я отвечаю за
этот двор.
Я вздыхаю и машу рукой. Хотел ему сказать пару ласковых за то, что спать не даёт по утрам, но у меня не хватает духу отвечать руганью на такую преданность. Дело в том, что полгода назад я напечатал в нашем жёлтом листке статью о положении гастарбайтеров в Москве. Ничего особенного, пару жаренных фактов, пару фотографий, пару риторических восклицаний о правах человека. Но как-то раз ко мне домой явилась странная компания из азиатов и лиц кавказского происхождения. Они принесли корзину с фруктами, здоровенную бутыль с вином и оставили на прощанье бумажку с номерами телефонов. Нурали сказал, когда они ушли, что эти номера дорогого стоят… С тех пор Нурали каждый день докладывается мне и предлагает девушку для уборки квартиры.
Вот и сейчас он говорит:
– Уважаемый Дима, я всё переживаю, как вы у себя за чистотой следите? Позвольте вам прислать домработницу? Она проверенная, она чистая, она…
Я снова машу рукой, отъезжаю от Нурали. Какая-то мысль не даёт мне покоя, этот дурацкий разговор с дворником сбил меня с какой-то важной мысли. В ту секунду, когда я ныряю в арку, чтобы выехать на Садовое кольцо, – вспоминаю соседа, его синяк и свою фразу о его жене.
И что? – спрашиваю я себя.
Но тут стихия московской улицы отвлекает меня. Десятый час на московских магистралях – это не то время, когда можно размышлять о загадочных синяках под глазом у соседа. Утро московского водителя – это гонка на выживание, это коррида, это бой за место под солнцем, – это адреналин в крови, это густой русский матерок, это горящие глаза и жесты, выразительности которых позавидует любой пластический актёр.
С раннего утра автомобильная лавина с окраин устремляется по столичным артериям к самому сердцу Москвы. К девяти утра автомобильные орды подкатывают к Садовому кольцу и начинают плотно заполнять улицы и переулки центра. И вот тут-то из двора на Сухаревке на своей «Тойоте» вылезаю я, грешный. Миллион раз я сетовал на то, что бог и мои дорогие родители создали меня «совой». Будь я задорным ранним «жаворонком», я не знал бы по утрам автомобильного горя в пределах Садового кольца. Потому что ранним утром Садовое свободно, гулко и просторно, – как говорится, хоть шаром по нему кати.
Но я не «жаворонок», я совсем даже наоборот «сова», и потому я вылезаю на Садовое, когда там не то что яблоку, черенку от яблока некуда упасть. А ехать нужно до зарезу, не спускаться же мне в метро, – мне, который не опускался до него уже лет десять. Говорят, что в метро тесно, душно, грязно и можно запросто подхватить с десяток болезней. Нет уж, увольте меня от метро, лучше я буду торчать каждый день в пробках, но – в своём собственном маленьком пространстве, в своём кресле, со своим радио и своей музыкой.
В общем, я врубаю музыку и ввинчиваюсь в автомобильный поток так, чтобы возле Олимпийского проспекта развернуться под Садовым в противоположную сторону и чесать до Курской. На Сухаревке горит красный, я торможу и невольно смотрю влево, на фасад моего дома. Он высится коричневой громадой с нарушенными пропорциями, словно на полотнах примитивистов, и вдруг мне чудится в одном из окон четвёртого этажа рожа моего соседа. Рожа как будто бы озадаченная, удивлённая, на ней так и написано: что ты сказанул такое, Димыч, про мою жёнку?
Загорается зелёный, я рву с места в карьер и пытаюсь ответить на соседский вопрос: в самом деле, что я такого сказал?
Да ничего особенного я не говорил. Подумаешь, брякнул что-то в том духе, что, дескать, разве можно позволять жене такие штуки?..
Тут, возле светофора на проспекте Сахарова, меня подрезает «девятка» и победно тормозит на красный свет. Выйти бы наружу да начистить морду этому козлу, но в московском потоке только и можно, что мигнуть дальним светом да показать ему вытянутый фак-палец – наверняка глядит, сволочь испуганная, в зеркало заднего вида, с нетерпением ждёт зелёный свет, чтоб драпануть.
Поехали. «Девятка» ныряет вправо, потом влево – удрал, сучий хвост.
Так-так, о чём это я рассуждал перед тем, как?..
Да! Про соседскую жену.
А что про соседскую жену? Подумаешь, заехала супружнику по физиономии. Чего в семейной жизни не бывает. В одной семье муж колотит жену. В другой, как у соседа, всё по-другому, противоположным образом. Дело в том, что сосед – безработный. Уже много лет. Пытается бомбить, но, судя по жёниным тумакам, выходит неважно. А жена вкалывает на двух службах сразу и кормит муженька вместе с лоботрясом-сыном.
Я его спрашиваю, соседа: ты почему, мужик, не работаешь, бьёшь баклуши? А он мне: не могу, говорит, по Москве рулить (он – профессиональный шофёр), пробки, видишь ли, все нервы вымотали. Так вот у нас теперь: работать нервы не выдерживают, а сидеть на шее у жены – вполне.
Так что думается мне, заслужил мой сосед такое обращение. И ведь она ему классно так заехала, от души, наотмашь, как в немом кино: они там пререкались на кухне, вдруг она снимает передник, вешает его на крючок, разворачивается и хрясь ему по мордасам. Видно, переполнилась женская душенька.
Курская. Мне направо, в переулки.
Ещё три минуты, и я у нашего редакционного особняка. Тут, к сожалению, нет моего Нурали, и никто не позаботится о стоянке для моей машины. Дважды я объезжаю особняк по периметру, а затем у меня лопается терпение. И я проделываю то, что строжайше запрещено самим Главным редактором: ставлю машину на резервную стоянку. Для этого мне приходится снять заградительную цепь. Спиною я чувствую взгляд охранника. Интересно, хватит ли у него смелости воспрепятствовать мне, звезде нашей бульварной газеты? Ставлю машину, вешаю цепь на место. Никакой реакции. Охранник решил не связываться, просто позвонил завхозу. А тот уже набирает номер генерального директора. И теперь интрига в том, успеют ли стукнуть о моём самоуправстве Главному до летучки.
Похоже, успели.
Главный садится на своё место во главе стола, окидывает своим проницательным взором присутствующих. Взгляд, который он бросает в мою сторону, не предвещает ничего хорошего.
Ладно – чему быть, того не миновать, от судьбы не уйдёшь, что на роду написано и так далее.
Начинается летучка. Я сижу. Молчу, слушаю доклады отделов. Мне отчитываться необязательно, я спецкор, свободный художник, у меня отношения напрямую с Главным. Вопрос: зачем же я здесь? Ответ: чтобы чувствовать локоть коллектива.
Итак, отдел политики планирует на неделе: интервью политолога с мировым именем (хотя о нём известно только в узких кругах Москвы), семейный портрет лидера думской фракции (говорят, у него премьерские перспективы), целую серию материалов о кооперации со странами СНГ…
– Какая кооперация? – вдруг спрашивает Главный, до того сидевший с отсутствующим видом.
Зав отделом политики (или просто Замполит) поднимает на него глаза, кашляет, проводит рукою по голому черепу, потом осторожно говорит:
– Промышленная, сельскохозяйственная…
– А у нас есть такая кооперация? – спрашивает Главный и переводит взгляд на зава отделом экономики (или просто – на Экономичку, опытного эксперта лет аж так двадцати восьми).
Та, выпрямившись на стуле:
– Да, конечно. Только оценить её очень нелегко.
– Вот как, – замечает Главный. – Вы тогда посмотрите (показывает на Замполита), что у них там… А вообще-то… это что, к политике относится? Какая же это политика?
Замполит жмёт плечами и говорит в стол:
– Какая ни есть.
И тут словно чёрт толкает меня под руку. Я вспоминаю афоризм из автомобильного радио, слегка его редактирую и:
– Политика есть, – говорю я. – Она не может не есть. Она съела уже столько журналистской братии…
Народ тихо прыскает, и все смотрят на Главного. А тот – ноль внимания. Будто не слышал.
– Так что там, – говорит, – в отделе экономики?
Теперь народ смотрит на меня, а я делаю хорошую мину. Но если Главный не отреагировал на мою остроту – это плохой знак.
Экономичка начинает с огромной скоростью трещать про недельный план, состоящий из набора ежедневной информации, аналитических материалов и…
– А гвоздь? – останавливает её трескотню Главный.
– Гвоздь? Разумеется. Есть гвоздь…
Она описывает гвоздевой материал, подготовленный ведущим репортёром лет аж так двадцати трёх. Зачин: экономика России больна, мы проедаем наше будущее. Ядро: три цитаты трёх известных экономистов, которые ссылаются на неважную государственную наследственность страны, плохую социально-генетическую природу граждан, обилие ресурсов (в том смысле, что у нас – чем больше, тем хуже). Финал: надо что-то делать, так жить нельзя.
– Где-то я уже это слышал, – бормочет Замполит.
– Да? – усмехается Экономичка. – Интересно, где?
– У нас, – отвечает ей Главный вместо Заполита. – Месяца два назад. А ты что скажешь? – вдруг спрашивает он меня.
Я гляжу на Экономичку, пожимаю плечами.
– А что? – говорю без нажима, как бы неохотно. – У нас нет других экономистов. У нас нет другого народа. Зато у нас есть много ресурсов.
– Ну да, – кивает Главный. – И ещё у нас нет других журналистов.
Экономичка выпрямляется на стуле и поджимает губы.
– Всё? – спрашивает Главный. – Так… отдел писем? Что там, в отделе писем?
Все оглядываются, ищут начальницу отдела, добрейшей души даму, Марь Палну. Но Марь Палны нет, она, оказывается, больна, её замещает… господи ты боже мой, её замещает Катька.
Катя поднимается со стула, худенькая, строгая, щёки – в красных пятнах.
– Ну, – произносит Главный со вздохом. – Вы… в курсе? Можете изложить?
Катя кивает, прокашливается. Народ хихикает. Бедная девчонка совсем теряется, смотрит в бумажку.
– Вот самое интересное за неделю, – начинает Катя неровным голосом. – Всего тридцать четыре эпизода…
Сколько? – раздаётся от народа с присвистом.
– Тридцать четыре, – не сдаётся Катя. – На мой взгляд, все они имеют определённый интерес для разных отделов…
– Мы вас слушаем, – ободряет девушку Главный, и у меня возникает к нему прямо-таки тёплое чувство. – Самый интересный, по вашему мнению, эпизод.
– Один? – разочарованно уточняет Катя.
– Остальное вы можете передать в отделы, – говорит Главный. – Итак…
– Я уже передала, – говорит Катя. – Ну, хорошо. Вот в этом письме…
– Когда? – спрашивает Главный. Удивлённая, Катя хлопает ресницами. – Когда в отделы передали?
Катя отвечает, что передала ещё позавчера. Главный обводит взором начальников отделов: кто-нибудь обработал? Начотделы молчат секунд пять. Их лица выдают напряжённую работу мысли: хочется соврать (конечно, шеф, всё давно изучили, запустили в работу, уже есть материалы!), но врать опасно – если заставят изложить детали, ты сгорел в ясном пламени начальственного гнева.
Мы над этим работаем, – делают озабоченные лица начотделы. – Всё идёт своим чередом.
– Ну да, – кивает Главный. – Вы над этим работаете. А я бы хотел…
Он на секунду замолкает, а потом формулирует мысль: хотелось бы, чтобы мы над этим – над правдой жизни – работали постоянно. Чтоб не высасывали свои истории из пальца. Чтобы пользовались настоящими соками жизни, которые где ж ещё брать, как не из живого источника – из писем. Да, у нас не высоколобая газета, мы должны давать в материал живинку. Но эту самую живинку брать надобно не с потолка, а черпать прямо из реки по имени «факт».
Он оглядывает присутствующих, а затем добавляет:
– Это касается всех. Даже спецкоров. Может быть, спецкоров в первую очередь.
На секунду повисает звонкая тишина. Народ, затаив дыхание, ждёт продолжения спектакля. Мне бы в такой щекотливой ситуации промолчать, но язык мой – неважный дипломат, он частенько словно бы живёт своей отдельной жизнью. В этом отношении он очень похож на другую часть моего тела, которая тоже норовит вести свою, особую, не совпадающую со здравым смыслом линию поведения…
В общем, я выражаю полную поддержку Главному в борьбе за чистоту его величества факта. Но при этом осторожно выражаю удивление по поводу упрёков в сторону спецкоров. Ведь специальные репортажи – это факты, развёрнутые в интересные истории и ставшие событием. Дружат, ещё как дружат спецкоры с фактической правдой жизни. А если на то пошло, как раз спецкоры-то самые частые посетители отелов писем. Хлебом не покорми спецкора, только дай ему заглянуть в этот самый отдел писем…
Народ молчит, не зная ещё, как реагировать: смеяться или делать вид, что всё очень серьёзно.
– Это правда? – бесстрастно спрашивает Главный.
Он спрашивает Катю, и по её лицу видно, что она не понимает вопроса.
– Часто у вас спецкоры бывают?
Катя смотрит на меня и – как бы сквозь меня. Девочка не умеет врать, но и правду сказать ей не под силу.
– Я не так давно работаю, – с трудом отвечает Катя, – чтобы делать выводы…
Главный вздыхает, качает головой, кивает ей: нус, что там у вас из живого источника фактов?..
Катя смотрит в бумажку, потом поднимает глаза, кашляет и начинает излагать самый интересный эпизод.
Эту историю прислала в своём письме продавщица супемаркета, – то есть, контингент самый что ни на есть – наш.
Итак, среди бела дня вполне приличные с виду посетители вдруг разделись и почти голышом бегали по супермаркету. Причём некоторые из них, люди в возрасте, даже приставали друг к другу… Эта вакханалия длилась четверть часа, а потом нарушители приличий попадали на пол и лежали какое-то время без признаков жизни. Когда они очнулись, то не могли дать никаких толковых объяснений службе безопасности и прибывшей милиции. Они даже утверждали, что ничего не помнят…
Катя заканчивает читать свою бумажку и поднимает голову. Редакционный народ ухмыляется, но смотрит на неё с уважением. Марь Пална никогда не потчевала оперативки такими острыми блюдами.
– Как раз для происшествий на первой полосе, – первым даёт оценку Замполит.
– Да, – кивает Главный, – отдел происшествий разберётся. Все свободны. А вас, – он смотрит на меня, – попрошу остаться.
Народ расходится, у всех на лицах не то чтобы радость в предчувствии моей экзекуции, но уж никак не сочувствие. Ничего удивительного: кто может сочувствовать спецкору? Всё как раз наоборот. Падение специального корреспондента – важнейшее событие для газеты, в такие дни заканчиваются одни карьеры и начинаются другие.
Все эти мысли проносятся в моей голове – пока мы ждём, когда зал заседаний опустеет. И я с удивлением замечаю, что мысль о закате карьеры не вызывает у меня каких-то особенных эмоций.
– Ну, – спрашивает Главный, – как дела?
Я пожимаю плечами. Отвечать в том духе, что, мол, дела идут нормально, – глупо, потому что мы оба знаем истинное положение вещей. За месяц – два материала средней паршивости, недостойных должности спецкора. И ещё какая-то мелочёвка, от которой газете ни холодно, ни жарко. Такой вот итог: что есть я, что нет, – одно и то же.
– Я понимаю, – говорит Главный, – ты, что называется, наелся нашего дерьма по самое горло. Но ты профессионал и хорошо знаешь, что именно за это дерьмо…
– … нам и платят деньги, – заканчиваю я мысль Главного.
– Да, – кивает он. – И как бы ни были высоки твои высокие мысли о призвании журналиста, ты должен давать на гора то, что нужно газете.
Однажды, за бутылкой, я разоткровенничался, разболтался, распушил хвост принципиальности и хохолок самовлюблённости. Дескать, я хоть у вас здесь в жёлтой газетёнке служу, потрафляю дурному народному вкусу, – но могу-то я совсем по-другому, на другом уровне, для другого читателя.
Помню, Главный ответил мне: тогда иди, пиши романы в тиши аллей, под журчанье струй. Там ты будешь счастлив, а здесь делают бабки. Все мы что-то можем, из высокого и принципиального, да вот беда: не платят за это приличных денег. А готов ты быть нищим счастливым поэтом или романистом?
И сейчас Главный не усмехался, не упрекал – нет, ему не до того, ему нужно привести в чувство захандрившего спецкора. Привести в чувство или…
– Ты, Дима, знаешь правила игры, – говорит Главный. – Я тебя не пугаю, но… Или ты придёшь в себя и возьмёшься за ум и за дело, или…
И он смотрит на меня таким взглядом, словно бы уже мысленно перебирает, кем сможет меня заменить.
– Понял, – отвечаю я, встаю и откланиваюсь.
– А я не понял, – тихо говорит Главный. – Что ты понял?
Здесь до меня доходит, что я ошибался. Он ещё не перебирал никого, не искал мне замену. Наоборот, он ожидал, что я – глаза в глаза со своим благодетелем – опомнюсь, приду в себя, попрошу прощения за разгильдяйство, заверю его и т. д. и т. п..
Но у меня нет сил ни просить прощения, ни заверять.
– Дайте мне пару дней, – говорю я и вижу в его глазах растерянность. – А лучше – неделю…
– За свой счёт, – говорит мне в спину Главный.
Мне даже немного жаль его. В сущности, он неплохой мужик и не сделал мне ничего плохого – кроме хорошего. В той системе жизненных координат, которую мы оба признаём. Мне совсем не по душе огорчать его, – как женщину, которую ты разлюбил, но другого выхода нет, как сделать ей больно.
Я направляюсь прямо в отдел писем. Надо же соответствовать легенде. Ну и Катьку надо как-то поддержать.
Она сидит перед компьютером и при моём появлении глубоко вздыхает.
Ну что тут скажешь? Всем в редакции известно, что Катя в меня влюблена. Впрочем, не то диво, что она в меня влюблена, – кто из редакционных женщин моложе сорока не вздыхал по мне хотя бы месяц? – дело в том, что она влюблена в меня давно. Так давно, что уже забыл, когда это началось. Мы с ней выросли в одном дворе, в Медведково, только она на десять лет младше меня. Это я устроил её в редакцию в прошлом году, меня мать попросила, они с Катькой дружат на непонятной для меня платформе. Я замолвил за неё словечко Главному, и Катьку взяли. И она работает. И всегда на меня смотрит, смешная, своими глазами с поволокой так, будто сейчас расплачется. А я, выходит, должен её утешать.
– Так, молодец. В принципе, справилась, – с порога беру я тон строго учителя, когда он разговаривает с влюблённой в него ученицей: мол, брось эти глупости, давай о деле.
Я даже дотрагиваюсь до её пальцев, но тут же отдёргиваю руку, потому что Катька вся вспыхивает. Вот ведь каковы они, девчонки с университетской скамьи. Современные барышни. И что с ними делать?
– Все твои замечательные случаи из реки по имени факт – на моё мыло, – говорю я озабоченно, – Я всё изучу. (Ну да, – мелькает у меня в голове. – Если не выгонят). А там будет видно.
– У тебя всё хорошо? – вдруг спрашивает она и так смотрит мне в душу своими глазами, то ли серенькими, то ли голубенькими, что я с трудом справляюсь с желанием поднять руку и провести пальцами по её лицу.
– У меня всегда всё хорошо! – заявляю я и выхожу в коридор.
Я иду по коридору редакции, и все встречные внимательно смотрят мне в лицо.
«Смотрите, – говорю я сам себе. – Падение спецкора не каждый день происходит в этих стенах. Смотрите, внимательней смотрите! Но как бы вы ни старались, ни следа слабости не увидите вы на моём челе!»
Так говорил я себе, выходя на волю и подходя к своей «Тойоте».
Когда я шёл по редакционному коридору с невозмутимой усмешкой человека, которому всё нипочём, я и в самом деле ощущал себя таким человеком. Но едва я сел в машину, сердце моё, как говорят в плохих романах, сжалось. Семь лет я работал в нашей газетёнке, я её нещадно ругал, но тут я был величиной, тут я заработал кучу денег. Когда я появлялся на тусовках – то именно эту газету я олицетворял. Я и газета – было одно целое. У меня вдруг появилось какое-то нехорошее предчувствие. А значу ли я что-нибудь сам по себе?
Мне так захотелось найти ответ на этот простой вопрос, что я немедленно позвонил одному своему приятелю, редактору ещё одного жёлтого издания. Вроде нашего, но – помельче. Года два он всё зовёт меня к себе, сулит златые горы, а я всегда смеюсь ему в ответ. Мы всегда с ним вместе смеёмся нашему вечному сюжету насчёт моего перехода из одной параши в другую, но помельче. Но зато, как добавляет приятель, на гораздо большие деньги. На что я неизменно спрашиваю: да откуда тебе взять такие деньги?
Я звоню ему, и он начинает разговор именно с этой присказки: когда я, наконец, буду работать не на бульдога Главного, а на него, современного, молодого… Он ещё не закончил вступление, а я кричу:
– Хоть завтра!
Повисает пауза, а затем он говорит:
– Ты в каком смысле?
Я отвечаю, что – в самом прямом. Готов покинуть старого осла Главного и перебраться к тебе – молодому, с перспективой, мулу от жёлтой продажной журналистики.
Тут снова – пауза.
– А что у тебя с ним произошло? – спрашивает приятель.
– Да какая тебе разница! – кричу я. – Главное, что я готов. Пользуйся!
Когда пауза возникает в третий раз, я понимаю, что предчувствие меня не обмануло. Плохие предчувствия всегда сбываются. Потому что хорошие предчувствия – это мечты, а плохие – подсказки.
– Видишь ли, Дима, – начинает приятель, – я только что взял заместителя…
– Небось, заместительшу, – брякаю я наобум и – попадаю в точку.
– Да, женщина. Молодая. А что ты хочешь?.. Чтобы я работал со старой калошей? Если я возьму тебя, то у меня меняется весь редакционный расклад. Мне надо подумать…
– У тебя есть один день, – гордо заявляю я и тут же жалею о своей горячности: ну зачем такой экстремизм, ведь Главный дал целую неделю?..
Но – поздно.
А ко мне подбегают завхоз с охранником и делают умоляющие знаки: немедля выехать с гостевой стоянки, потому что, видите ли, в ворота въезжает серебристый «Мерседес». В «Мерседесе» сидит закадычный дружок Главного, заместитель министра печати, я вижу сквозь тонированное стекло его вздыбленную копну волос.
Эта копна даже не повернулась в мою сторону, когда я проезжал мимо, и меня посетило ещё одно плохое предчувствие: не бывать мне никогда Главным. Ну а замом министра печати – тем более не бывать.
Журналист. У каждого своя любовь
Я снова еду по Садовому кольцу, но теперь – в обратную сторону.
Куда деваться журналисту в первом часу пополудни, когда все бары ещё закрыты?
Некуда.
Сухаревка. А вот и мой дом. Я гляжу на его мрачный фасад, и тотчас вся эта история с синяком соседа всплывает у меня в голове. В результате секундного замешательства я проезжаю мимо поворота на улицу Щепкина и оказываюсь несколько минут спустя на Цветном бульваре. А уж если я на Цветном, то дорога у меня одна – к Сане.
Саня – мой друг, друг с самого детства, мы вместе выросли в хрущёвках на северо-востоке. Мы даже вместе учились в универе, а вот дальше нас разнесло, потому что я стал удачливым щелкопёром, а он скромным филологом и неизвестным писателем.
Что тут скажешь? У каждого из нас – свой маршрут по жизни. И вот мы с Саней бежим этими различными маршрутами, но пытаемся не терять друг друга из виду.
Я набираю Санькин мобильник. Номер недоступен. Набираю домашний. Домашний занят. Сидит в Интернете.
Ладно. Я заезжаю в его дворик, кое-как паркую машину между мусорными баками.
Саня открывает дверь – глаза у него завинчены в разные стороны, жиденькие волосы всклокочены.
– Привет, гений, – говорю я и прохожу внутрь.
Внутри бедно, неуютно, пахнет холостяком. Саня был женат, как и я. У него, как и у меня, есть ребёнок. Только у меня дочь, а у него – сын. То есть, в некотором смысле, наши маршруты не так уж и различаются.
– Ты чего?.. – спрашивает Саня.
– Ты хочешь спросить, чего я припёрся среди белого дня? – уточняю санькину мысль.
Он усмехается. Мы видим друг друга насквозь. Всё-таки это здорово, когда есть человек, который знает тебя, как облупленного.
– Чего, чего? – бормочу я. – А ничего.
Саня пожимает плечами. На нашем языке это значит: не хочешь, не говори. Но куда ты денешься, коли пришёл?
Он прав, мне нужно выговориться, но я не спешу, потому что у нас свои ритуалы.
Сначала мы пьём чай (спиртное в такой час – рановато). Чай плохонький, из пакета. И едим бутерброды с колбасой. Я такую колбасу ел по доброй воле в последний раз при социализме. Но, странное дело, здесь, у Саньки, и чай, и бутерброды с социалистической колбасой мне даже нравятся, уплетаю я их с удовольствием.
– Ну что там у тебя? – говорю я.
Санькины глаза тотчас вспыхивают огнём. И я вспоминаю, что на прошлой неделе он звонил мне, мямлил, вздыхал, а потом раскололся: у него любовь, какая-то неземная, великая любовь. Ну, по телефону разве обсудишь такое вселенское событие, да к тому же я куда-то спешил, пообещал заехать, а потом – потом забыл, подлец. И вспомнил только вот сейчас, в эту секунду.
Так ведь главное – вовремя сориентироваться.
– Ну, давай, повествуй, – со вздохом говорю я. – Что там за любовь.
Мне уже понятно, что теперь не до моих скромных служебных неприятностей.
Итак, она звалась… нет, не Татьяной. И даже не Ольгой. Хотя такое совпадение меня ничуть бы не удивило: у романтика-литератора всё многозначительно и символично.
Девушку зовут Аней.
– Хорошее имя, – замечаю я, не находя никаких символов-ключей.
Девушке Ане чуть за тридцать, она работает в известном банке на очень неслабой должности, что-то по рекламе и пиару. У неё даже есть секретарша и отдельный кабинет.
– Симпатичная?
Саня кивает с таким выражением, что дураку ясно: красавица.
– Блондинка? – произношу я ключевую фразу.
Ключевую – потому что с женской мастью у нас очень сложные взаимоотношения. Сколько вечеров мы провели за обсуждением сакраментального вопроса: брюнетки или блондинки! Так ли уж холодны блондинки? Так ли уж горячи брюнетки? Не пропаганда ли это проклятого Запада? Милые белобрысые славянские барышни или роскошные брюнетистые итальянки-француженки-испанки?
Наши предпочтения менялись с годами и политическими системами. А также – под влиянием наших жён, любовниц и девушек лёгкого поведения, которыми мы иногда довольствовались за неимением в тот день предмета бескорыстной любви.
Поскольку я не помню, на чём остановились в прошлый раз – на нежной возвышенной блонде или страстной кареглазой чернушке, – я спрашиваю осторожно:
– Блондинка?
– У неё карие глаза, – отвечает Саня с такой сдержанной силою, что мне становится даже завидно.
– Значит, брюнетка?
Саня неровно вздыхает и отвечает: она крашеная… Я прячу улыбку и пытаюсь представить картину, как мой Саня, мой простодушный литератор Саня, входит в кабинет преуспевающей красавицы, банковского менеджера. Она поднимается ему навстречу из своего кожаного кресла, протягивает ему руку, он смотрит ей прямо в карие глаза и…
– А что ты там делал, в этом банке? – удивляюсь я.
Банк, офисные красавицы и мой Саня – вещи, совершенно несовместные.
Оказывается, банку исполняется десять лет, банк решил к юбилею тиснуть книжонку, а Саня как раз подвизается на этой ниве. То есть, разумеется, он полагает себя настоящим писателем, но жить как-то надо, настоящая литература не даёт серьёзных доходов, так что приходится снисходить и к такой подёнщине. У каждого из нас своя подёнщина.
Сане подбросил эту денежную работёнку один благодетель, который держит целую свору литературных негров, на самые разные случаи – от написания модных романов по заданной фабуле до изготовления юбилейной корпоративной муры.
И вот Саня входит в кабинет, где сидит крашеная Аня с карими глазами, изящная молодая женщина с прекрасными манерами и ангельским голосом. Всё как в сказке или голливудском фильме.
Они битый час обсуждают проект и так увлекаются, что продолжают свою беседу в ресторане, за обедом.
– За обедом? – Я не верю своим ушам. – Ты пригласил её в ресторан?
Нет, конечно, это даже не пришло бы ему в голову. Кроме того, у Сани нет денег на дорогие заведения. То есть, какие-то деньги есть, но если ты никогда не уверен, хватит ли тебе расплатиться, о каком ресторане может идти речь?
Она сама, кареглазый ангел Аня, предложила перенести обсуждение за обеденный стол.
– Тебе понравилось? – спрашиваю я.
– Не то слово! – мечтательно говорит Саня, и лицо его затуманивается.
– А ели-то что? – уточняю я.
– Ели? – удивленно переспрашивает Саня. – Да какая разница?..
Понятно, – улыбаюсь я. Саня и не заметил, чем его накормили. У него был один предмет для восторгов – его кареглазый ангел Аня.
Интересно, – думаю я, – кто же заплатил за этот обед? Понятное дело, банкирша. И объяснила при этом, что – с корпоративного счёта. Чтобы не травмировать нежную душу писателя.
А затем – затем была счастливая неделя. Они встречались каждый день. Они были в литературном музее, в театре, на концерте органной музыки. Съездили, на её «Мазде», в Истру, полюбовались Новым Иерусалимом.
Ангел Аня даже побывала у Сани в гостях…
– Ты не подумай, это сейчас у меня бардак, – говорит Саня. – А тогда я всё прибрал, кое-что подремонтировал. Я же понимаю, что для неё это…
Он делает такой сожалеющий жест. Я оглядываю кухню. Может быть, он что-то и подремонтировал, но обстановка, мягко говоря, спартанская. Я, конечно, привык, меня не проймёшь, но что касается молодой обеспеченной женщины…
– Она сказала, – счастливо улыбается Саня, – что я живу, как стоик…
Образованная девушка, – думаю я и спрашиваю:
– Ну, и что дальше? Получилось?
Я хотел сказать: трахнулись? – но вовремя спохватился. Словцо не из того лексикона, не для сегодняшнего санькиного настроения.
– Как тебе сказать, – говорит Саня. – Видишь ли…
Значит, не было ничего, думаю я.
Саня подтверждает: не получилось. Вроде бы всё шло хорошо, она сама, первая, поцеловала его, даже сама стала раздеваться, ведь он бы не посмел ничего такого себе позволить. Но потом…
Потом она вдруг села на постели, тряхнула головой и засмеялась. Каким-то странным смехом рассмеялась и принялась одеваться. Оделась, чмокнула его в щёку, сказала: «Созвонимся» – и ушла.
А через день прислала сообщение.
Саня дал мне прочесть.
«Саша, – написала его кареглазая любовь, – у нас ничего не получится. Я пыталась увлечься тобой, мне показалось что-то такое. Не выходит. Прости меня».
– Митька, – тихо говорит Саня. – Я люблю её. Она, она…
Он открывает рот и не может сказать ни слова. И я с ужасом вижу, как из глаз его текут слёзы.
Я встаю, отхожу к окну. Саня отворачивается, утирает лицо ладонью.
– Ты можешь смеяться надо мной, – говорит он глухо, – но я был счастлив. Пусть у меня теперь горе, зато у меня было семь счастливых дней, впервые за десять лет.
Я подхожу к нему сзади, кладу руки на плечи. Я буду последним, кто станет смеяться над Саней. Он всегда плачет, когда по-настоящему влюбляется. У него любовь – всегда трагедия. Почему – бог весть. У него было три настоящих любви. Первая – в школе, вторая в универе, третья – жена. И вот теперь – четвёртая.
– Написал? – спрашиваю я.
Саня всегда пишет стихи, когда влюбляется по уши. Так что сейчас проверим.
Он шмыгает носом, вздыхает и говорит сильным голосом:
Ещё вчера – тебя не было.
А сегодня – ты уже есть.
Я закрываю глаза и вижу
Ямочки на твоих щеках.
Вот так, в японском стиле. Значит, по-настоящему. Четыре любви за тридцать пять лет. Много это или мало?
– Саня, – говорю я, – ты должен понимать, кто она такая. Топ-менеджер банка, у них свой круг, свои удовольствия, свои любови.
– Я понимаю, – отвечает Саня, – мы из разных миров. Но она умная, она тонкая. Она понимает искусство, литературу.
Конечно, она умная. Иначе бы она не занимала такую должность. Карие глаза, прекрасные манеры, ангельский голос. Способная девушка.
– Знаешь, – говорит Саня, – странная штука жизнь. Живёшь годами без любви, без понимания. И ничего, как-то справляешься. И вдруг что-то забрезжит… И ты как мотылёк на огонь.
Он весь напрягается и зажмуривает глаза. Я сжимаю ему плечи. Мы молчим. Нам не нужно слов. Теперь остаётся – всё это пережить.
– Плохо, что у меня эта юбилейная дрянь не идёт, – с трудом говорит Саня. – Сажусь, а она у меня перед глазами.
Я представляю, как он тут, один, пялится в стену, а там всё одно и то же: кареглазый ангел. Вот ведь как: сегодня познакомились, завтра трахнулись… почти что… а в заключение – отставка по телефону. То есть, даже не по телефону, а посредством эсмеэски. Такая нынче любовь.
– Нет уж, братуха, – решительно заявляю я, – давай-ка отделим чувства от бизнеса. Любовь приходит и уходит, а кушать… Как там дальше? Я могу быть спокоен?
Саня вздрагивает от слова «уходит», но – кивает: можешь быть спокоен.
Тут жужжит мой мобильник. На экране – рыжая женщина, она улыбается загадочной улыбкой. Это уже – моя любовь. В прямом и переносном смысле.
– Я уже еду, – говорит Люба.
– Куда? – спрашиваю я.
– Что значит, куда? – в голосе рыжей женщины – металл и возмущение. – Ты что, забыл?
Так. Что я должен помнить? Сегодня же понедельник, а мы встречаемся с Любой по вторникам и пятницам.
– Мы же договорились перенести на понедельник! – Люба словно читает мои мысли. – Ты забыл, негодяй! Я же тебе писала… У меня же завтра месячные!
Оп-па! Я и в самом деле позабыл, занятый своими шкурными проблемами. А если Люба настроилась на постель – свернуть её невозможно, так что надо поспешать.
– Саня, – говорю я строго, – работа и только работа! На днях заеду, вызову тёлок, и ты утопишь горе в вине и распутстве!
– Иди, – машет он рукой, – а то твоя рыжая тебе все яйца оторвёт.
Он пытается шутить – значит, жить будет. Я выбегаю во двор, сажусь в «Тойоту», выруливаю на бульвар. Теперь уж как повезёт: на Таганку, где находится наше гнёздышко, можно доехать и за двадцать минут, и за час двадцать. Во втором случае, тут Саня прав, моим половым органам несдобровать. Впрочем, им придётся туго в любом случае, потому что моя любовь – в прямом и переносном смысле – женщина темпераментная, с ней не соскучишься – во всех смыслах.
Мне удаётся добраться до гнёздышка за сорок минут.
Только поднимаю руку, чтобы сунуть ключ в замок, как дверь распахивается, и за порогом – статная зеленоглазая женщина с копной рыжих волос и – в чёрном пеньюаре.
Она стоит, подбоченясь, постукивает голой ножкой по кафелю и, едва я ступаю в прихожую, принимается колотить меня. Причём, ну точно по санькиному предсказанью, – метит прямо в причинное место.
– Любка, – уворачиваюсь я, – сама же будешь жалеть…
– Негодяй, мерзавец, – шипит она, толкая меня в спальню.
– Я есть хочу, – пытаюсь я сопротивляться.
На что следует ответ: на обед я ещё не заработал.
Меня опрокидывают на кровать и в мгновение ока сдирают с меня одежду. То, что я оказываюсь в полной боевой готовности, немного смягчает мою мучительницу, она ластится ко мне, обцеловывая меня с ног до головы. Так начинаются наши свидания вот уже целый год. Вот уже год я не смотрю на других женщин, потому что моя любовь – во всех смыслах – не даёт мне для этого никакой возможности.
Сбив охотку, Люба позволяет мне перекусить. Мы сидим на кухне, она смотрит, как я поглощаю привезённую ею провизию. Как всякая настоящая женщина, Люба внимательна к мелочам. Её мужчина обязан хорошо выглядеть, он должен хорошо питаться. Всё это для того, чтобы он был способен любить её – во всех смыслах – и чтобы она получала от этой любви глубочайшее удовлетворение. Тоже – во всех смыслах.
После обеда мы опять идём в постель. Если первый любовный акт прошёл у нас быстро и бурно, то на этот раз разыгрывается совсем другая сцена.
На этот раз девушка стыдлива и сдержана. Коварный соблазнитель должен склонить её ко греху. Она пытается ничего ему не позволить. Она отворачивается, она зажимается, она переворачивается на живот. Нужно ласкою растопить её боязнь, необходимо нежностию принудить её раскрыться, словно бутон, навстречу любви… Но и потом, когда девушка позволила чужой мужской силе проникнуть в себя, она не сразу откликается на ритм и зов страсти, ещё много усилий приходится приложить, чтобы она застонала, закричала, а потом и забилась в судорогах оргазма!
Но и это ещё не всё… Коварный соблазнитель не должен останавливаться, и упаси его господь потратить свой боезапас преждевременно. Он должен нежно и страстно продолжать истязать свою жертву, чтобы она смогла добраться до конвульсий еще не раз…
Такая у меня любовь. Во всех смыслах.
Затем мы дремлем. То есть, я сплю, а Люба нежится рядом. Когда я прихожу в себя, она подаёт мне сигарету.
– Так что у тебя происходит? – спрашивает она, глядя на меня в упор своими зелёными глазищами.
– У меня?.. – я пробую валять дурака, но с моей любовью эти номера не проходят.
Она даёт мне понять, что если я забыл о свидании с нею, – тому должны быть серьёзные причины. Она требует выложить все подробности, она у меня такая, ей всё интересно, моя рыжая стерва вникает в каждую деталь моей жизни.
Я не сопротивляюсь. Есть какая-то притягательная новизна в этой строгой опеке. У меня всегда были женщины, которые смотрели на меня снизу вверх, я был для них кумиром, денежным источником, истиной в последней инстанции. Я принимал все решения, а женщины следовали моим прихотям.
Моя нынешняя любовь – совсем другая история. Теперь я не принимаю никаких решений. Я просто плыву по воле любовных волн. Люба сама меня выбрала, сама уложила в постель, сама нашла эту квартиру, сама составила график наших свиданий. И я, удивительное дело, наслаждаюсь своим безволием, своей податливостью. Я, конечно, не альфонс, но… оказывается, быть игрушкой в руках красивой женщины – не такая уж горькая участь.
И вот под прицелом внимательных зелёных глаз я делаю обзор дня – и сразу история с соседским синяком всплывает в моей голове. Что-то там есть, на дне этой истории, что-то не додумано мною до конца. Надо бы спуститься в этот колодец памяти и пошарить там… но Любу мещанские синяки не интересуют.
Зато сцены газетной летучки приводят её в восторг, она слушает с удовольствием, сидя на постели, – и время от времени подёргивает плечами, так что её маленькие груди вздрагивают, а соски заостряются…
Любин интерес не удивителен. Дело в том, что её муж – хозяин издательского холдинга. Я познакомился с Любой как раз на журналистской тусовке, – то есть, она со мной познакомилась.
Когда я передаю ей мой разговор с приятелем-редактором, мне приходит в голову, что он так и не перезвонил мне. Это плохой признак. Моя любовь видит, что у меня испортилась настроение и предлагает мне помощь: она поговорит с мужем, и тот что-нибудь придумает.
– Нет, – говорю я, – не стоит.
Нет, никогда, – думаю я про себя. Можно быть сексуальной игрушкой в руках женщины, но до сих пор я сам решал, где и на кого буду работать. Кроме того, пока о нашей связи не знает никто, но если я появлюсь в газете мужа-олигарха, шила в мешке не утаить.
– Почему? – удивляется моя любовь. – А что изменится?
Нет, – отрезаю я. Люба пожимает плечами, её грудки повторяют это движение, а она, греховодница, словно бы не замечает их наглой сексуальной агрессивности.
А вот рассказ о санькиной любви, против моего ожидания, не вызывает у Любы особенных эмоций. Она только замечает, изогнув стан, что я мог бы захватить с собою Саню, и она бы вмиг излечила парня от безнадежной любви…
– Тебе мало меня одного, распутная ты женщина? – строго замечаю я. – Я уже не говорю о твоём муже…
– И не говори… – отвечает она и, задумавшись, продолжает: – А вообще она поступила благородно. Ну, этот кареглазый ангел…
– Благородно? – переспрашиваю я.
– Да, – отвечает она. – По-человечески.
Я хмыкаю: ничего себе по-человечески!
Люба на полном серьёзе объясняет мне: всё без обману, она попыталась его полюбить, но не получилось.
– Что значит, не получилось? – саркастически спрашиваю я. – Могла бы утешить парня, хотя бы разок.
– Она попыталась, – отвечает Люба. – Но она же не проститутка…
– Ну да, – говорю я. – Она попыталась, а он всю жизнь будет вспоминать и мучиться.
Люба кладёт руку мне на голову, смотрит в упор своими глазюками. А разве это плохо? – шепчет она. Бедному поэту подарили счастливую неделю любви. И пусть теперь страдает. Может быть, из этих страданий выльется что-нибудь путное, в литературном смысле.
– Он не поэт, – ворчу я. – Он прозаик.
– Ничего, – отвечает Люба. – Пусть напишет роман. Не про заек. А про любовь.
Журналист. Полёт
Я сворачиваю с Садового кольца к себе во двор как раз в ту секунду, когда край солнца дрожит над эстакадой, готовый окончательно исчезнуть.
Ничего себе денёк, – мелькает в моей голове, когда я выхожу из «Тойоты».
– Добрый вечер, Дмитрий Анатольевич! – возникает за левым плечом Нурали. – Можете не беспокоиться, с машиной всё будет в порядке.
Я не очень беспокоюсь, но всё равно приятно, когда проявляют заботу.
Иду к подъезду и вдруг:
– Папа!
Моя родная дочь, моя Лёлька бежит по двору и с ходу кидается мне на шею.
Я её целую, она меня целует, и с полминуты мы так обнимаемся, – что называется, от души. Я не могу на дочку наглядеться, а она уже отстраняется, смущённая…
– Ну, перестань, ну всё, пап…
– Что ты здесь делаешь? – говорю я. – Почему не позвонила?
Лёлька начинает укоризненно сопеть (ну, точно, как её мать), а я вижу на телефоне пять её звонков.
– Ладно, виноват, – сдаюсь я, – пошли домой, там разберёмся…
Но Лёлька стоит на месте.
– Не могу, пап, меня ждут…
Кто ждёт? Я беспокойно оглядываюсь. Только ухажёров мне ещё не хватало… Но на лавке у песочницы сидят две девчонки. Слава богу.
– Послушай, папуль, – начинает Лёлька, и я уже понимаю, о чём речь, и достаю кошелёк. – Ты что, забыл?..
Так, что я ещё упустил из виду?
– У мамы день рождения в субботу, – с нажимом говорит дочка, а я пускаюсь в доказательства того, что я всё прекрасно помню, до субботы ещё полно времени…
– Папа!.. Деньги на подарок… Что мне, у него просить?
«Он» – теперешний муж моей бывшей жены. Не могу сказать, что меня сильно огорчают натянутые отношения Лёльки и этого человека. Хотя он вроде бы приличный малый. И, кажется, добрый. Иначе бы ему не удалось ужиться с матерью моей дочери… Двум львам тесна одна берлога.
Когда я протягиваю дочке деньги, она, чистая душа, берёт не все: многовато… Но потом, забавно закатив глаза, спрашивает скороговоркой: может, ей тоже купить себе духи… или хотя новую туалетную воду?
Она чмокает меня, бежит к песочнице, и все трое направляются к арке. Я слежу за ними с томительном чувством в груди. Возле арки Лёлька оглядывается, машет мне рукой. Всё… Вот как мы теперь общаемся: раз в неделю и на бегу.
Я плетусь в подъезд. Только ступаю на свою площадку, за соседской дверью – шорох.
Чтоб ты провалился! – высказываю я пожелание. Вставляю ключ в замок, и тут за моей спиной – скрип двери. Поворачиваю ключ. За спиной – сопенье.
– Ты меня достал, Гришка, – говорю не оборачиваясь. – А если я замужнюю даму захочу привести? Ты же не даёшь мне никакой возможности держать в секрете мои шуры-муры. Ну чего ты молчишь, обормот, тебе всего лишь глаз подбили, а не язык усекли?
Что-то заставляет меня оглянуться. В дверях стоит соседская жена и глядит на меня с непонятным выражением. За её плечом видна Гришкина физиономия.
– О, господи! – говорю я и скрываюсь в своей квартире.
Я – без сил. День укатал меня так, что никакой сивке-бурке не снилось. Тем не менее, верный своей «совиной» натуре, я ещё несколько часов провожу в полусонном состоянии – у телевизора, за книжкой и вообще – просто так шатаюсь по квартире из угла в угол, думая о том, как бы сейчас хорошо было болтать с Лёлькой обо всём на свете. Но ничего не попишешь, такая у нас судьба – жить порознь, мне – мучиться, а ей – не знаю. Боюсь – она привыкла, что папа – где-то в стороне…
Наконец, совершенно разбитый, я укладываюсь в постель. Усталость обнимает меня, словно верная жена, укладывает меня поудобней, подворачивает простынку под локоть. Я даже постанываю-мурлычу, – на славу погулявший по жизненным крышам котяра.
Сон готов принять меня в своё лоно. Вот только последний штрих уходящего дня – взгляд сверху. Надо лишь представить себя самого, лежащего ничком. То есть, нужно приподняться над самим собой, увидеть себя, раскинувшегося на постели. Затем ещё приподняться. И вот уже видна вся квартира, и ты сам – маленький человечек, отходящий ко сну…
…Меня научил такому способу засыпать один странный человек. Я даже не знаю, кто он такой и как его зовут. Мы встретились на какой-то тусовке, разговорились, понравились друг другу. Так бывает: среди суеты и галдежа вдруг появляется человек, с которым у тебя одинаковые реакции. Ты – остроту, он – сарказм, и всё как-то в жилу, и оба понимают друг друга с полуслова. Уже не помню, отчего мы с ним принялись обсуждать проблемы сна, – но он объяснил мне, как нужно засыпать по-настоящему. Я ещё посмеялся над этим его – «по-настоящему»…
…И вот уже видна квартира – сверху, в плане, и маленький человек, раскинувшийся на постели, под простынёй. Он, человек, на грани сна и яви, в том состоянии, когда душа едва держится в теле. Он томится, подёргивает плечами, ногами – словно готовится отпустить кого-то на волю, словно сейчас он с кем-то расстанется…
А вот, за стеною, другая квартира: кухня, два человека, мужчина и женщина.
«Пожаловался, козёл!..» – презрительно говорит женщина.
«Ё-моё… Сколько раз тебе повторять?..» – отвечает мужчина и непроизвольно дотрагивается до глаза.
«Картошку доешьте, дармоеды, завтра холодная будет… – женщина поднимает и опускает крышку с огромной сковороды. – Слышишь, Витька!» – кричит она кому-то.
«Он в наушниках, не слышит», – говорит мужчина.
«Пожаловался, мудак! – горько говорит женщина. – Да тебя убить мало, тунеядца, а я ведь никому не жалуюсь!»
«Да не говорил я ему ничего!» – кричит мужчина.
«А откуда он знает?» – ещё громче кричит женщина.
«А может, он просто слышал? Вон, через кухню, – отвечает мужчина. – Там слышно, когда тихо, когда ночь».
…Я вздрагиваю и открываю глаза.
Сон ещё свеж во мне, я, как говорится, ещё не заспал его и вижу их, мужчину и женщину, Гришку и его жену, словно ещё секунду назад был с ними за одним столом.
Я сажусь на постели.
Тихо. За окном – начало ночи. Мне так хочется писать, что мой партнёр в трусах возмущён до самой последней крайности.
Я встаю, иду в туалет, на обратном пути – останавливаюсь на пороге комнаты.
Кухня. Гришка говорил, что там всё слышно.
Прохожу на кухню и стою на середине, весь обратившись в слух.
Гудят трубы, музыка где-то наверху. Вдруг – какой-то женский вскрик, но – не разобрать.
Я подхожу к стене, прикладываю ухо. Теперь – мужской бубнёж, но снова – не понятно. Мне припоминается что-то из детства, из каких-то забытых книг – как нужно подслушивать. Я беру кружку, приставляю к стене, прижимаюсь ухом к донышку.
И:
«– Вы картошку съедите или нет! – сразу различаю Гришкину жену. – Не жаловался он… Как работать, так его нет, а как собутыльникам жаловаться, он тут как тут!
– Да и не пил я с ним ни разу! – это уже сам Гришка вопит. – Будет он со мной пить… Ему что, пить не с кем?
– Да мне всё равно, с кем он пьёт! – орёт соседка. – А ты-то – на какие шиши?
– Да когда я пил в последний раз!»
Я опускаю руку, бреду в комнату. Смотрю – в руке кружка. Возвращаюсь, ставлю кружку на стол.
В самом углу окна висит свежая, рыже-лимонного колера – луна. Я гляжу на луну, и она смотрит прямо на меня.
Весь день эта история с Гришкиным синяком пряталась от меня, – уходила, уплывала, оседала, таяла, словно мираж или утренняя дымка.
И вот теперь я должен понять, что происходит, объяснить всё это самому себе, назвать простыми словами.
Что всё это значит?
Сон? Я способен видеть во сне то, что происходит у меня за стеной? Видеть так, будто бы я сам нахожусь там? Что же это за сон?
Вот и вчера я так же отчётливо видел, как соседка заехала Гришке по физиономии, как он обиженно-изумлённо смотрел на неё и как она, оробевшая, кудахтала вокруг него…
Что это такое? Что со мной?
Снова я бреду в комнату, падаю на постель, прячу лицо в подушку, натягиваю простыню на голову. И понимаю, что хитрость с зажмуриванием глаз ничего не даёт, наоборот – как только я закрываю глаза, меня сразу же неудержимо тянет взглянуть на себя со стороны, сверху…
Я испуганно вскидываюсь на постели. Из окна на меня глядит рыжая луна.
Может быть, я псих? – приходит мне в голову.
Что же мне теперь – не спать? Так и прожить всю жизнь с открытыми глазами?
Мне снова вспоминается тот мужик на тусовке, который научил меня засыпать этим замечательным способом: надо только попытаться взглянуть на себя – со стороны, сверху, например, попробовать увидеть свой затылок, а потом – свою спину, а потом – уже всего себя…
И вот уже видна сверху, в плане, квартира и маленький человек, раскинувшийся на постели, под простынёй. Он, человек, на грани сна и яви, в том состоянии, когда душа едва держится в теле. Он томится, постанывает, подёргивает плечами, ногами – словно готовится отпустить кого-то на волю, словно он сейчас с кем-то расстанется. Может быть, ненадолго, а может быть, навсегда…
…Я летал во снах ещё совсем недавно, я даже помню эти ощущения. Чтобы подняться вверх или просто лететь над землёю, нужно проделывать такие движения, будто плывёшь под водой, изгибаясь вдоль оси всего тела. Чем интенсивнее эти изгибающие движения, тем выше скорость или тем круче ты взмываешь вверх…
И вот, вырвавшись на волю воль, я взмываю над Сухаревкой!
Я лечу вверх, прямо в небо, и вскоре земля затягивается легкой дымкой, а на западе край неба светлеет, становится иссиня-голубым.
Я лечу, управляя полётом с помощью тех самых движений, как если бы я был телесен. Наклон вправо – и я лечу в ту сторону и по едва уловимому усиленному току воздуха понимаю, что скорость увеличилась. Я расслабляюсь, выпрямляю воображаемое тело – и чувствую, что скорость упала.
Я ныряю вниз – и земля стремительно приближается ко мне, разворачиваясь во всю свою необъятную великолепную ширь. Москва летит ко мне, сияя миллионами огней, и загибается краями к горизонту. По Садовому кольцу, словно гигантский поток вулканической лавы, переливаясь и пульсируя, течёт, без начала и без конца, автомобильная река. Проспекты рассекают московский выпуклый круг прямыми стремительными радиусами и хордами, по ним растекаются ручейки лавинного потока машин.
Я пикирую на Садовое и несусь вдоль осевой, метрах в трёх над автомобильным потоком, так что один его край мчится мне навстречу, а другой я обгоняю. Как в разрезанном надвое калейдоскопе я вижу мелькающие лица людей в автомобилях: мужские, женские, детские. Эти лица промелькивают мимо, но я успеваю заметить выражение каждого из них, заглянуть им в глаза…
В правой половине потока, с которым мне по пути, я замечаю огромный «Хаммер». Мне всегда хотелось заглянуть внутрь, понять, что за люди ездят в таких чудовищных машинах.
Я осторожно снижаюсь, и мне открывается салон «Хаммера». Маленький человечек сидит за рулём, рядом с ним женщина раза в два побольше. Человечек явно доволен своей судьбой.
Впереди – новенький «Мерседес». А в нём – женщина. Шикарная женщина сидит со скучающим видом на заднем сиденье, смотрит телевизор, вмонтированный в переднее кресло. Женщина великолепна, но – явно скучает. Я б её развеселил, будь я в телесном образе. Как там в русских сказках: и ударился он обземь, и превратился в Иван-царевича, и обнял царевну – и т.д. и т.п..
Но я не в телесном образе, я взмываю над автомобилями, ускоряюсь и в десять секунд пролетаю Садовое от Парка культуры до Сухаревки.
Здесь я на секунду заглядываю на свой этаж.
В моей квартире на постели лежит человек, ничком, чуть прикрытый простынёй.
За стеной тоже все угомонились. Гришка уткнулся своей благоверной под мышку и посапывает, вполне счастливый.
Спускаюсь ниже. Дворницкая. Бравый Нурали сидит за столом и пьёт чай. Перед ним – девушка. Он говорит ей что-то на своём языке, она робко отвечает ему. Наверное, та самая, «чистая», которую он предлагает мне в домработницы?
Я покидаю подвал, и тут острая мысль приходит мне в голову (хотя голова моя осталась внизу).
Кратчайшим маршрутом я лечу по одному московскому адресу.
ВДНХ. Здесь я немного отклоняюсь от маршрута и облетаю знаменитый памятник рабочему и колхознице. Вблизи памятник совсем не привлекателен, покрыт потёками грязи. Я пролетаю между серпом, что в руке у колхозницы, и молотом, который держит рабочий, и устремляюсь прямо в крышу сталинского дома на улице академика Королёва.
С непривычки, от неумения рассчитывать свои новые силы, я пролетаю нужную мне квартиру навылет, так что приходится тормозить и возвращаться.
В спальне, на широкой кровати спит хозяйка квартиры – грузная женщина средних лет. Она всхрапывает при вдохе и посапывает при выдохе.
А где же хозяин? Он в соседней комнате. Мой главный редактор сидит перед телевизором. А в телевизоре – чтобы вы думали? – «Собака на сене», самый финал, где герои обретают, наконец, счастье.
Некоторое время я рассматриваю своего начальника буквально с полуметра. Он по-настоящему увлечён, он волнуется и переживает, словно видит этот фильм впервые.
Затем Главный выключает телевизор и сидит, откинувшись в кресле. Из спальни доносится храп… Лицо Главного снова приобретает знакомое мне замкнутое выражение.
Мне становится не по себе. Даже не знаю, что я хотел увидеть здесь… Что подсмотреть? Чем насладиться?
Я вылетаю вон, поднимаюсь ввысь и, набирая ход, несусь прямо в колокольню Ивана Великого. На подлёте я притормаживаю так, чтобы меня закрутило вокруг колокольни. Манёвр удаётся, я верчусь над Кремлём, и московский ночной пейзаж превращается в поток переплетающихся огненных линий…
Затем я покидаю круговую траекторию вокруг колокольни, наугад, – и едва не ныряю в Москву-реку. Тогда я разгоняюсь над самой гладью воды, пролетаю под Крымским мостом, мимо фрунзенской набережной, в огиб Лужников и так до самого новоарбатского моста. Какими-то десятыми чувствами в своём бешеном полёте я ощущаю слабый ток воздуха, а мириады огней дробятся и переливаются сплошной сияющей радугой…
Спасибо тебе! – кричу я, сам не знаю – кому. – Благодарю тебя за то, что ты дал мне почувствовать, ощутить всё это!
Перед кутузовским мостом я взлетаю, делаю оборот вокруг шпиля гостиницы «Украина», и в этот миг новая идея возникает в моём воспалённом воображении.
Проспект Вернадского – вот куда я теперь направляюсь. А вот и тот самый дом…
Беда только в том, что я не знаю квартиры, я подвозил как-то свою рыжую любовь к подъезду – и всё…
Приходится обследовать все квартиры со второго этажа. Это совсем нетрудно, поскольку большинство обитателей уже спят. Спят молодые, старые, пожилые, одинокие, семейные, а в одной из квартир счастливым сном спят трое: мужчина и две молодки, которые свернулись калачиком по краям постели, словно два цветочных лепестка вкруг своего пестика.
На шестом этаже мужская компания дуется в карты; на седьмом – женская дует «Мартини».
Те, кого я искал, обнаруживаются под самой крышей. Мне следовало бы догадаться сразу, что такой крутой олигарх мог поселиться только в петнхаузе.
Они в спальне и – кто бы мог подумать! – занимаются просмотром порнухи.
Любовь сидит на постели точно в такой же позе, как и со мной, – поджав ноги, грудки победно торчат вперёд. Олигарх лежит на спине, под простынёй, живот торчит бугром.
«Смотри, смотри, – говорит увлечённо Люба, – как он работает задом. То есть, я имею в виду бёдра…»
«Бёдра, – усмехается олигарх, – работает он совсем другим органом».
«Смотри, как он гуляет задницей из стороны в сторону, такие круговые движения…– показывает пальцем Любовь. – Женщина такой кайф ловит…»
Не отрываясь от экрана, она запускает руку под простыню, шарит там. Олигарх скашивает глаза и смотрит с таким интересом, словно жена ищет какую-то чужую для него, незнакомую вещь.
С лёгким вздохом Люба вынимает руку из-под простыни.
«Я сегодня пас», – говорит олигарх.
«Давай просто посмотрим, – говорит Люба и устраивается поудобней, на животе, так что можно видеть всю её фигуру от пяток через точёные ягодицы до макушки с рыжей копной волос. – Смотреть на себя со стороны – это такое особое удовольствие».
«А уж мне на тебя смотреть со стороны…» – иронизирует олигарх.
«Да перестань, – отмахивается Люба. – Подумаешь, любовник… Ну давай завтра выпишем тебе лучших девочек, какие проблемы…»
Если бы я был телесен, то в эту минуту моё состояние вполне можно было назвать – остолбенел. Ни одной мысли не было в моей голове – или где там помещаются мысли у таких эфемерных существ.
Вместе с моей любовью и её мужем я смотрел на огромный экран. А там было что посмотреть. На экране двое занимались сексом. И одним из них – был я.
Надо сказать, я давно хотел заснять наши с Любовью сексуальные игры, да так и не собрался. Со своими прежними подружками я иногда проделывал такие штуки, ставил в угол видеокамеру и запускал её в нужный момент. Как правило, ничего путного из этого не выходило: либо ракурс был не тот и видны были, к примеру, только ноги, либо свет подводил, либо что-нибудь ещё. А тут качество картинки было выше всяческих похвал, из чего проистекал простой вывод: аппаратура профессиональная. И я вспомнил, что в спальне, в нашем гнёздышке, прямо против постели, висит абстрактная картина: ни черта не понятно по сюжету, но что эротика – видно.
Вот куда встроена камера. Ай да Люба, ай да любовь!
Утешает лишь одно: в грязь лицом я не ударил. По тому, с каким неподдельным чувством наблюдала за экраном Люба, было ясно, что она очень довольна. И тем, что было в гнёздышке, и тем, что она имеет возможность пережить эти мгновения вновь.
Но всему приходит конец, запись заканчивается, Люба переворачивается на спину, открывая свою фигурку спереди, и говорит мужу:
«Ну что там у тебя с этим уродом?»
Ну, точь в точь как со мной в нашем гнёздышке. После любовных игр наступает время заняться корпоративными.
«Ты имеешь в виду…» – со вздохом начинает олигарх.
«Да! – говорит Люба. – Я имею в виду его… замминистра! Они продают канал или нет?»
Я уже было собрался покинуть этот странный дом, но упоминание о канале заставило меня повременить.
До меня доходили слухи о возможной приватизации государственного телеканала. Но – мало ли о чём болтают в кулуарах, на кухнях, в барах. Такие дела решаются за очень плотно запертыми дверьми, простому смертному не подобраться.
В общем, если бы мог, я бы навострил уши.
«Понимаешь, – нехотя говорит олигарх, – там всё дело в долях…»
«Но твоя-то доля… она зафиксирована?» – допытывается Люба.
«Что значит, зафиксирована?.. – устало улыбается олигарх. – Нет, милая моя, всё может измениться в любую минуту».
– «Но ведь им нужны твои деньги?» – спрашивает Люба.
Олигарх берёт её за руку и затаскивает на себя. Теперь она лежит на нём, свесив ножки с его живота.
«Да уж, этот интерес неизменен, – усмехается олигарх. – Им очень нужны мои деньги. И белые, и чёрные».
«А нам это нужно? Ты хорошо всё обдумал?» – сомневается Люба.
«Ты спрашиваешь уже в десятый раз», – он сочно хлопает её по ягодице.
Люба говорит, что она очень беспокоится. Олигарх становится серьёзным и отвечает, что у него тоже душа не на месте. С этими сукиными детьми всё может перемениться в мгновение ока, пакет может уменьшиться, а деньги – деньги возрасти. Всё зависит от скорости, конфиденциальности и количества действующих лиц. Чем чиновников больше, то есть, их подставных лиц, – тем пакет меньше, а цена – выше.
«Будь осторожен», – говорит Люба и целует мужа в нос.
Меня, между прочим, она так никогда не целовала. Похоже, она очень хорошо относится к своему мужу.
«Ладно, ладно, – шепчет олигарх и мнёт ей спину и ягодицы. – Может, ещё раз попробуем?»
«А ты не устал?» – спрашивает Люба.
Вместо ответа тот движением бедра сбрасывает жену в одну сторону, движением руки – простыню в другую, а я понимаю, что теперь мне пора покидать эту счастливую семью.
Я взмываю вверх и в один присест оказываюсь так высоко, что мне открывается вся Москва целиком, – она словно гигантское морское чудовище с раскинутыми в область щупальцами – цепочками огней вдоль шоссейных трасс. Я гляжу сверху на это сверкающее переливчатыми огнями земное полотно жизни, и досада грызёт моё сердце, которого у меня сейчас нет, и давит душу, которая, кажется, всё-таки есть.
Что такое любовь? И в прямом, и в переносном смысле?..
Целый год я полагал, что у меня есть любовь. А оказалось, что я для моей любви – и в прямом, и переносном смысле – только энергичный кобель с хорошей задницей, спиной, животом и прочим инструментарием. Всякое бывало у меня, многие роли я исполнял в жизненном спектакле, но в роли учебного пособия для импотентов-олигархов бывать не приходилось.
Но Любка какова, моя рыжеволосая любовь!..
Теперь досада швыряет меня вниз, я стремглав пикирую на столицу нашей родины и внутренний мой штурман обеспечивает посадку возле скромного домика на Цветном бульваре.
Маленькая квартира стоика.
Саня, мой бедный Саня, сидит за компьютером, но взор его устремлён мимо экрана. Он глядит в темноту и прозревает там какую-то другую жизнь, в которой он красив, удачлив и неотразим. Образ кареглазого ангела по-прежнему терзает его настоящее, живое сердце.
Какая несправедливость! – приходит мне в голову. – Вот умный, тонкий, талантливый человек, у него есть почти всё, чтобы покорять прекрасных женщин. Не хватает самой малости: денег, крутой тачки, кудрей погуще, хорошего костюма да кобелиной наглости в глазах. Почему всё это достаётся одним и не даётся другим, тем, кто по-настоящему этого заслуживает?
На прощанье я пытаюсь склонить Саню ко сну. Я нависаю над ним и велю ему спать. И он через минуту начинает позёвывать, потом бредёт в ванную, кое-как чистит зубы и укладывается, наконец, на своё холостяцкое ложе.
Спи, – говорю я ему. – Спи, братишка. И пусть тебе приснится твой кареглазый ангел.
Всё. Одним рывком я перелетаю на Сухаревку.
В моей квартире в той же позе, на животе, чуть подвернув ногу и с простыней на бёдрах, – лежит человек. С непонятным холодком внутри моего нового существа я падаю на этого лежащего ничком человека…
Я просыпаюсь и какое-то время не могу понять, где я и что со мной.
Между шторами – слабая полоска света.
Раннее утро? Или…
Я подношу мобильник к глазам и снова не могу ничего сообразить.
Начало десятого… Вечер? Которого дня?
Понемногу наступает ясность в мыслях. Неужели я проспал почти сутки?
Я прислушиваюсь к своим ощущениям, поднимаю руку, ногу. Всё цело. Всё работает по-прежнему. Чувствую себя прекрасно.
Я закуриваю сигарету и пытаюсь осознать то, что со мной произошло. Ночные мои приключения встают предо мной во всей своей поразительной громаде.
Два часа двадцать пять минут я обдумываю свое положение. Затем поднимаюсь, привожу себя в порядок и зову к себе соседа Гришку.
Фингал у него под глазом обрёл жёлто-фиолетовую гамму. Я даю ему пачку сигарет и велю привести Нурали.
Спустя четверть часа они являются, в глазах – испуг и любопытство.
– Итак, соколы мои, – говорю я им, – слушайте меня внимательно. Я беру вас на работу.
Гришка от удивления разевает рот.
– Ты будешь по совместительству, – поясняю я таджику.
– А что мы должны делать? – спрашивает Гришка. – И какая зарплата?
– Договоримся, – отвечаю я. – Гораздо больше пачки сигарет.
Катя. Будем исправляться
Мне, конечно, крупно повезло, что я работаю в отделе Марь Палны.
Мой шеф – замечательный человек. Она хоть и пожилая тётка, но фору даст, знаете ли, и молоденьким. Таким, например, как я.
Во-первых, она знает уйму всего: и журналистику, и подноготную известных людей, и вообще. Марь Пална в нашем отделе, который состоит из нас двоих, – источник и кладезь всей информации. Она – кладезь, а я технолог: обработка на компьютере и прочие технические мелочи.
Во-вторых, с ней я поняла, что женщины в возрасте – они ещё ой какие женщины. Кто бы мог подумать, что человек на шестом десятке может разбираться в сексе и любви не хуже нас, молодых. И не просто разбираться, а как бы это сказать – жить этим самым сексом. У неё, оказывается, кроме мужа, с которым она поддерживает чисто дружеские отношения, – есть ещё друг-любовник, и у них там всё в полном порядке. Вот так. Мне бы такой порядок.
В-третьих, я за Марь Палной в этом отделе информации и писем, – как за каменной стеной, как у Христа за пазухой. (Гм, интересное выражение. За пазухой у мужчины – одно, а у женщины – ведь совсем другое… Правда, Христос, пусть и мужчина, но – бог. Ну и что? Ничего, просто запуталась). Так вот, в других отделах нашей замечательной газеты обстановочка та ещё. Там народ грустит, плачет и бегает к нам чай пить. Ну и нам всё докладывает.
Например, как Замполит пристаёт к девушкам. Он, говорят, раздаёт задания – выгодные или не очень – в зависимости от того, как девушки к нему относятся. Я уж не знаю, до какой степени всё это верно… Ещё говорят, когда Дима был на должности Замполита, такого не наблюдалось. Наоборот, все хотели с ним работать и не обращали внимания, – какие задания. Я имею в виду девушек.
Вот в это – верю. Мне ли не знать. Ха-ха.
Или вот ещё. Как Экономичка своих угнетает. Самой тридцати нет, а она всех там в бараний рог скручивает, все от неё плачут. Там тоже девушкам достаётся, но уже по другой причине. Потому что Экономичка парням покровительствует. Но парней нет, ни одного, из-за этого большие проблемы у девушек. Поэтому в любимицах у неё ходит самая некрасивая. То есть, я имею в виду, не самая эффектная. Впрочем, всё равно нехорошо сказала. Красивая, некрасивая – это такая скользкая материя. Человек не виноват, что у него скулы широкие. Или нос длинный. Или ноги короткие. А на пять сантиметров длиннее – и всё, стройная. В общем, в таких материях уйма несправедливостей, женщинам не позавидуешь. И шутки здесь неуместны.
Так что будем исправляться, – так любит говорить Марь Пална.
Вот она сейчас входит в отдел, озабоченная, садится за свой стол, то есть, напротив меня, и говорит задумчиво:
– Странные дела творятся в нашем королевстве…
Я сразу – внимательные ушки на макушке. Если шеф чего-то не понимает, значит, происходит что-то необычное.
– За три последние недели вскочили два иска против нас, – размышляет Марь Пална. – И мы готовим два. Юристы мне всё доложили… С чего бы это?
Она смотрит на меня, словно я могу знать ответ. Я – на неё. Глаза у шефа интересные, живые, с такой очаровательной хулиганцой. И я не удивляюсь, что у неё любовник моложе пятью годами.
– Такая мощная, – продолжает Марь Пална, – не побоюсь этого слова, эректильная активность по искам свидетельствует о каких-то неизвестных нам пока флюктуациях…
Наверное, на моём лице отражается непонимание, и мне объясняют, что такое флюктуация.
– В общем, скандалы по Москве громыхают, – качает головой шеф. – Как будто по воле какой-то дирижёрской палочки… Как будто это организованная компания…
– А по каким материалам иски? – спрашиваю я. – Чьи материалы-то?
И тут же понимаю, что можно было и не спрашивать. Марь Пална смотрит на меня с едва уловимой усмешкой, а я чувствую, что краснею. Я очень уважаю своего шефа ещё и потому, что она ни разу не спросила меня про Диму. Она не может не знать всю подоплёку, не может не слышать все эти разговоры про дурочку из отдела писем, влюблённую в лучшего журналиста, – но ни разу не позволила себе ни прямо спросить, ни пошутить.
За последнее время опубликовано три больших Диминых статьи. Одна про свалки, другая про аферу с военным контрактом, третья – про сеть подпольных борделей для элиты. В редакции болтали, что Главный очень доволен, что у них с Димой был острый разговор, и вот после него Дима стал давать один материал за другим.
– Неужели они оба участвуют в этой кампании? – задаёт вопрос Марь Пална.
Вопрос, конечно, риторический. Я только хлопаю глазами.
– Ладно, – машет рукой Марь Пална, – всех загадок нам не разгадать. Пора по домам. В конце концов, в жизни есть кое-что не менее интересное… Я имею в виду живое человеческое общение. Понимаешь, о чём я?..
Она отрывается от своей косметички и смотрит на меня сожалеющим взглядом. Она про Диму меня не спрашивает, зато постоянно критикует мой образ жизни. По её мнению, я должна через день ходить на свидания с разными мужчинами, вести очень насыщенную всякими культурными мероприятиями жизнь, а не сидеть дома c родителями. Впрочем, иногда я подозреваю, что только к пятидесяти годам она стала такой современной светской дамой с широким взглядами на взаимоотношения полов. А когда-то тоже была закомплексованной дурочкой вроде меня.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/viktor-ivanovich-kalitvyanskiy/vykup-42544158/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Виктор Иванович Калитвянский
В этом философско-авантюрном романе человеческие души, оставив свои тела, путешествуют налегке. А одушевлённые автомобили погибают, пытаясь спасти хозяев… Но, несмотря на фантасмагоричность происходящих событий, роман «Выкуп» – это, в сущности, история о дружбе, любви, о вечном стремлении человека выйти за положенные ему пределы…
Журналист. Соседский синяк
Народная мудрость гласит, что утро – вечера – гораздо мудрее…
Я нисколько не сомневаюсь в народной мудрости. Народ – он всё видит, всё знает, всё понимает. Только сказать не может, как та же собака. И поэтому народ никто и никогда не слушает, все только отмахиваются.
Может быть, для моего прадеда, который пахал землю в орловской губернии, утро и в самом деле было прекрасным временем. Возможно, он пробуждался ото сна – полным сил, с верою в себя и в своё будущее. Так ведь чему тут удивляться: прадед жил на своём хуторе, в гармонии с природой, с той средой, которая его окружала. Я даже допускаю, что прадед верил в бога, почитал царя и любил отечество… Хотя непонятно тогда, отчего всю эту замечательную триаду он рука об руку со товарищи пустил в полный исторический распыл в начале двадцатого века?..
Ну а мы, горожане, жители мегаполиса в начале двадцать первого века?
Для нас утро – кошмар.
Ты просыпаешься – одуревший, отупевший, в голове – ни одной связной мысли. В спальне – темно, потому что шторы задёрнуты. Поэтому надо взглянуть на мобильник, он всегда у изголовья. Если повезёт, у тебя ещё целый час на досып. Надо только сбегать в сортир, отлить, а затем – снова в сладкий сон…
Но только ты блаженно ткнулся носом в подушку, как под окном раздаётся такой звук, словно кремлёвская царь-пушка произвела, наконец, свой первый выстрел, – и прямо у тебя над ухом. А это всего лишь громыхнула дверь подъезда. Наверное, ранняя пташка, бравый дворник Нурали стоит на ступеньках крыльца и обозревает свои владения: прямоугольник двора, заключённый в каменную коробку шестиэтажного дома на Сухаревской площади…
Вот он поднимает свой инструмент, метлу, и…
Шарк.
Шарк.
Шарк.
Ну, за что можно любить такое утро?
Ты с проклятьями засовываешь голову в подушки и погружаешься в неверное утреннее забытьё, где стройные ряды русских крестьян с асфальтовым скрежетом пашут дворовую территорию…
А затем над твоим ухом звучит вкрадчивый голос:
– Вставай, гений! Поднимай свою задницу, продажная душа!
Голос из мобильника обращается ко мне. Я, конечно, не гений, но и не совсем уж пропащий. Истина лежит где-то в середине: чуть дальше от гения, чуть ближе к продажной душе.
А кем ещё может быть журналист в период бурных исторических событий?
И вообще – кто не продаётся в нынешнюю, информационную эпоху?
Я продаю свой талант, свои способности борзописца, а медийные олигархи покупают мой труд за деньги. За хорошие деньги. Иногда – за очень хорошие. Мне повезло. Некоторых покупают совсем за плохие деньги. Когда у тебя нет способностей борзописца, тебе платят смешные деньги. Сажают тебя в отдел писем, и ты процеживаешь словесное дерьмо в надежде, что блеснёт какая-нибудь случайная крупица информации, хотя бы для скандального подвала первой полосы. Например: дедушка недоглядел за внуком, попавшим под машину, – и повесился у себя на кухне…
Тьфу!
Такая нынче информация. Такая нынче пресса. Такие нынче гении.
Но вставать надо. Половина девятого. В десять – летучка. Раз в неделю я обязан являться в редакцию к началу рабочего дня. Пред ясные очи руководства и коллектива.
Издавая тяжкие стоны, я встаю, подхожу к окну. Шторы – вон.
А там, снаружи – прекрасное майское утро, и солнечный блик в каком-то оконном стекле заставляет меня зажмуриться на секунду…
Машина моя стоит на своём месте, целёхонькая, и поблёскивает своей перламутровой крышей.
В общем, мир не так уж и плох, каким чудится в первую секунду пробужденья.
Таким образом, отчасти примирённый с миром, я плетусь в ванную, залезаю в душ. Горячие струи смывают с меня последние остатки сна, вялости, даже кое-какие мысли для летучки рождаются в моём приободрившемся мозгу. И собственная физиономия, вопреки опасению, не раздражает меня в процессе бритья. Осталось только: чашка кофе, кусок сыру, три минуты на первую сигарету, и я готов к бою.
Выхожу из квартиры, сую ключ в замочную скважину. Тотчас за соседней дверью – шорох.
Сосед. Чёрт его знает, как он угадывает, когда я ухожу из дому. Я ведь не клерк, бывает, валяюсь в постели до полудня. Случается, вообще не являюсь домой. Никакого графика, полная анархия, стихия случайности и непредсказуемости.
Но когда бы я ни появился на лестничной площадке, сосед – за дверью – тут как тут. Неловко мужику стрелять мои сигареты каждый день, поэтому иной раз не показывается, шуршит за дверью и молчит.
Сейчас я с ним общаться не расположен. Кладу пару сигарет на перила, ступаю на лестницу, иду по ступенькам вниз.
Замок щёлкает в ту секунду, когда я делаю поворот. Соседская физиономия появляется в щели между дверью и стеной.
– Привет, Димыч! – говорит сосед и при этом как-то странно выворачивает голову, глядя на меня правым глазом, когда ему ловчее – левым.
– Привет! – отвечаю я и на секунду торможу – приглядываюсь.
Ага, башкою он крутит оттого, что у него весь левый глаз заплыл синяком.
– Что ж ты бабе своей позволяешь, а? – говорю я и бегу вниз.
На спуск с четвёртого этажа уходит полминуты. Когда я поднимаю голову вверх – рожа соседа торчит над перилами. Мне показалось даже – удивлённая рожа.
Во дворе я завожу машину, оглядываю её, мою ласточку, по периметру, – нет ли каких ущербов. Московский двор – такое место, что можно ждать самого неприятного сюрприза. Проколотой шины, поцарапанного крыла, прилепленной жвачки на переднем стекле.
Слава богу, всё чисто, я снова лезу внутрь и успеваю заметить в подъездном окне четвёртого этажа ту же соседскую физиономию.
– Здравствуйте, уважаемый Дмитрий! – раздаётся над моим ухом радостный голос.
Бравый дворник Нурали стоит слева по борту. В руках – метла, в пол-лица – металлическая улыбка.
– С вашей машиной всё в порядке! – торжественно говорит Нурали. – Мы следили за ней.
«Мы» – это та компания, что вечно торчит у Нурали в подвале. Он сам, женщина, замотанная в платок, какие-то мужики в тюбетейках.
– Ваша машина всегда будет в порядке, – продолжает Нурали, – пока я отвечаю за
этот двор.
Я вздыхаю и машу рукой. Хотел ему сказать пару ласковых за то, что спать не даёт по утрам, но у меня не хватает духу отвечать руганью на такую преданность. Дело в том, что полгода назад я напечатал в нашем жёлтом листке статью о положении гастарбайтеров в Москве. Ничего особенного, пару жаренных фактов, пару фотографий, пару риторических восклицаний о правах человека. Но как-то раз ко мне домой явилась странная компания из азиатов и лиц кавказского происхождения. Они принесли корзину с фруктами, здоровенную бутыль с вином и оставили на прощанье бумажку с номерами телефонов. Нурали сказал, когда они ушли, что эти номера дорогого стоят… С тех пор Нурали каждый день докладывается мне и предлагает девушку для уборки квартиры.
Вот и сейчас он говорит:
– Уважаемый Дима, я всё переживаю, как вы у себя за чистотой следите? Позвольте вам прислать домработницу? Она проверенная, она чистая, она…
Я снова машу рукой, отъезжаю от Нурали. Какая-то мысль не даёт мне покоя, этот дурацкий разговор с дворником сбил меня с какой-то важной мысли. В ту секунду, когда я ныряю в арку, чтобы выехать на Садовое кольцо, – вспоминаю соседа, его синяк и свою фразу о его жене.
И что? – спрашиваю я себя.
Но тут стихия московской улицы отвлекает меня. Десятый час на московских магистралях – это не то время, когда можно размышлять о загадочных синяках под глазом у соседа. Утро московского водителя – это гонка на выживание, это коррида, это бой за место под солнцем, – это адреналин в крови, это густой русский матерок, это горящие глаза и жесты, выразительности которых позавидует любой пластический актёр.
С раннего утра автомобильная лавина с окраин устремляется по столичным артериям к самому сердцу Москвы. К девяти утра автомобильные орды подкатывают к Садовому кольцу и начинают плотно заполнять улицы и переулки центра. И вот тут-то из двора на Сухаревке на своей «Тойоте» вылезаю я, грешный. Миллион раз я сетовал на то, что бог и мои дорогие родители создали меня «совой». Будь я задорным ранним «жаворонком», я не знал бы по утрам автомобильного горя в пределах Садового кольца. Потому что ранним утром Садовое свободно, гулко и просторно, – как говорится, хоть шаром по нему кати.
Но я не «жаворонок», я совсем даже наоборот «сова», и потому я вылезаю на Садовое, когда там не то что яблоку, черенку от яблока некуда упасть. А ехать нужно до зарезу, не спускаться же мне в метро, – мне, который не опускался до него уже лет десять. Говорят, что в метро тесно, душно, грязно и можно запросто подхватить с десяток болезней. Нет уж, увольте меня от метро, лучше я буду торчать каждый день в пробках, но – в своём собственном маленьком пространстве, в своём кресле, со своим радио и своей музыкой.
В общем, я врубаю музыку и ввинчиваюсь в автомобильный поток так, чтобы возле Олимпийского проспекта развернуться под Садовым в противоположную сторону и чесать до Курской. На Сухаревке горит красный, я торможу и невольно смотрю влево, на фасад моего дома. Он высится коричневой громадой с нарушенными пропорциями, словно на полотнах примитивистов, и вдруг мне чудится в одном из окон четвёртого этажа рожа моего соседа. Рожа как будто бы озадаченная, удивлённая, на ней так и написано: что ты сказанул такое, Димыч, про мою жёнку?
Загорается зелёный, я рву с места в карьер и пытаюсь ответить на соседский вопрос: в самом деле, что я такого сказал?
Да ничего особенного я не говорил. Подумаешь, брякнул что-то в том духе, что, дескать, разве можно позволять жене такие штуки?..
Тут, возле светофора на проспекте Сахарова, меня подрезает «девятка» и победно тормозит на красный свет. Выйти бы наружу да начистить морду этому козлу, но в московском потоке только и можно, что мигнуть дальним светом да показать ему вытянутый фак-палец – наверняка глядит, сволочь испуганная, в зеркало заднего вида, с нетерпением ждёт зелёный свет, чтоб драпануть.
Поехали. «Девятка» ныряет вправо, потом влево – удрал, сучий хвост.
Так-так, о чём это я рассуждал перед тем, как?..
Да! Про соседскую жену.
А что про соседскую жену? Подумаешь, заехала супружнику по физиономии. Чего в семейной жизни не бывает. В одной семье муж колотит жену. В другой, как у соседа, всё по-другому, противоположным образом. Дело в том, что сосед – безработный. Уже много лет. Пытается бомбить, но, судя по жёниным тумакам, выходит неважно. А жена вкалывает на двух службах сразу и кормит муженька вместе с лоботрясом-сыном.
Я его спрашиваю, соседа: ты почему, мужик, не работаешь, бьёшь баклуши? А он мне: не могу, говорит, по Москве рулить (он – профессиональный шофёр), пробки, видишь ли, все нервы вымотали. Так вот у нас теперь: работать нервы не выдерживают, а сидеть на шее у жены – вполне.
Так что думается мне, заслужил мой сосед такое обращение. И ведь она ему классно так заехала, от души, наотмашь, как в немом кино: они там пререкались на кухне, вдруг она снимает передник, вешает его на крючок, разворачивается и хрясь ему по мордасам. Видно, переполнилась женская душенька.
Курская. Мне направо, в переулки.
Ещё три минуты, и я у нашего редакционного особняка. Тут, к сожалению, нет моего Нурали, и никто не позаботится о стоянке для моей машины. Дважды я объезжаю особняк по периметру, а затем у меня лопается терпение. И я проделываю то, что строжайше запрещено самим Главным редактором: ставлю машину на резервную стоянку. Для этого мне приходится снять заградительную цепь. Спиною я чувствую взгляд охранника. Интересно, хватит ли у него смелости воспрепятствовать мне, звезде нашей бульварной газеты? Ставлю машину, вешаю цепь на место. Никакой реакции. Охранник решил не связываться, просто позвонил завхозу. А тот уже набирает номер генерального директора. И теперь интрига в том, успеют ли стукнуть о моём самоуправстве Главному до летучки.
Похоже, успели.
Главный садится на своё место во главе стола, окидывает своим проницательным взором присутствующих. Взгляд, который он бросает в мою сторону, не предвещает ничего хорошего.
Ладно – чему быть, того не миновать, от судьбы не уйдёшь, что на роду написано и так далее.
Начинается летучка. Я сижу. Молчу, слушаю доклады отделов. Мне отчитываться необязательно, я спецкор, свободный художник, у меня отношения напрямую с Главным. Вопрос: зачем же я здесь? Ответ: чтобы чувствовать локоть коллектива.
Итак, отдел политики планирует на неделе: интервью политолога с мировым именем (хотя о нём известно только в узких кругах Москвы), семейный портрет лидера думской фракции (говорят, у него премьерские перспективы), целую серию материалов о кооперации со странами СНГ…
– Какая кооперация? – вдруг спрашивает Главный, до того сидевший с отсутствующим видом.
Зав отделом политики (или просто Замполит) поднимает на него глаза, кашляет, проводит рукою по голому черепу, потом осторожно говорит:
– Промышленная, сельскохозяйственная…
– А у нас есть такая кооперация? – спрашивает Главный и переводит взгляд на зава отделом экономики (или просто – на Экономичку, опытного эксперта лет аж так двадцати восьми).
Та, выпрямившись на стуле:
– Да, конечно. Только оценить её очень нелегко.
– Вот как, – замечает Главный. – Вы тогда посмотрите (показывает на Замполита), что у них там… А вообще-то… это что, к политике относится? Какая же это политика?
Замполит жмёт плечами и говорит в стол:
– Какая ни есть.
И тут словно чёрт толкает меня под руку. Я вспоминаю афоризм из автомобильного радио, слегка его редактирую и:
– Политика есть, – говорю я. – Она не может не есть. Она съела уже столько журналистской братии…
Народ тихо прыскает, и все смотрят на Главного. А тот – ноль внимания. Будто не слышал.
– Так что там, – говорит, – в отделе экономики?
Теперь народ смотрит на меня, а я делаю хорошую мину. Но если Главный не отреагировал на мою остроту – это плохой знак.
Экономичка начинает с огромной скоростью трещать про недельный план, состоящий из набора ежедневной информации, аналитических материалов и…
– А гвоздь? – останавливает её трескотню Главный.
– Гвоздь? Разумеется. Есть гвоздь…
Она описывает гвоздевой материал, подготовленный ведущим репортёром лет аж так двадцати трёх. Зачин: экономика России больна, мы проедаем наше будущее. Ядро: три цитаты трёх известных экономистов, которые ссылаются на неважную государственную наследственность страны, плохую социально-генетическую природу граждан, обилие ресурсов (в том смысле, что у нас – чем больше, тем хуже). Финал: надо что-то делать, так жить нельзя.
– Где-то я уже это слышал, – бормочет Замполит.
– Да? – усмехается Экономичка. – Интересно, где?
– У нас, – отвечает ей Главный вместо Заполита. – Месяца два назад. А ты что скажешь? – вдруг спрашивает он меня.
Я гляжу на Экономичку, пожимаю плечами.
– А что? – говорю без нажима, как бы неохотно. – У нас нет других экономистов. У нас нет другого народа. Зато у нас есть много ресурсов.
– Ну да, – кивает Главный. – И ещё у нас нет других журналистов.
Экономичка выпрямляется на стуле и поджимает губы.
– Всё? – спрашивает Главный. – Так… отдел писем? Что там, в отделе писем?
Все оглядываются, ищут начальницу отдела, добрейшей души даму, Марь Палну. Но Марь Палны нет, она, оказывается, больна, её замещает… господи ты боже мой, её замещает Катька.
Катя поднимается со стула, худенькая, строгая, щёки – в красных пятнах.
– Ну, – произносит Главный со вздохом. – Вы… в курсе? Можете изложить?
Катя кивает, прокашливается. Народ хихикает. Бедная девчонка совсем теряется, смотрит в бумажку.
– Вот самое интересное за неделю, – начинает Катя неровным голосом. – Всего тридцать четыре эпизода…
Сколько? – раздаётся от народа с присвистом.
– Тридцать четыре, – не сдаётся Катя. – На мой взгляд, все они имеют определённый интерес для разных отделов…
– Мы вас слушаем, – ободряет девушку Главный, и у меня возникает к нему прямо-таки тёплое чувство. – Самый интересный, по вашему мнению, эпизод.
– Один? – разочарованно уточняет Катя.
– Остальное вы можете передать в отделы, – говорит Главный. – Итак…
– Я уже передала, – говорит Катя. – Ну, хорошо. Вот в этом письме…
– Когда? – спрашивает Главный. Удивлённая, Катя хлопает ресницами. – Когда в отделы передали?
Катя отвечает, что передала ещё позавчера. Главный обводит взором начальников отделов: кто-нибудь обработал? Начотделы молчат секунд пять. Их лица выдают напряжённую работу мысли: хочется соврать (конечно, шеф, всё давно изучили, запустили в работу, уже есть материалы!), но врать опасно – если заставят изложить детали, ты сгорел в ясном пламени начальственного гнева.
Мы над этим работаем, – делают озабоченные лица начотделы. – Всё идёт своим чередом.
– Ну да, – кивает Главный. – Вы над этим работаете. А я бы хотел…
Он на секунду замолкает, а потом формулирует мысль: хотелось бы, чтобы мы над этим – над правдой жизни – работали постоянно. Чтоб не высасывали свои истории из пальца. Чтобы пользовались настоящими соками жизни, которые где ж ещё брать, как не из живого источника – из писем. Да, у нас не высоколобая газета, мы должны давать в материал живинку. Но эту самую живинку брать надобно не с потолка, а черпать прямо из реки по имени «факт».
Он оглядывает присутствующих, а затем добавляет:
– Это касается всех. Даже спецкоров. Может быть, спецкоров в первую очередь.
На секунду повисает звонкая тишина. Народ, затаив дыхание, ждёт продолжения спектакля. Мне бы в такой щекотливой ситуации промолчать, но язык мой – неважный дипломат, он частенько словно бы живёт своей отдельной жизнью. В этом отношении он очень похож на другую часть моего тела, которая тоже норовит вести свою, особую, не совпадающую со здравым смыслом линию поведения…
В общем, я выражаю полную поддержку Главному в борьбе за чистоту его величества факта. Но при этом осторожно выражаю удивление по поводу упрёков в сторону спецкоров. Ведь специальные репортажи – это факты, развёрнутые в интересные истории и ставшие событием. Дружат, ещё как дружат спецкоры с фактической правдой жизни. А если на то пошло, как раз спецкоры-то самые частые посетители отелов писем. Хлебом не покорми спецкора, только дай ему заглянуть в этот самый отдел писем…
Народ молчит, не зная ещё, как реагировать: смеяться или делать вид, что всё очень серьёзно.
– Это правда? – бесстрастно спрашивает Главный.
Он спрашивает Катю, и по её лицу видно, что она не понимает вопроса.
– Часто у вас спецкоры бывают?
Катя смотрит на меня и – как бы сквозь меня. Девочка не умеет врать, но и правду сказать ей не под силу.
– Я не так давно работаю, – с трудом отвечает Катя, – чтобы делать выводы…
Главный вздыхает, качает головой, кивает ей: нус, что там у вас из живого источника фактов?..
Катя смотрит в бумажку, потом поднимает глаза, кашляет и начинает излагать самый интересный эпизод.
Эту историю прислала в своём письме продавщица супемаркета, – то есть, контингент самый что ни на есть – наш.
Итак, среди бела дня вполне приличные с виду посетители вдруг разделись и почти голышом бегали по супермаркету. Причём некоторые из них, люди в возрасте, даже приставали друг к другу… Эта вакханалия длилась четверть часа, а потом нарушители приличий попадали на пол и лежали какое-то время без признаков жизни. Когда они очнулись, то не могли дать никаких толковых объяснений службе безопасности и прибывшей милиции. Они даже утверждали, что ничего не помнят…
Катя заканчивает читать свою бумажку и поднимает голову. Редакционный народ ухмыляется, но смотрит на неё с уважением. Марь Пална никогда не потчевала оперативки такими острыми блюдами.
– Как раз для происшествий на первой полосе, – первым даёт оценку Замполит.
– Да, – кивает Главный, – отдел происшествий разберётся. Все свободны. А вас, – он смотрит на меня, – попрошу остаться.
Народ расходится, у всех на лицах не то чтобы радость в предчувствии моей экзекуции, но уж никак не сочувствие. Ничего удивительного: кто может сочувствовать спецкору? Всё как раз наоборот. Падение специального корреспондента – важнейшее событие для газеты, в такие дни заканчиваются одни карьеры и начинаются другие.
Все эти мысли проносятся в моей голове – пока мы ждём, когда зал заседаний опустеет. И я с удивлением замечаю, что мысль о закате карьеры не вызывает у меня каких-то особенных эмоций.
– Ну, – спрашивает Главный, – как дела?
Я пожимаю плечами. Отвечать в том духе, что, мол, дела идут нормально, – глупо, потому что мы оба знаем истинное положение вещей. За месяц – два материала средней паршивости, недостойных должности спецкора. И ещё какая-то мелочёвка, от которой газете ни холодно, ни жарко. Такой вот итог: что есть я, что нет, – одно и то же.
– Я понимаю, – говорит Главный, – ты, что называется, наелся нашего дерьма по самое горло. Но ты профессионал и хорошо знаешь, что именно за это дерьмо…
– … нам и платят деньги, – заканчиваю я мысль Главного.
– Да, – кивает он. – И как бы ни были высоки твои высокие мысли о призвании журналиста, ты должен давать на гора то, что нужно газете.
Однажды, за бутылкой, я разоткровенничался, разболтался, распушил хвост принципиальности и хохолок самовлюблённости. Дескать, я хоть у вас здесь в жёлтой газетёнке служу, потрафляю дурному народному вкусу, – но могу-то я совсем по-другому, на другом уровне, для другого читателя.
Помню, Главный ответил мне: тогда иди, пиши романы в тиши аллей, под журчанье струй. Там ты будешь счастлив, а здесь делают бабки. Все мы что-то можем, из высокого и принципиального, да вот беда: не платят за это приличных денег. А готов ты быть нищим счастливым поэтом или романистом?
И сейчас Главный не усмехался, не упрекал – нет, ему не до того, ему нужно привести в чувство захандрившего спецкора. Привести в чувство или…
– Ты, Дима, знаешь правила игры, – говорит Главный. – Я тебя не пугаю, но… Или ты придёшь в себя и возьмёшься за ум и за дело, или…
И он смотрит на меня таким взглядом, словно бы уже мысленно перебирает, кем сможет меня заменить.
– Понял, – отвечаю я, встаю и откланиваюсь.
– А я не понял, – тихо говорит Главный. – Что ты понял?
Здесь до меня доходит, что я ошибался. Он ещё не перебирал никого, не искал мне замену. Наоборот, он ожидал, что я – глаза в глаза со своим благодетелем – опомнюсь, приду в себя, попрошу прощения за разгильдяйство, заверю его и т. д. и т. п..
Но у меня нет сил ни просить прощения, ни заверять.
– Дайте мне пару дней, – говорю я и вижу в его глазах растерянность. – А лучше – неделю…
– За свой счёт, – говорит мне в спину Главный.
Мне даже немного жаль его. В сущности, он неплохой мужик и не сделал мне ничего плохого – кроме хорошего. В той системе жизненных координат, которую мы оба признаём. Мне совсем не по душе огорчать его, – как женщину, которую ты разлюбил, но другого выхода нет, как сделать ей больно.
Я направляюсь прямо в отдел писем. Надо же соответствовать легенде. Ну и Катьку надо как-то поддержать.
Она сидит перед компьютером и при моём появлении глубоко вздыхает.
Ну что тут скажешь? Всем в редакции известно, что Катя в меня влюблена. Впрочем, не то диво, что она в меня влюблена, – кто из редакционных женщин моложе сорока не вздыхал по мне хотя бы месяц? – дело в том, что она влюблена в меня давно. Так давно, что уже забыл, когда это началось. Мы с ней выросли в одном дворе, в Медведково, только она на десять лет младше меня. Это я устроил её в редакцию в прошлом году, меня мать попросила, они с Катькой дружат на непонятной для меня платформе. Я замолвил за неё словечко Главному, и Катьку взяли. И она работает. И всегда на меня смотрит, смешная, своими глазами с поволокой так, будто сейчас расплачется. А я, выходит, должен её утешать.
– Так, молодец. В принципе, справилась, – с порога беру я тон строго учителя, когда он разговаривает с влюблённой в него ученицей: мол, брось эти глупости, давай о деле.
Я даже дотрагиваюсь до её пальцев, но тут же отдёргиваю руку, потому что Катька вся вспыхивает. Вот ведь каковы они, девчонки с университетской скамьи. Современные барышни. И что с ними делать?
– Все твои замечательные случаи из реки по имени факт – на моё мыло, – говорю я озабоченно, – Я всё изучу. (Ну да, – мелькает у меня в голове. – Если не выгонят). А там будет видно.
– У тебя всё хорошо? – вдруг спрашивает она и так смотрит мне в душу своими глазами, то ли серенькими, то ли голубенькими, что я с трудом справляюсь с желанием поднять руку и провести пальцами по её лицу.
– У меня всегда всё хорошо! – заявляю я и выхожу в коридор.
Я иду по коридору редакции, и все встречные внимательно смотрят мне в лицо.
«Смотрите, – говорю я сам себе. – Падение спецкора не каждый день происходит в этих стенах. Смотрите, внимательней смотрите! Но как бы вы ни старались, ни следа слабости не увидите вы на моём челе!»
Так говорил я себе, выходя на волю и подходя к своей «Тойоте».
Когда я шёл по редакционному коридору с невозмутимой усмешкой человека, которому всё нипочём, я и в самом деле ощущал себя таким человеком. Но едва я сел в машину, сердце моё, как говорят в плохих романах, сжалось. Семь лет я работал в нашей газетёнке, я её нещадно ругал, но тут я был величиной, тут я заработал кучу денег. Когда я появлялся на тусовках – то именно эту газету я олицетворял. Я и газета – было одно целое. У меня вдруг появилось какое-то нехорошее предчувствие. А значу ли я что-нибудь сам по себе?
Мне так захотелось найти ответ на этот простой вопрос, что я немедленно позвонил одному своему приятелю, редактору ещё одного жёлтого издания. Вроде нашего, но – помельче. Года два он всё зовёт меня к себе, сулит златые горы, а я всегда смеюсь ему в ответ. Мы всегда с ним вместе смеёмся нашему вечному сюжету насчёт моего перехода из одной параши в другую, но помельче. Но зато, как добавляет приятель, на гораздо большие деньги. На что я неизменно спрашиваю: да откуда тебе взять такие деньги?
Я звоню ему, и он начинает разговор именно с этой присказки: когда я, наконец, буду работать не на бульдога Главного, а на него, современного, молодого… Он ещё не закончил вступление, а я кричу:
– Хоть завтра!
Повисает пауза, а затем он говорит:
– Ты в каком смысле?
Я отвечаю, что – в самом прямом. Готов покинуть старого осла Главного и перебраться к тебе – молодому, с перспективой, мулу от жёлтой продажной журналистики.
Тут снова – пауза.
– А что у тебя с ним произошло? – спрашивает приятель.
– Да какая тебе разница! – кричу я. – Главное, что я готов. Пользуйся!
Когда пауза возникает в третий раз, я понимаю, что предчувствие меня не обмануло. Плохие предчувствия всегда сбываются. Потому что хорошие предчувствия – это мечты, а плохие – подсказки.
– Видишь ли, Дима, – начинает приятель, – я только что взял заместителя…
– Небось, заместительшу, – брякаю я наобум и – попадаю в точку.
– Да, женщина. Молодая. А что ты хочешь?.. Чтобы я работал со старой калошей? Если я возьму тебя, то у меня меняется весь редакционный расклад. Мне надо подумать…
– У тебя есть один день, – гордо заявляю я и тут же жалею о своей горячности: ну зачем такой экстремизм, ведь Главный дал целую неделю?..
Но – поздно.
А ко мне подбегают завхоз с охранником и делают умоляющие знаки: немедля выехать с гостевой стоянки, потому что, видите ли, в ворота въезжает серебристый «Мерседес». В «Мерседесе» сидит закадычный дружок Главного, заместитель министра печати, я вижу сквозь тонированное стекло его вздыбленную копну волос.
Эта копна даже не повернулась в мою сторону, когда я проезжал мимо, и меня посетило ещё одно плохое предчувствие: не бывать мне никогда Главным. Ну а замом министра печати – тем более не бывать.
Журналист. У каждого своя любовь
Я снова еду по Садовому кольцу, но теперь – в обратную сторону.
Куда деваться журналисту в первом часу пополудни, когда все бары ещё закрыты?
Некуда.
Сухаревка. А вот и мой дом. Я гляжу на его мрачный фасад, и тотчас вся эта история с синяком соседа всплывает у меня в голове. В результате секундного замешательства я проезжаю мимо поворота на улицу Щепкина и оказываюсь несколько минут спустя на Цветном бульваре. А уж если я на Цветном, то дорога у меня одна – к Сане.
Саня – мой друг, друг с самого детства, мы вместе выросли в хрущёвках на северо-востоке. Мы даже вместе учились в универе, а вот дальше нас разнесло, потому что я стал удачливым щелкопёром, а он скромным филологом и неизвестным писателем.
Что тут скажешь? У каждого из нас – свой маршрут по жизни. И вот мы с Саней бежим этими различными маршрутами, но пытаемся не терять друг друга из виду.
Я набираю Санькин мобильник. Номер недоступен. Набираю домашний. Домашний занят. Сидит в Интернете.
Ладно. Я заезжаю в его дворик, кое-как паркую машину между мусорными баками.
Саня открывает дверь – глаза у него завинчены в разные стороны, жиденькие волосы всклокочены.
– Привет, гений, – говорю я и прохожу внутрь.
Внутри бедно, неуютно, пахнет холостяком. Саня был женат, как и я. У него, как и у меня, есть ребёнок. Только у меня дочь, а у него – сын. То есть, в некотором смысле, наши маршруты не так уж и различаются.
– Ты чего?.. – спрашивает Саня.
– Ты хочешь спросить, чего я припёрся среди белого дня? – уточняю санькину мысль.
Он усмехается. Мы видим друг друга насквозь. Всё-таки это здорово, когда есть человек, который знает тебя, как облупленного.
– Чего, чего? – бормочу я. – А ничего.
Саня пожимает плечами. На нашем языке это значит: не хочешь, не говори. Но куда ты денешься, коли пришёл?
Он прав, мне нужно выговориться, но я не спешу, потому что у нас свои ритуалы.
Сначала мы пьём чай (спиртное в такой час – рановато). Чай плохонький, из пакета. И едим бутерброды с колбасой. Я такую колбасу ел по доброй воле в последний раз при социализме. Но, странное дело, здесь, у Саньки, и чай, и бутерброды с социалистической колбасой мне даже нравятся, уплетаю я их с удовольствием.
– Ну что там у тебя? – говорю я.
Санькины глаза тотчас вспыхивают огнём. И я вспоминаю, что на прошлой неделе он звонил мне, мямлил, вздыхал, а потом раскололся: у него любовь, какая-то неземная, великая любовь. Ну, по телефону разве обсудишь такое вселенское событие, да к тому же я куда-то спешил, пообещал заехать, а потом – потом забыл, подлец. И вспомнил только вот сейчас, в эту секунду.
Так ведь главное – вовремя сориентироваться.
– Ну, давай, повествуй, – со вздохом говорю я. – Что там за любовь.
Мне уже понятно, что теперь не до моих скромных служебных неприятностей.
Итак, она звалась… нет, не Татьяной. И даже не Ольгой. Хотя такое совпадение меня ничуть бы не удивило: у романтика-литератора всё многозначительно и символично.
Девушку зовут Аней.
– Хорошее имя, – замечаю я, не находя никаких символов-ключей.
Девушке Ане чуть за тридцать, она работает в известном банке на очень неслабой должности, что-то по рекламе и пиару. У неё даже есть секретарша и отдельный кабинет.
– Симпатичная?
Саня кивает с таким выражением, что дураку ясно: красавица.
– Блондинка? – произношу я ключевую фразу.
Ключевую – потому что с женской мастью у нас очень сложные взаимоотношения. Сколько вечеров мы провели за обсуждением сакраментального вопроса: брюнетки или блондинки! Так ли уж холодны блондинки? Так ли уж горячи брюнетки? Не пропаганда ли это проклятого Запада? Милые белобрысые славянские барышни или роскошные брюнетистые итальянки-француженки-испанки?
Наши предпочтения менялись с годами и политическими системами. А также – под влиянием наших жён, любовниц и девушек лёгкого поведения, которыми мы иногда довольствовались за неимением в тот день предмета бескорыстной любви.
Поскольку я не помню, на чём остановились в прошлый раз – на нежной возвышенной блонде или страстной кареглазой чернушке, – я спрашиваю осторожно:
– Блондинка?
– У неё карие глаза, – отвечает Саня с такой сдержанной силою, что мне становится даже завидно.
– Значит, брюнетка?
Саня неровно вздыхает и отвечает: она крашеная… Я прячу улыбку и пытаюсь представить картину, как мой Саня, мой простодушный литератор Саня, входит в кабинет преуспевающей красавицы, банковского менеджера. Она поднимается ему навстречу из своего кожаного кресла, протягивает ему руку, он смотрит ей прямо в карие глаза и…
– А что ты там делал, в этом банке? – удивляюсь я.
Банк, офисные красавицы и мой Саня – вещи, совершенно несовместные.
Оказывается, банку исполняется десять лет, банк решил к юбилею тиснуть книжонку, а Саня как раз подвизается на этой ниве. То есть, разумеется, он полагает себя настоящим писателем, но жить как-то надо, настоящая литература не даёт серьёзных доходов, так что приходится снисходить и к такой подёнщине. У каждого из нас своя подёнщина.
Сане подбросил эту денежную работёнку один благодетель, который держит целую свору литературных негров, на самые разные случаи – от написания модных романов по заданной фабуле до изготовления юбилейной корпоративной муры.
И вот Саня входит в кабинет, где сидит крашеная Аня с карими глазами, изящная молодая женщина с прекрасными манерами и ангельским голосом. Всё как в сказке или голливудском фильме.
Они битый час обсуждают проект и так увлекаются, что продолжают свою беседу в ресторане, за обедом.
– За обедом? – Я не верю своим ушам. – Ты пригласил её в ресторан?
Нет, конечно, это даже не пришло бы ему в голову. Кроме того, у Сани нет денег на дорогие заведения. То есть, какие-то деньги есть, но если ты никогда не уверен, хватит ли тебе расплатиться, о каком ресторане может идти речь?
Она сама, кареглазый ангел Аня, предложила перенести обсуждение за обеденный стол.
– Тебе понравилось? – спрашиваю я.
– Не то слово! – мечтательно говорит Саня, и лицо его затуманивается.
– А ели-то что? – уточняю я.
– Ели? – удивленно переспрашивает Саня. – Да какая разница?..
Понятно, – улыбаюсь я. Саня и не заметил, чем его накормили. У него был один предмет для восторгов – его кареглазый ангел Аня.
Интересно, – думаю я, – кто же заплатил за этот обед? Понятное дело, банкирша. И объяснила при этом, что – с корпоративного счёта. Чтобы не травмировать нежную душу писателя.
А затем – затем была счастливая неделя. Они встречались каждый день. Они были в литературном музее, в театре, на концерте органной музыки. Съездили, на её «Мазде», в Истру, полюбовались Новым Иерусалимом.
Ангел Аня даже побывала у Сани в гостях…
– Ты не подумай, это сейчас у меня бардак, – говорит Саня. – А тогда я всё прибрал, кое-что подремонтировал. Я же понимаю, что для неё это…
Он делает такой сожалеющий жест. Я оглядываю кухню. Может быть, он что-то и подремонтировал, но обстановка, мягко говоря, спартанская. Я, конечно, привык, меня не проймёшь, но что касается молодой обеспеченной женщины…
– Она сказала, – счастливо улыбается Саня, – что я живу, как стоик…
Образованная девушка, – думаю я и спрашиваю:
– Ну, и что дальше? Получилось?
Я хотел сказать: трахнулись? – но вовремя спохватился. Словцо не из того лексикона, не для сегодняшнего санькиного настроения.
– Как тебе сказать, – говорит Саня. – Видишь ли…
Значит, не было ничего, думаю я.
Саня подтверждает: не получилось. Вроде бы всё шло хорошо, она сама, первая, поцеловала его, даже сама стала раздеваться, ведь он бы не посмел ничего такого себе позволить. Но потом…
Потом она вдруг села на постели, тряхнула головой и засмеялась. Каким-то странным смехом рассмеялась и принялась одеваться. Оделась, чмокнула его в щёку, сказала: «Созвонимся» – и ушла.
А через день прислала сообщение.
Саня дал мне прочесть.
«Саша, – написала его кареглазая любовь, – у нас ничего не получится. Я пыталась увлечься тобой, мне показалось что-то такое. Не выходит. Прости меня».
– Митька, – тихо говорит Саня. – Я люблю её. Она, она…
Он открывает рот и не может сказать ни слова. И я с ужасом вижу, как из глаз его текут слёзы.
Я встаю, отхожу к окну. Саня отворачивается, утирает лицо ладонью.
– Ты можешь смеяться надо мной, – говорит он глухо, – но я был счастлив. Пусть у меня теперь горе, зато у меня было семь счастливых дней, впервые за десять лет.
Я подхожу к нему сзади, кладу руки на плечи. Я буду последним, кто станет смеяться над Саней. Он всегда плачет, когда по-настоящему влюбляется. У него любовь – всегда трагедия. Почему – бог весть. У него было три настоящих любви. Первая – в школе, вторая в универе, третья – жена. И вот теперь – четвёртая.
– Написал? – спрашиваю я.
Саня всегда пишет стихи, когда влюбляется по уши. Так что сейчас проверим.
Он шмыгает носом, вздыхает и говорит сильным голосом:
Ещё вчера – тебя не было.
А сегодня – ты уже есть.
Я закрываю глаза и вижу
Ямочки на твоих щеках.
Вот так, в японском стиле. Значит, по-настоящему. Четыре любви за тридцать пять лет. Много это или мало?
– Саня, – говорю я, – ты должен понимать, кто она такая. Топ-менеджер банка, у них свой круг, свои удовольствия, свои любови.
– Я понимаю, – отвечает Саня, – мы из разных миров. Но она умная, она тонкая. Она понимает искусство, литературу.
Конечно, она умная. Иначе бы она не занимала такую должность. Карие глаза, прекрасные манеры, ангельский голос. Способная девушка.
– Знаешь, – говорит Саня, – странная штука жизнь. Живёшь годами без любви, без понимания. И ничего, как-то справляешься. И вдруг что-то забрезжит… И ты как мотылёк на огонь.
Он весь напрягается и зажмуривает глаза. Я сжимаю ему плечи. Мы молчим. Нам не нужно слов. Теперь остаётся – всё это пережить.
– Плохо, что у меня эта юбилейная дрянь не идёт, – с трудом говорит Саня. – Сажусь, а она у меня перед глазами.
Я представляю, как он тут, один, пялится в стену, а там всё одно и то же: кареглазый ангел. Вот ведь как: сегодня познакомились, завтра трахнулись… почти что… а в заключение – отставка по телефону. То есть, даже не по телефону, а посредством эсмеэски. Такая нынче любовь.
– Нет уж, братуха, – решительно заявляю я, – давай-ка отделим чувства от бизнеса. Любовь приходит и уходит, а кушать… Как там дальше? Я могу быть спокоен?
Саня вздрагивает от слова «уходит», но – кивает: можешь быть спокоен.
Тут жужжит мой мобильник. На экране – рыжая женщина, она улыбается загадочной улыбкой. Это уже – моя любовь. В прямом и переносном смысле.
– Я уже еду, – говорит Люба.
– Куда? – спрашиваю я.
– Что значит, куда? – в голосе рыжей женщины – металл и возмущение. – Ты что, забыл?
Так. Что я должен помнить? Сегодня же понедельник, а мы встречаемся с Любой по вторникам и пятницам.
– Мы же договорились перенести на понедельник! – Люба словно читает мои мысли. – Ты забыл, негодяй! Я же тебе писала… У меня же завтра месячные!
Оп-па! Я и в самом деле позабыл, занятый своими шкурными проблемами. А если Люба настроилась на постель – свернуть её невозможно, так что надо поспешать.
– Саня, – говорю я строго, – работа и только работа! На днях заеду, вызову тёлок, и ты утопишь горе в вине и распутстве!
– Иди, – машет он рукой, – а то твоя рыжая тебе все яйца оторвёт.
Он пытается шутить – значит, жить будет. Я выбегаю во двор, сажусь в «Тойоту», выруливаю на бульвар. Теперь уж как повезёт: на Таганку, где находится наше гнёздышко, можно доехать и за двадцать минут, и за час двадцать. Во втором случае, тут Саня прав, моим половым органам несдобровать. Впрочем, им придётся туго в любом случае, потому что моя любовь – в прямом и переносном смысле – женщина темпераментная, с ней не соскучишься – во всех смыслах.
Мне удаётся добраться до гнёздышка за сорок минут.
Только поднимаю руку, чтобы сунуть ключ в замок, как дверь распахивается, и за порогом – статная зеленоглазая женщина с копной рыжих волос и – в чёрном пеньюаре.
Она стоит, подбоченясь, постукивает голой ножкой по кафелю и, едва я ступаю в прихожую, принимается колотить меня. Причём, ну точно по санькиному предсказанью, – метит прямо в причинное место.
– Любка, – уворачиваюсь я, – сама же будешь жалеть…
– Негодяй, мерзавец, – шипит она, толкая меня в спальню.
– Я есть хочу, – пытаюсь я сопротивляться.
На что следует ответ: на обед я ещё не заработал.
Меня опрокидывают на кровать и в мгновение ока сдирают с меня одежду. То, что я оказываюсь в полной боевой готовности, немного смягчает мою мучительницу, она ластится ко мне, обцеловывая меня с ног до головы. Так начинаются наши свидания вот уже целый год. Вот уже год я не смотрю на других женщин, потому что моя любовь – во всех смыслах – не даёт мне для этого никакой возможности.
Сбив охотку, Люба позволяет мне перекусить. Мы сидим на кухне, она смотрит, как я поглощаю привезённую ею провизию. Как всякая настоящая женщина, Люба внимательна к мелочам. Её мужчина обязан хорошо выглядеть, он должен хорошо питаться. Всё это для того, чтобы он был способен любить её – во всех смыслах – и чтобы она получала от этой любви глубочайшее удовлетворение. Тоже – во всех смыслах.
После обеда мы опять идём в постель. Если первый любовный акт прошёл у нас быстро и бурно, то на этот раз разыгрывается совсем другая сцена.
На этот раз девушка стыдлива и сдержана. Коварный соблазнитель должен склонить её ко греху. Она пытается ничего ему не позволить. Она отворачивается, она зажимается, она переворачивается на живот. Нужно ласкою растопить её боязнь, необходимо нежностию принудить её раскрыться, словно бутон, навстречу любви… Но и потом, когда девушка позволила чужой мужской силе проникнуть в себя, она не сразу откликается на ритм и зов страсти, ещё много усилий приходится приложить, чтобы она застонала, закричала, а потом и забилась в судорогах оргазма!
Но и это ещё не всё… Коварный соблазнитель не должен останавливаться, и упаси его господь потратить свой боезапас преждевременно. Он должен нежно и страстно продолжать истязать свою жертву, чтобы она смогла добраться до конвульсий еще не раз…
Такая у меня любовь. Во всех смыслах.
Затем мы дремлем. То есть, я сплю, а Люба нежится рядом. Когда я прихожу в себя, она подаёт мне сигарету.
– Так что у тебя происходит? – спрашивает она, глядя на меня в упор своими зелёными глазищами.
– У меня?.. – я пробую валять дурака, но с моей любовью эти номера не проходят.
Она даёт мне понять, что если я забыл о свидании с нею, – тому должны быть серьёзные причины. Она требует выложить все подробности, она у меня такая, ей всё интересно, моя рыжая стерва вникает в каждую деталь моей жизни.
Я не сопротивляюсь. Есть какая-то притягательная новизна в этой строгой опеке. У меня всегда были женщины, которые смотрели на меня снизу вверх, я был для них кумиром, денежным источником, истиной в последней инстанции. Я принимал все решения, а женщины следовали моим прихотям.
Моя нынешняя любовь – совсем другая история. Теперь я не принимаю никаких решений. Я просто плыву по воле любовных волн. Люба сама меня выбрала, сама уложила в постель, сама нашла эту квартиру, сама составила график наших свиданий. И я, удивительное дело, наслаждаюсь своим безволием, своей податливостью. Я, конечно, не альфонс, но… оказывается, быть игрушкой в руках красивой женщины – не такая уж горькая участь.
И вот под прицелом внимательных зелёных глаз я делаю обзор дня – и сразу история с соседским синяком всплывает в моей голове. Что-то там есть, на дне этой истории, что-то не додумано мною до конца. Надо бы спуститься в этот колодец памяти и пошарить там… но Любу мещанские синяки не интересуют.
Зато сцены газетной летучки приводят её в восторг, она слушает с удовольствием, сидя на постели, – и время от времени подёргивает плечами, так что её маленькие груди вздрагивают, а соски заостряются…
Любин интерес не удивителен. Дело в том, что её муж – хозяин издательского холдинга. Я познакомился с Любой как раз на журналистской тусовке, – то есть, она со мной познакомилась.
Когда я передаю ей мой разговор с приятелем-редактором, мне приходит в голову, что он так и не перезвонил мне. Это плохой признак. Моя любовь видит, что у меня испортилась настроение и предлагает мне помощь: она поговорит с мужем, и тот что-нибудь придумает.
– Нет, – говорю я, – не стоит.
Нет, никогда, – думаю я про себя. Можно быть сексуальной игрушкой в руках женщины, но до сих пор я сам решал, где и на кого буду работать. Кроме того, пока о нашей связи не знает никто, но если я появлюсь в газете мужа-олигарха, шила в мешке не утаить.
– Почему? – удивляется моя любовь. – А что изменится?
Нет, – отрезаю я. Люба пожимает плечами, её грудки повторяют это движение, а она, греховодница, словно бы не замечает их наглой сексуальной агрессивности.
А вот рассказ о санькиной любви, против моего ожидания, не вызывает у Любы особенных эмоций. Она только замечает, изогнув стан, что я мог бы захватить с собою Саню, и она бы вмиг излечила парня от безнадежной любви…
– Тебе мало меня одного, распутная ты женщина? – строго замечаю я. – Я уже не говорю о твоём муже…
– И не говори… – отвечает она и, задумавшись, продолжает: – А вообще она поступила благородно. Ну, этот кареглазый ангел…
– Благородно? – переспрашиваю я.
– Да, – отвечает она. – По-человечески.
Я хмыкаю: ничего себе по-человечески!
Люба на полном серьёзе объясняет мне: всё без обману, она попыталась его полюбить, но не получилось.
– Что значит, не получилось? – саркастически спрашиваю я. – Могла бы утешить парня, хотя бы разок.
– Она попыталась, – отвечает Люба. – Но она же не проститутка…
– Ну да, – говорю я. – Она попыталась, а он всю жизнь будет вспоминать и мучиться.
Люба кладёт руку мне на голову, смотрит в упор своими глазюками. А разве это плохо? – шепчет она. Бедному поэту подарили счастливую неделю любви. И пусть теперь страдает. Может быть, из этих страданий выльется что-нибудь путное, в литературном смысле.
– Он не поэт, – ворчу я. – Он прозаик.
– Ничего, – отвечает Люба. – Пусть напишет роман. Не про заек. А про любовь.
Журналист. Полёт
Я сворачиваю с Садового кольца к себе во двор как раз в ту секунду, когда край солнца дрожит над эстакадой, готовый окончательно исчезнуть.
Ничего себе денёк, – мелькает в моей голове, когда я выхожу из «Тойоты».
– Добрый вечер, Дмитрий Анатольевич! – возникает за левым плечом Нурали. – Можете не беспокоиться, с машиной всё будет в порядке.
Я не очень беспокоюсь, но всё равно приятно, когда проявляют заботу.
Иду к подъезду и вдруг:
– Папа!
Моя родная дочь, моя Лёлька бежит по двору и с ходу кидается мне на шею.
Я её целую, она меня целует, и с полминуты мы так обнимаемся, – что называется, от души. Я не могу на дочку наглядеться, а она уже отстраняется, смущённая…
– Ну, перестань, ну всё, пап…
– Что ты здесь делаешь? – говорю я. – Почему не позвонила?
Лёлька начинает укоризненно сопеть (ну, точно, как её мать), а я вижу на телефоне пять её звонков.
– Ладно, виноват, – сдаюсь я, – пошли домой, там разберёмся…
Но Лёлька стоит на месте.
– Не могу, пап, меня ждут…
Кто ждёт? Я беспокойно оглядываюсь. Только ухажёров мне ещё не хватало… Но на лавке у песочницы сидят две девчонки. Слава богу.
– Послушай, папуль, – начинает Лёлька, и я уже понимаю, о чём речь, и достаю кошелёк. – Ты что, забыл?..
Так, что я ещё упустил из виду?
– У мамы день рождения в субботу, – с нажимом говорит дочка, а я пускаюсь в доказательства того, что я всё прекрасно помню, до субботы ещё полно времени…
– Папа!.. Деньги на подарок… Что мне, у него просить?
«Он» – теперешний муж моей бывшей жены. Не могу сказать, что меня сильно огорчают натянутые отношения Лёльки и этого человека. Хотя он вроде бы приличный малый. И, кажется, добрый. Иначе бы ему не удалось ужиться с матерью моей дочери… Двум львам тесна одна берлога.
Когда я протягиваю дочке деньги, она, чистая душа, берёт не все: многовато… Но потом, забавно закатив глаза, спрашивает скороговоркой: может, ей тоже купить себе духи… или хотя новую туалетную воду?
Она чмокает меня, бежит к песочнице, и все трое направляются к арке. Я слежу за ними с томительном чувством в груди. Возле арки Лёлька оглядывается, машет мне рукой. Всё… Вот как мы теперь общаемся: раз в неделю и на бегу.
Я плетусь в подъезд. Только ступаю на свою площадку, за соседской дверью – шорох.
Чтоб ты провалился! – высказываю я пожелание. Вставляю ключ в замок, и тут за моей спиной – скрип двери. Поворачиваю ключ. За спиной – сопенье.
– Ты меня достал, Гришка, – говорю не оборачиваясь. – А если я замужнюю даму захочу привести? Ты же не даёшь мне никакой возможности держать в секрете мои шуры-муры. Ну чего ты молчишь, обормот, тебе всего лишь глаз подбили, а не язык усекли?
Что-то заставляет меня оглянуться. В дверях стоит соседская жена и глядит на меня с непонятным выражением. За её плечом видна Гришкина физиономия.
– О, господи! – говорю я и скрываюсь в своей квартире.
Я – без сил. День укатал меня так, что никакой сивке-бурке не снилось. Тем не менее, верный своей «совиной» натуре, я ещё несколько часов провожу в полусонном состоянии – у телевизора, за книжкой и вообще – просто так шатаюсь по квартире из угла в угол, думая о том, как бы сейчас хорошо было болтать с Лёлькой обо всём на свете. Но ничего не попишешь, такая у нас судьба – жить порознь, мне – мучиться, а ей – не знаю. Боюсь – она привыкла, что папа – где-то в стороне…
Наконец, совершенно разбитый, я укладываюсь в постель. Усталость обнимает меня, словно верная жена, укладывает меня поудобней, подворачивает простынку под локоть. Я даже постанываю-мурлычу, – на славу погулявший по жизненным крышам котяра.
Сон готов принять меня в своё лоно. Вот только последний штрих уходящего дня – взгляд сверху. Надо лишь представить себя самого, лежащего ничком. То есть, нужно приподняться над самим собой, увидеть себя, раскинувшегося на постели. Затем ещё приподняться. И вот уже видна вся квартира, и ты сам – маленький человечек, отходящий ко сну…
…Меня научил такому способу засыпать один странный человек. Я даже не знаю, кто он такой и как его зовут. Мы встретились на какой-то тусовке, разговорились, понравились друг другу. Так бывает: среди суеты и галдежа вдруг появляется человек, с которым у тебя одинаковые реакции. Ты – остроту, он – сарказм, и всё как-то в жилу, и оба понимают друг друга с полуслова. Уже не помню, отчего мы с ним принялись обсуждать проблемы сна, – но он объяснил мне, как нужно засыпать по-настоящему. Я ещё посмеялся над этим его – «по-настоящему»…
…И вот уже видна квартира – сверху, в плане, и маленький человек, раскинувшийся на постели, под простынёй. Он, человек, на грани сна и яви, в том состоянии, когда душа едва держится в теле. Он томится, подёргивает плечами, ногами – словно готовится отпустить кого-то на волю, словно сейчас он с кем-то расстанется…
А вот, за стеною, другая квартира: кухня, два человека, мужчина и женщина.
«Пожаловался, козёл!..» – презрительно говорит женщина.
«Ё-моё… Сколько раз тебе повторять?..» – отвечает мужчина и непроизвольно дотрагивается до глаза.
«Картошку доешьте, дармоеды, завтра холодная будет… – женщина поднимает и опускает крышку с огромной сковороды. – Слышишь, Витька!» – кричит она кому-то.
«Он в наушниках, не слышит», – говорит мужчина.
«Пожаловался, мудак! – горько говорит женщина. – Да тебя убить мало, тунеядца, а я ведь никому не жалуюсь!»
«Да не говорил я ему ничего!» – кричит мужчина.
«А откуда он знает?» – ещё громче кричит женщина.
«А может, он просто слышал? Вон, через кухню, – отвечает мужчина. – Там слышно, когда тихо, когда ночь».
…Я вздрагиваю и открываю глаза.
Сон ещё свеж во мне, я, как говорится, ещё не заспал его и вижу их, мужчину и женщину, Гришку и его жену, словно ещё секунду назад был с ними за одним столом.
Я сажусь на постели.
Тихо. За окном – начало ночи. Мне так хочется писать, что мой партнёр в трусах возмущён до самой последней крайности.
Я встаю, иду в туалет, на обратном пути – останавливаюсь на пороге комнаты.
Кухня. Гришка говорил, что там всё слышно.
Прохожу на кухню и стою на середине, весь обратившись в слух.
Гудят трубы, музыка где-то наверху. Вдруг – какой-то женский вскрик, но – не разобрать.
Я подхожу к стене, прикладываю ухо. Теперь – мужской бубнёж, но снова – не понятно. Мне припоминается что-то из детства, из каких-то забытых книг – как нужно подслушивать. Я беру кружку, приставляю к стене, прижимаюсь ухом к донышку.
И:
«– Вы картошку съедите или нет! – сразу различаю Гришкину жену. – Не жаловался он… Как работать, так его нет, а как собутыльникам жаловаться, он тут как тут!
– Да и не пил я с ним ни разу! – это уже сам Гришка вопит. – Будет он со мной пить… Ему что, пить не с кем?
– Да мне всё равно, с кем он пьёт! – орёт соседка. – А ты-то – на какие шиши?
– Да когда я пил в последний раз!»
Я опускаю руку, бреду в комнату. Смотрю – в руке кружка. Возвращаюсь, ставлю кружку на стол.
В самом углу окна висит свежая, рыже-лимонного колера – луна. Я гляжу на луну, и она смотрит прямо на меня.
Весь день эта история с Гришкиным синяком пряталась от меня, – уходила, уплывала, оседала, таяла, словно мираж или утренняя дымка.
И вот теперь я должен понять, что происходит, объяснить всё это самому себе, назвать простыми словами.
Что всё это значит?
Сон? Я способен видеть во сне то, что происходит у меня за стеной? Видеть так, будто бы я сам нахожусь там? Что же это за сон?
Вот и вчера я так же отчётливо видел, как соседка заехала Гришке по физиономии, как он обиженно-изумлённо смотрел на неё и как она, оробевшая, кудахтала вокруг него…
Что это такое? Что со мной?
Снова я бреду в комнату, падаю на постель, прячу лицо в подушку, натягиваю простыню на голову. И понимаю, что хитрость с зажмуриванием глаз ничего не даёт, наоборот – как только я закрываю глаза, меня сразу же неудержимо тянет взглянуть на себя со стороны, сверху…
Я испуганно вскидываюсь на постели. Из окна на меня глядит рыжая луна.
Может быть, я псих? – приходит мне в голову.
Что же мне теперь – не спать? Так и прожить всю жизнь с открытыми глазами?
Мне снова вспоминается тот мужик на тусовке, который научил меня засыпать этим замечательным способом: надо только попытаться взглянуть на себя – со стороны, сверху, например, попробовать увидеть свой затылок, а потом – свою спину, а потом – уже всего себя…
И вот уже видна сверху, в плане, квартира и маленький человек, раскинувшийся на постели, под простынёй. Он, человек, на грани сна и яви, в том состоянии, когда душа едва держится в теле. Он томится, постанывает, подёргивает плечами, ногами – словно готовится отпустить кого-то на волю, словно он сейчас с кем-то расстанется. Может быть, ненадолго, а может быть, навсегда…
…Я летал во снах ещё совсем недавно, я даже помню эти ощущения. Чтобы подняться вверх или просто лететь над землёю, нужно проделывать такие движения, будто плывёшь под водой, изгибаясь вдоль оси всего тела. Чем интенсивнее эти изгибающие движения, тем выше скорость или тем круче ты взмываешь вверх…
И вот, вырвавшись на волю воль, я взмываю над Сухаревкой!
Я лечу вверх, прямо в небо, и вскоре земля затягивается легкой дымкой, а на западе край неба светлеет, становится иссиня-голубым.
Я лечу, управляя полётом с помощью тех самых движений, как если бы я был телесен. Наклон вправо – и я лечу в ту сторону и по едва уловимому усиленному току воздуха понимаю, что скорость увеличилась. Я расслабляюсь, выпрямляю воображаемое тело – и чувствую, что скорость упала.
Я ныряю вниз – и земля стремительно приближается ко мне, разворачиваясь во всю свою необъятную великолепную ширь. Москва летит ко мне, сияя миллионами огней, и загибается краями к горизонту. По Садовому кольцу, словно гигантский поток вулканической лавы, переливаясь и пульсируя, течёт, без начала и без конца, автомобильная река. Проспекты рассекают московский выпуклый круг прямыми стремительными радиусами и хордами, по ним растекаются ручейки лавинного потока машин.
Я пикирую на Садовое и несусь вдоль осевой, метрах в трёх над автомобильным потоком, так что один его край мчится мне навстречу, а другой я обгоняю. Как в разрезанном надвое калейдоскопе я вижу мелькающие лица людей в автомобилях: мужские, женские, детские. Эти лица промелькивают мимо, но я успеваю заметить выражение каждого из них, заглянуть им в глаза…
В правой половине потока, с которым мне по пути, я замечаю огромный «Хаммер». Мне всегда хотелось заглянуть внутрь, понять, что за люди ездят в таких чудовищных машинах.
Я осторожно снижаюсь, и мне открывается салон «Хаммера». Маленький человечек сидит за рулём, рядом с ним женщина раза в два побольше. Человечек явно доволен своей судьбой.
Впереди – новенький «Мерседес». А в нём – женщина. Шикарная женщина сидит со скучающим видом на заднем сиденье, смотрит телевизор, вмонтированный в переднее кресло. Женщина великолепна, но – явно скучает. Я б её развеселил, будь я в телесном образе. Как там в русских сказках: и ударился он обземь, и превратился в Иван-царевича, и обнял царевну – и т.д. и т.п..
Но я не в телесном образе, я взмываю над автомобилями, ускоряюсь и в десять секунд пролетаю Садовое от Парка культуры до Сухаревки.
Здесь я на секунду заглядываю на свой этаж.
В моей квартире на постели лежит человек, ничком, чуть прикрытый простынёй.
За стеной тоже все угомонились. Гришка уткнулся своей благоверной под мышку и посапывает, вполне счастливый.
Спускаюсь ниже. Дворницкая. Бравый Нурали сидит за столом и пьёт чай. Перед ним – девушка. Он говорит ей что-то на своём языке, она робко отвечает ему. Наверное, та самая, «чистая», которую он предлагает мне в домработницы?
Я покидаю подвал, и тут острая мысль приходит мне в голову (хотя голова моя осталась внизу).
Кратчайшим маршрутом я лечу по одному московскому адресу.
ВДНХ. Здесь я немного отклоняюсь от маршрута и облетаю знаменитый памятник рабочему и колхознице. Вблизи памятник совсем не привлекателен, покрыт потёками грязи. Я пролетаю между серпом, что в руке у колхозницы, и молотом, который держит рабочий, и устремляюсь прямо в крышу сталинского дома на улице академика Королёва.
С непривычки, от неумения рассчитывать свои новые силы, я пролетаю нужную мне квартиру навылет, так что приходится тормозить и возвращаться.
В спальне, на широкой кровати спит хозяйка квартиры – грузная женщина средних лет. Она всхрапывает при вдохе и посапывает при выдохе.
А где же хозяин? Он в соседней комнате. Мой главный редактор сидит перед телевизором. А в телевизоре – чтобы вы думали? – «Собака на сене», самый финал, где герои обретают, наконец, счастье.
Некоторое время я рассматриваю своего начальника буквально с полуметра. Он по-настоящему увлечён, он волнуется и переживает, словно видит этот фильм впервые.
Затем Главный выключает телевизор и сидит, откинувшись в кресле. Из спальни доносится храп… Лицо Главного снова приобретает знакомое мне замкнутое выражение.
Мне становится не по себе. Даже не знаю, что я хотел увидеть здесь… Что подсмотреть? Чем насладиться?
Я вылетаю вон, поднимаюсь ввысь и, набирая ход, несусь прямо в колокольню Ивана Великого. На подлёте я притормаживаю так, чтобы меня закрутило вокруг колокольни. Манёвр удаётся, я верчусь над Кремлём, и московский ночной пейзаж превращается в поток переплетающихся огненных линий…
Затем я покидаю круговую траекторию вокруг колокольни, наугад, – и едва не ныряю в Москву-реку. Тогда я разгоняюсь над самой гладью воды, пролетаю под Крымским мостом, мимо фрунзенской набережной, в огиб Лужников и так до самого новоарбатского моста. Какими-то десятыми чувствами в своём бешеном полёте я ощущаю слабый ток воздуха, а мириады огней дробятся и переливаются сплошной сияющей радугой…
Спасибо тебе! – кричу я, сам не знаю – кому. – Благодарю тебя за то, что ты дал мне почувствовать, ощутить всё это!
Перед кутузовским мостом я взлетаю, делаю оборот вокруг шпиля гостиницы «Украина», и в этот миг новая идея возникает в моём воспалённом воображении.
Проспект Вернадского – вот куда я теперь направляюсь. А вот и тот самый дом…
Беда только в том, что я не знаю квартиры, я подвозил как-то свою рыжую любовь к подъезду – и всё…
Приходится обследовать все квартиры со второго этажа. Это совсем нетрудно, поскольку большинство обитателей уже спят. Спят молодые, старые, пожилые, одинокие, семейные, а в одной из квартир счастливым сном спят трое: мужчина и две молодки, которые свернулись калачиком по краям постели, словно два цветочных лепестка вкруг своего пестика.
На шестом этаже мужская компания дуется в карты; на седьмом – женская дует «Мартини».
Те, кого я искал, обнаруживаются под самой крышей. Мне следовало бы догадаться сразу, что такой крутой олигарх мог поселиться только в петнхаузе.
Они в спальне и – кто бы мог подумать! – занимаются просмотром порнухи.
Любовь сидит на постели точно в такой же позе, как и со мной, – поджав ноги, грудки победно торчат вперёд. Олигарх лежит на спине, под простынёй, живот торчит бугром.
«Смотри, смотри, – говорит увлечённо Люба, – как он работает задом. То есть, я имею в виду бёдра…»
«Бёдра, – усмехается олигарх, – работает он совсем другим органом».
«Смотри, как он гуляет задницей из стороны в сторону, такие круговые движения…– показывает пальцем Любовь. – Женщина такой кайф ловит…»
Не отрываясь от экрана, она запускает руку под простыню, шарит там. Олигарх скашивает глаза и смотрит с таким интересом, словно жена ищет какую-то чужую для него, незнакомую вещь.
С лёгким вздохом Люба вынимает руку из-под простыни.
«Я сегодня пас», – говорит олигарх.
«Давай просто посмотрим, – говорит Люба и устраивается поудобней, на животе, так что можно видеть всю её фигуру от пяток через точёные ягодицы до макушки с рыжей копной волос. – Смотреть на себя со стороны – это такое особое удовольствие».
«А уж мне на тебя смотреть со стороны…» – иронизирует олигарх.
«Да перестань, – отмахивается Люба. – Подумаешь, любовник… Ну давай завтра выпишем тебе лучших девочек, какие проблемы…»
Если бы я был телесен, то в эту минуту моё состояние вполне можно было назвать – остолбенел. Ни одной мысли не было в моей голове – или где там помещаются мысли у таких эфемерных существ.
Вместе с моей любовью и её мужем я смотрел на огромный экран. А там было что посмотреть. На экране двое занимались сексом. И одним из них – был я.
Надо сказать, я давно хотел заснять наши с Любовью сексуальные игры, да так и не собрался. Со своими прежними подружками я иногда проделывал такие штуки, ставил в угол видеокамеру и запускал её в нужный момент. Как правило, ничего путного из этого не выходило: либо ракурс был не тот и видны были, к примеру, только ноги, либо свет подводил, либо что-нибудь ещё. А тут качество картинки было выше всяческих похвал, из чего проистекал простой вывод: аппаратура профессиональная. И я вспомнил, что в спальне, в нашем гнёздышке, прямо против постели, висит абстрактная картина: ни черта не понятно по сюжету, но что эротика – видно.
Вот куда встроена камера. Ай да Люба, ай да любовь!
Утешает лишь одно: в грязь лицом я не ударил. По тому, с каким неподдельным чувством наблюдала за экраном Люба, было ясно, что она очень довольна. И тем, что было в гнёздышке, и тем, что она имеет возможность пережить эти мгновения вновь.
Но всему приходит конец, запись заканчивается, Люба переворачивается на спину, открывая свою фигурку спереди, и говорит мужу:
«Ну что там у тебя с этим уродом?»
Ну, точь в точь как со мной в нашем гнёздышке. После любовных игр наступает время заняться корпоративными.
«Ты имеешь в виду…» – со вздохом начинает олигарх.
«Да! – говорит Люба. – Я имею в виду его… замминистра! Они продают канал или нет?»
Я уже было собрался покинуть этот странный дом, но упоминание о канале заставило меня повременить.
До меня доходили слухи о возможной приватизации государственного телеканала. Но – мало ли о чём болтают в кулуарах, на кухнях, в барах. Такие дела решаются за очень плотно запертыми дверьми, простому смертному не подобраться.
В общем, если бы мог, я бы навострил уши.
«Понимаешь, – нехотя говорит олигарх, – там всё дело в долях…»
«Но твоя-то доля… она зафиксирована?» – допытывается Люба.
«Что значит, зафиксирована?.. – устало улыбается олигарх. – Нет, милая моя, всё может измениться в любую минуту».
– «Но ведь им нужны твои деньги?» – спрашивает Люба.
Олигарх берёт её за руку и затаскивает на себя. Теперь она лежит на нём, свесив ножки с его живота.
«Да уж, этот интерес неизменен, – усмехается олигарх. – Им очень нужны мои деньги. И белые, и чёрные».
«А нам это нужно? Ты хорошо всё обдумал?» – сомневается Люба.
«Ты спрашиваешь уже в десятый раз», – он сочно хлопает её по ягодице.
Люба говорит, что она очень беспокоится. Олигарх становится серьёзным и отвечает, что у него тоже душа не на месте. С этими сукиными детьми всё может перемениться в мгновение ока, пакет может уменьшиться, а деньги – деньги возрасти. Всё зависит от скорости, конфиденциальности и количества действующих лиц. Чем чиновников больше, то есть, их подставных лиц, – тем пакет меньше, а цена – выше.
«Будь осторожен», – говорит Люба и целует мужа в нос.
Меня, между прочим, она так никогда не целовала. Похоже, она очень хорошо относится к своему мужу.
«Ладно, ладно, – шепчет олигарх и мнёт ей спину и ягодицы. – Может, ещё раз попробуем?»
«А ты не устал?» – спрашивает Люба.
Вместо ответа тот движением бедра сбрасывает жену в одну сторону, движением руки – простыню в другую, а я понимаю, что теперь мне пора покидать эту счастливую семью.
Я взмываю вверх и в один присест оказываюсь так высоко, что мне открывается вся Москва целиком, – она словно гигантское морское чудовище с раскинутыми в область щупальцами – цепочками огней вдоль шоссейных трасс. Я гляжу сверху на это сверкающее переливчатыми огнями земное полотно жизни, и досада грызёт моё сердце, которого у меня сейчас нет, и давит душу, которая, кажется, всё-таки есть.
Что такое любовь? И в прямом, и в переносном смысле?..
Целый год я полагал, что у меня есть любовь. А оказалось, что я для моей любви – и в прямом, и переносном смысле – только энергичный кобель с хорошей задницей, спиной, животом и прочим инструментарием. Всякое бывало у меня, многие роли я исполнял в жизненном спектакле, но в роли учебного пособия для импотентов-олигархов бывать не приходилось.
Но Любка какова, моя рыжеволосая любовь!..
Теперь досада швыряет меня вниз, я стремглав пикирую на столицу нашей родины и внутренний мой штурман обеспечивает посадку возле скромного домика на Цветном бульваре.
Маленькая квартира стоика.
Саня, мой бедный Саня, сидит за компьютером, но взор его устремлён мимо экрана. Он глядит в темноту и прозревает там какую-то другую жизнь, в которой он красив, удачлив и неотразим. Образ кареглазого ангела по-прежнему терзает его настоящее, живое сердце.
Какая несправедливость! – приходит мне в голову. – Вот умный, тонкий, талантливый человек, у него есть почти всё, чтобы покорять прекрасных женщин. Не хватает самой малости: денег, крутой тачки, кудрей погуще, хорошего костюма да кобелиной наглости в глазах. Почему всё это достаётся одним и не даётся другим, тем, кто по-настоящему этого заслуживает?
На прощанье я пытаюсь склонить Саню ко сну. Я нависаю над ним и велю ему спать. И он через минуту начинает позёвывать, потом бредёт в ванную, кое-как чистит зубы и укладывается, наконец, на своё холостяцкое ложе.
Спи, – говорю я ему. – Спи, братишка. И пусть тебе приснится твой кареглазый ангел.
Всё. Одним рывком я перелетаю на Сухаревку.
В моей квартире в той же позе, на животе, чуть подвернув ногу и с простыней на бёдрах, – лежит человек. С непонятным холодком внутри моего нового существа я падаю на этого лежащего ничком человека…
Я просыпаюсь и какое-то время не могу понять, где я и что со мной.
Между шторами – слабая полоска света.
Раннее утро? Или…
Я подношу мобильник к глазам и снова не могу ничего сообразить.
Начало десятого… Вечер? Которого дня?
Понемногу наступает ясность в мыслях. Неужели я проспал почти сутки?
Я прислушиваюсь к своим ощущениям, поднимаю руку, ногу. Всё цело. Всё работает по-прежнему. Чувствую себя прекрасно.
Я закуриваю сигарету и пытаюсь осознать то, что со мной произошло. Ночные мои приключения встают предо мной во всей своей поразительной громаде.
Два часа двадцать пять минут я обдумываю свое положение. Затем поднимаюсь, привожу себя в порядок и зову к себе соседа Гришку.
Фингал у него под глазом обрёл жёлто-фиолетовую гамму. Я даю ему пачку сигарет и велю привести Нурали.
Спустя четверть часа они являются, в глазах – испуг и любопытство.
– Итак, соколы мои, – говорю я им, – слушайте меня внимательно. Я беру вас на работу.
Гришка от удивления разевает рот.
– Ты будешь по совместительству, – поясняю я таджику.
– А что мы должны делать? – спрашивает Гришка. – И какая зарплата?
– Договоримся, – отвечаю я. – Гораздо больше пачки сигарет.
Катя. Будем исправляться
Мне, конечно, крупно повезло, что я работаю в отделе Марь Палны.
Мой шеф – замечательный человек. Она хоть и пожилая тётка, но фору даст, знаете ли, и молоденьким. Таким, например, как я.
Во-первых, она знает уйму всего: и журналистику, и подноготную известных людей, и вообще. Марь Пална в нашем отделе, который состоит из нас двоих, – источник и кладезь всей информации. Она – кладезь, а я технолог: обработка на компьютере и прочие технические мелочи.
Во-вторых, с ней я поняла, что женщины в возрасте – они ещё ой какие женщины. Кто бы мог подумать, что человек на шестом десятке может разбираться в сексе и любви не хуже нас, молодых. И не просто разбираться, а как бы это сказать – жить этим самым сексом. У неё, оказывается, кроме мужа, с которым она поддерживает чисто дружеские отношения, – есть ещё друг-любовник, и у них там всё в полном порядке. Вот так. Мне бы такой порядок.
В-третьих, я за Марь Палной в этом отделе информации и писем, – как за каменной стеной, как у Христа за пазухой. (Гм, интересное выражение. За пазухой у мужчины – одно, а у женщины – ведь совсем другое… Правда, Христос, пусть и мужчина, но – бог. Ну и что? Ничего, просто запуталась). Так вот, в других отделах нашей замечательной газеты обстановочка та ещё. Там народ грустит, плачет и бегает к нам чай пить. Ну и нам всё докладывает.
Например, как Замполит пристаёт к девушкам. Он, говорят, раздаёт задания – выгодные или не очень – в зависимости от того, как девушки к нему относятся. Я уж не знаю, до какой степени всё это верно… Ещё говорят, когда Дима был на должности Замполита, такого не наблюдалось. Наоборот, все хотели с ним работать и не обращали внимания, – какие задания. Я имею в виду девушек.
Вот в это – верю. Мне ли не знать. Ха-ха.
Или вот ещё. Как Экономичка своих угнетает. Самой тридцати нет, а она всех там в бараний рог скручивает, все от неё плачут. Там тоже девушкам достаётся, но уже по другой причине. Потому что Экономичка парням покровительствует. Но парней нет, ни одного, из-за этого большие проблемы у девушек. Поэтому в любимицах у неё ходит самая некрасивая. То есть, я имею в виду, не самая эффектная. Впрочем, всё равно нехорошо сказала. Красивая, некрасивая – это такая скользкая материя. Человек не виноват, что у него скулы широкие. Или нос длинный. Или ноги короткие. А на пять сантиметров длиннее – и всё, стройная. В общем, в таких материях уйма несправедливостей, женщинам не позавидуешь. И шутки здесь неуместны.
Так что будем исправляться, – так любит говорить Марь Пална.
Вот она сейчас входит в отдел, озабоченная, садится за свой стол, то есть, напротив меня, и говорит задумчиво:
– Странные дела творятся в нашем королевстве…
Я сразу – внимательные ушки на макушке. Если шеф чего-то не понимает, значит, происходит что-то необычное.
– За три последние недели вскочили два иска против нас, – размышляет Марь Пална. – И мы готовим два. Юристы мне всё доложили… С чего бы это?
Она смотрит на меня, словно я могу знать ответ. Я – на неё. Глаза у шефа интересные, живые, с такой очаровательной хулиганцой. И я не удивляюсь, что у неё любовник моложе пятью годами.
– Такая мощная, – продолжает Марь Пална, – не побоюсь этого слова, эректильная активность по искам свидетельствует о каких-то неизвестных нам пока флюктуациях…
Наверное, на моём лице отражается непонимание, и мне объясняют, что такое флюктуация.
– В общем, скандалы по Москве громыхают, – качает головой шеф. – Как будто по воле какой-то дирижёрской палочки… Как будто это организованная компания…
– А по каким материалам иски? – спрашиваю я. – Чьи материалы-то?
И тут же понимаю, что можно было и не спрашивать. Марь Пална смотрит на меня с едва уловимой усмешкой, а я чувствую, что краснею. Я очень уважаю своего шефа ещё и потому, что она ни разу не спросила меня про Диму. Она не может не знать всю подоплёку, не может не слышать все эти разговоры про дурочку из отдела писем, влюблённую в лучшего журналиста, – но ни разу не позволила себе ни прямо спросить, ни пошутить.
За последнее время опубликовано три больших Диминых статьи. Одна про свалки, другая про аферу с военным контрактом, третья – про сеть подпольных борделей для элиты. В редакции болтали, что Главный очень доволен, что у них с Димой был острый разговор, и вот после него Дима стал давать один материал за другим.
– Неужели они оба участвуют в этой кампании? – задаёт вопрос Марь Пална.
Вопрос, конечно, риторический. Я только хлопаю глазами.
– Ладно, – машет рукой Марь Пална, – всех загадок нам не разгадать. Пора по домам. В конце концов, в жизни есть кое-что не менее интересное… Я имею в виду живое человеческое общение. Понимаешь, о чём я?..
Она отрывается от своей косметички и смотрит на меня сожалеющим взглядом. Она про Диму меня не спрашивает, зато постоянно критикует мой образ жизни. По её мнению, я должна через день ходить на свидания с разными мужчинами, вести очень насыщенную всякими культурными мероприятиями жизнь, а не сидеть дома c родителями. Впрочем, иногда я подозреваю, что только к пятидесяти годам она стала такой современной светской дамой с широким взглядами на взаимоотношения полов. А когда-то тоже была закомплексованной дурочкой вроде меня.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/viktor-ivanovich-kalitvyanskiy/vykup-42544158/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
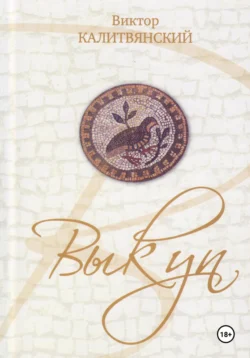
Виктор Калитвянский
Тип: электронная книга
Жанр: Триллеры
Язык: на русском языке
Издательство: Автор
Дата публикации: 02.05.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: В этом философско-авантюрном романе человеческие души, оставив свои тела, путешествуют налегке. А одушевлённые автомобили погибают, пытаясь спасти хозяев… Но, несмотря на фантасмагоричность происходящих событий, роман «Выкуп» – это, в сущности, история о дружбе, любви, о вечном стремлении человека выйти за положенные ему пределы…