Дневник посла
Дневник посла
Морис Жорж Палеолог
Дневник француза Мориса Палеолога (1859—1944) – обязательное чтение для всех, кто интересуется историей России начала ХХ века.
Во-первых, это первоисточник – Палеолог был в 1914—1917 годах послом при русском дворе и обладал информацией, как редко кто другой. Во-вторых, это большой литературный труд – недаром Палеолог был не только кадровым дипломатом, но и «бессмертным», то есть членом Французской академии. В-третьих, это одна из тех «главных» книг, по которым Запад и по сей день знакомится с русской жизнью. И наконец, дневник Палеолога был издан по-русски еще в 1923 году, но около половины текста оказалось изъято, а некоторые места, наоборот, вписаны.
В настоящем издании текст Мориса Палеолога воспроизведен полностью – без купюр и исправлений.
Морис Жорж Палеолог
Дневник посла
Текст печатается полностью по трехтомному изданию
Maurice Paleologue
LA RUSSIE DES TSARS pendant la Grande Guerre
Paris, Library Plon 1922
Дополнительная сверка произведена по изданию
AN AMBASSADOR’S MEMOIRS
by Maurice Paleologue
in three volumes London, Hutchinson&Co. 1924
Редкие, но явные фактические ошибки и несуразности в дневниковых записях не исправляются, русские цитаты даются в обратном переводе с французского, – важнее было сохранить аутентичность текста, по которому иностранцы знакомились с Россией.
Авторское вступление
Двенадцатого января 1914 года правительство Французской Республики назначило меня своим послом при царе Николае II. Сначала я уклонялся от этой чести по общеполитическим соображениям. Действительно, последние должности, которые я занимал по дипломатическому ведомству, ставили меня в наиболее благоприятное положение для наблюдения за игрой сил, коллективных и единоличных, которая скрыто предшествовала всемирному конфликту.
В течение пяти лет, с января 1907 года, я был французским послом в Софии. Мое продолжительное пребывание в центре балканских дел позволило мне измерить ту опасность, которую представляло собою для существующего в Европе порядка вещей сочетание четырех факторов, подготовлявшееся на моих глазах: ускорение падения Турции, территориальные вожделения Болгарии, романтическую манию величия царя Фердинанда и, в особенности, наконец, – честолюбивые замыслы Германии на Востоке. Из этого опыта я извлек всё, что было возможно в смысле поучительности и интереса, когда 25 января 1912 года господин Пуанкаре, который перед тем принял председательство в Совете министров и портфель министра иностранных дел, вызвал меня в Париж, чтобы доверить мне управление политическим отделом. Это было на следующий день после серьезного спора, который марокканский вопрос и агадирский инцидент возбудили между Германией и Францией.
Дурные впечатления, которые я привез из Софии, очень быстро определились и подтвердились. С каждым днем мне становилось все более очевидным, что возрастающая непримиримость германского министерства иностранных дел и его тайные интриги должны были неминуемо привести к грядущему конфликту.
Мои предположения показались правительству достаточно обоснованными, и оно сочло необходимым внимательно исследовать предполагаемый образ действия наших союзников. В течение мая 1912 года по вечерам происходили секретные совещания на набережной Орсе под председательством Пуанкаре, при участии военного министра Мильерана, морс кого министра Делькассе, начальника главного штаба армии генерала Жоффра, начальника морского главного штаба адмирала Обера и меня; следствием их явилось более тесное согласие между центральными государственными органами, на долю которых, в случае войны, должно было выпасть главное напряжение сил при обороне страны.
В продолжение следующих месяцев я несколько раз имел возможность исследовать в пределах совещательной роли, которую налагала на меня моя должность, нет ли возможности улучшить наши отношения с Германией, отнестись к ней с авансированным доверием, найти почву для разговоров с ней, поводы для совместных действий и для честного соглашения. Я думаю, что обладаю достаточно свободным умом, чтобы утверждать, что я приступал к этому изучению с полной объективностью. Но каждый раз я был принужден признать, что всякая снисходительность с нашей стороны была истолкована в Берлине как знак слабости, из которой императорское правительство пыталось тотчас же извлечь пользу, дабы вырвать у нас новую уступку; что германская дипломатия неуклонно преследовала обширный план гегемонии и что непреклонность ее намерений с каждым днем увеличивала опасности столкновения. Я же, сверх того, с огорчением должен был констатировать, что шумный пацифизм наших социалистов и партии, подчиненной Кайо, вел только к возбуждению высокомерия и жадности в Германии, позволяя ей думать, что ее приемы запугивания могут со временем нас подчинить и что французский народ готов лучше всё претерпеть, нежели прибегнуть к оружию.
При этих условиях 28 декабря 1913 года господин Думерг, председатель Совета министров и министр иностранных дел, предложил мне заменить в посольстве в Петербурге господина Делькассе, временные полномочия которого должны были кончиться. Благодаря его за доверие, я настоятельно просил его перенести свой выбор на другого дипломата; я выдвинул лишь один аргумент, который мне, однако, казался решающим:
– Общее положение Европы предвещает грядущий кризис. Под влиянием соображений, о которых я не имею права судить, республиканское большинство палаты всё более склоняется к численному и материальному уменьшению нашей армии; Франция рискует, таким образом, очутиться перед ужасной альтернативой: военная несостоятельность или национальное унижение. Идеи, которые одерживают верх в палате, и растущее влияние социалистической партии заставляют меня опасаться, чтобы правительство не вздумало тогда избрать национальное унижение или по крайней мере чтобы оно не было принуждено его принять. А отказ от франко-русского союза был бы, конечно, первым условием, которое нам навяжет Германия; к тому же существование этого союза не имело бы более никаких оснований, потому что его единственная цель – сопротивляться чрезмерным притязаниям Германии. Но, отрываясь от России, мы потеряли бы необходимую и незаменимую опору нашей политической независимости. Я, как посол, не хочу быть орудием этого злосчастного предприятия.
Думерг старался меня успокоить. Я тем не менее упорствовал в своих возражениях, которые, впрочем, отнюдь не были направлены против него, потому что я знал его твердый патриотизм и справедливость его суждений. Для большей ясности я позволил себе прибавить:
– Пока вы будете сохранять портфель министра иностранных дел, мне нечего бояться. Но я не могу забыть, что вашим коллегой и министром финансов является господин Кайо, который, может быть, завтра, вследствие самого ничтожного парламентского происшествия, придет вас заменить в этом самом кабинете, где мы сейчас находимся… Всего два года, как я заведую политическим отделом, и должен был служить уже при четырех министрах. Да, четыре министра иностранных дел за два года… Каковы-то будут ваши преемники?
Думерг самым сердечным тоном мне ответил:
– Я вижу, что вы упрямы, но надеюсь, что президент сумеет вас лучше убедить, чем я.
Дружба, начавшаяся еще в лицее Людовика Великого, связывала меня с Пуанкаре. Второго января 1914 года он пригласил меня в Елисейский дворец. Принял меня друг, но говорил со мной президент Республики. Он мне сказал, что Совет министров уже обсуждал мое назначение, что выбор Думерга утвержден; одним словом, что я должен согласиться. Его бодрый патриотизм, его высокое сознание общественного долга, ясная и убедительная логика его слов подсказали ему, сверх того, доводы, которые наиболее могли меня тронуть. Я согласился. Но заметил, что я принимаю поручение и высокую честь представлять Францию в России лишь для того, чтобы следовать там традиционной политике союза – как единственной, которая позволяет Франции преследовать свою мировую историческую миссию.
Я уже пять месяцев занимал пост посла в Петербурге, когда меня вызвали в Париж, чтобы словесно установить подробности визита, который первоначально президент Республики намеревался сделать императору Николаю в течение лета.
Выходя на Северном вокзале 5 июня, я узнал, что кабинет Думерга подал в отставку и что господин Буржуа, который первоначально согласился составить новое министерство, отказался от этого, признав, что он был бы тотчас же низвергнут палатой, если бы не включил в свою программу отмены военного закона, называемого «законом трех лет». Наконец, газеты объявляли, что господин Вивиани взял на себя обязанность, от которой отказался Буржуа, и что он надеется найти примирительную формулу, которая бы обеспечила ему содействие левых партий.
Я немедленно принял решение. Приехав к себе, я просил у Бриана несколько минут разговора. Он принял меня на следующее утро. Я тотчас же ему заявил, что решил отказаться от должности посла, если образующийся кабинет не сохранит закона о трехлетней службе, и я просил его сообщить о моем решении Вивиани, которого лично я еще не знал. Он согласился со мной.
– Кризис, который сейчас наступил, – сказал он мне, – один из самых тяжелых, через которые мы проходили. Революционные социалисты и объединенные радикалы ведут себя, как сумасшедшие: они способны погубить Францию. При знаюсь, однако, что ваш пессимизм меня немного удивляет. Вы действительно так убеждены, что мы накануне войны?
– У меня есть внутреннее убеждение, что мы идем навстречу грозе. В какой точке горизонта и в какой день она разрешится? Я не могу этого сказать. Но отныне война неизбежна, и в скором времени. Я сделал, по крайней мере, всё от меня зависящее, чтобы открыть глаза французскому правительству.
– Вы очень встревожили меня. Прощайте. Я спешу к Вивиани.
– Еще одно слово, – сказал я ему. – Условимся, что мой разговор с вами останется тайной.
– Это само собою разумеется.
Два часа спустя газета «Пари Миди» сообщала под сенсационным заголовком, что я угрожал своей отставкой Вивиани, если министерская декларация не поддержит полностью военного закона. Немного спустя стало известно, что Вивиани отказывается составить кабинет. В кулуарах палаты, где волнение было весьма велико, он кратко объяснил, что не мог заставить своих будущих сотрудников принять формулу, которую он считал необходимой, по вопросу о трехлетней службе. Так как его спросили, не согласен ли он попытаться сделать новое усилие, чтобы разрешить кризис, он ответил с жестом гнева и отвращения:
– Конечно нет. Мне надоело бороться против республиканцев, которые плюют мне в лицо, когда я говорю с ними о внешнем положении.
На следующий день меня, как и следовало ожидать, ругала вся левая пресса. В Бурбонском дворце революционные социалисты и объединенные радикалы требовали моего смещения.
Но после нескольких дней парламентского возбуждения и беспорядка в общественном мнении произошла здоровая реакция. Вновь призванному для образования кабинета Вивиани удалось сгруппировать вокруг себя сотрудников, которые согласились поддерживать трехлетнюю службу.
Восемнадцатого июня Вивиани, переселившийся накануне на набережную Орсе, пригласил меня, и тогда я впервые имел с ним дело. У него был угрюмый вид, бледное лицо и нервные движения.
– Ну, что же, – резко спросил он меня, – вы верите в войну?.. Бриан рассказал мне о вашем разговоре.
– Да, я думаю, что война угрожает нам в скором времени и что мы должны к ней готовиться.
Тогда в отрывочных словах он забросал меня вопросами, не давая мне иногда времени ответить.
– В самом деле война может вспыхнуть?.. По какой причине?.. Под каким предлогом?.. В какой срок?.. Всеобщая война?.. Всемирный пожар?..
Грубое слово вырвалось из его уст, и он ударил кулаком по столу.
Помолчав, он провел рукой по лбу, как бы для того, чтобы прогнать дурной сон. Затем он заговорил более спокойным тоном:
– Будьте добры повторить мне всё, что вы мне сказали. Это так важно.
Я подробно изложил ему свои мысли и заключил:
– Во всяком случае, и даже если мои предчувствия слишком пессимистичны, мы должны, насколько возможно, укрепить систему наших союзов. Главным образом необходимо, чтобы мы довершили наше соглашение с Англией, надо, чтобы мы могли рассчитывать на немедленную помощь ее флота и ее армии.
Когда я изложил ему все, он снова провел рукой по лбу и, устремив на меня тоскливый взгляд, спросил:
– Вы не можете мне указать, хотя бы в виде предположения, когда, по-вашему, произойдут непоправимые события и разразится гроза?
– Мне представляется невозможным назначить какой-нибудь срок. Однако я был бы удивлен, если бы состояние наэлектризованной напряженности, в которой живет Европа, не привело бы в скором времени к катастрофе.
Внезапно он преобразился, его лицо озарилось внутренним светом, его стан выпрямился.
– Ну что же, если это так должно быть, исполним наш долг сполна. Франция снова окажется такой, какой она всегда была, способной на любой героизм и на любые жертвы. Снова наступят великие дни 1792 года.
В его голосе было как бы вдохновение Дантона.
Пользуясь его волнением, я спросил:
– Итак, вы решили полностью поддержать военный закон, и я могу заявить об этом императору Николаю?
– Да, вы можете заявить, что трехлетняя служба будет сохранена без ограничений и что я не допущу ничего, что могло бы ослабить наш союз с Россией.
В заключение он долго расспрашивал меня об императоре Вильгельме, о его новых намерениях, о его истинных чувствах по отношению к Франции и т. д. Затем он объяснил мне причину этого тщательного допроса:
– Я должен спросить у вас совета… Князь Монакский дал знать моему коллеге по палате X., что император Вильгельм был бы счастлив переговорить с ним этим летом во время гонки судов в Киле. X. намерен туда отправиться… Не думаете ли вы, что этот разговор мог бы смягчить ситуацию?
– Я никоим образом этого не думаю. Это все время одна и та же игра… Император Вильгельм завалит X. цветами: он уверит его, что его самое горячее желание, его единственная мысль – добиться дружбы, даже любви Франции, и он засыплет его знаками внимания. Таким образом он придаст себе в глазах людей вид самого миролюбивого, самого безобидного, самого сговорчивого монарха. Наше общественное мнение и сам X. – первый – дадут себя обольстить этой прекрасной видимостью. А в это самое время вы должны будете бороться с реальной действительностью немецкой дипломатии, с ее систематическими приемами непримиримости и придирок.
– Вы правы. Я отговорю X. ехать в Киль.
Так как, по-видимому, ему больше нечего было мне сказать, я спросил у него о предписаниях, касающихся визита французского президента к императору Николаю. Затем я простился с ним.
Двадцать шестого июня я возвратился в Петербург.
Теперь я могу просто предоставить слово моему дневнику. Записи, составляющие его, заносились ежедневно; те, которые имеют отношение к политике, отчасти дополняются моей официальной корреспонденцией.
Не следует удивляться, если соображения приличия и скромности заставляли меня иногда заменять имена реальных лиц фиктивными инициалами.
1914 год
Понедельник, 20 июля
Я покидаю Петербург в десять часов утра на адмиралтейской яхте, чтобы отправиться в Петергоф. Министр иностранных дел Сазонов, русский посол во Франции Извольский и мой военный атташе генерал де Лагиш сопутствуют мне, так как император пригласил нас всех четверых завтракать на его яхту, перед тем как отправиться навстречу президенту Франции в Кронштадт. Чины моего посольства, русские министры и сановники двора будут доставлены прямо по железной дороге в Петергоф.
Погода пасмурная. Между плоскими берегами наше судно скользит с большой быстротой к Финскому заливу. Внезапно свежий ветер, дующий с открытого моря, приносит проливной дождь, но так же внезапно появляется солнце. Несколько облаков жемчужно-матового цвета, прорезанные лучами, носятся там и здесь по небу, как шелковые шарфы, испещренные золотом. И ясно освещенное устье Невы развертывает, насколько хватает глаз, свои зеленоватые, тяжелые, подернутые волнами воды, которые заставляют меня вспоминать о венецианских лагунах.
В половине двенадцатого мы останавливаемся в маленькой гавани Петергофа, где нас ждет «Александрия», любимая яхта императора.
Николай II, в адмиральской форме, почти тотчас же подъезжает к пристани. Мы пересаживаемся на «Александрию». Завтрак немедленно подан. До прибытия «Франции» в нашем распоряжении по крайней мере час и три четверти. Но император любит засиживаться за завтраком. Между блюдами делают долгие промежутки, во время которых он беседует, куря папиросы. Я занимаю место справа от него, Сазонов слева, а граф Фредерикс, министр двора, напротив.
После нескольких общих фраз император выражает мне свое удовольствие по поводу приезда президента Республики.
– Нам надо поговорить серьезно, – говорит он мне. – Я убежден, что по всем вопросам мы сговоримся… Но есть один вопрос, который особенно меня занимает: наше соглашение с Англией. Надо, чтобы мы привели ее к вступлению в наш союз. Это был бы залог мира.
– Да, государь, тройственная Антанта не может считать себя слишком сильной, если хочет охранить мир.
– Мне говорили, что вы лично обеспокоены намерениями Германии?..
– Обеспокоен? Да, государь, я обеспокоен, хотя у меня нет теперь никакой определенной причины предсказывать немедленную войну. Но император Вильгельм и его правительство позволили Германии впасть в такое состояние духа, что, если возникнет какой-нибудь спор в Марокко, на Востоке, безразлично где, они не смогут более ни отступить, ни мириться. Им необходим успех любой ценой. И чтобы его получить, они бросятся в авантюру.
Император на минуту задумывается:
– Я не могу поверить, чтобы император Вильгельм желал войны… Если бы вы его знали, как я! Если бы знали, сколько шарлатанства в его позах…
– Возможно, что я, в сущности, приписываю слишком много чести императору Вильгельму, когда считаю его способным иметь волю или просто принимать на себя последствия своих поступков. Но если бы война стала угрожающей, захотел ли бы и смог ли бы он помешать? Нет, государь, говоря откровенно, я этого не думаю.
Император остается безмолвным, пускает несколько колец дыма из своей папироски, затем решительным тоном продолжает:
– Тем более важно, чтобы мы могли рассчитывать на англичан в случае кризиса. Германия не осмелится никогда напасть на объединенные Россию, Францию и Англию, иначе как если совершенно потеряет рассудок.
Едва подан кофе, как дают сигналы о прибытии французской эскадры. Император заставляет меня подняться с ним на мостик.
Зрелище величественное. В дрожащем серебристом свете на бирюзовых и изумрудных волнах «Франция» медленно продвигается вперед, оставляя длинный след за кормой, затем величественно останавливается. Грозный броненосец, который привозит главу французского государства, красноречиво оправдывает свое название – это действительно Франция идет к России. Я чувствую, как бьется мое сердце.
В продолжение нескольких минут рейд оглашается громким шумом: выстрелы из пушек эскадры и сухопутных батарей, «ура» судовых команд, «Марсельеза» в ответ на русский гимн, восклицания тысяч зрителей, приплывших из Петербурга на яхтах и прочих прогулочных судах.
Президент Республики подплывает наконец к «Александрии», император встречает его у трапа.
Как только представления окончены, императорская яхта поворачивает носом к Петергофу.
Сидя на корме, император и президент тотчас же вступают в беседу, я сказал бы скорее – в переговоры, так как видно, что они взаимно друг друга спрашивают, о чем-то спорят. По-видимому, Пуанкаре направляет разговор. Вскоре говорит он один. Император только соглашается, но все его лицо свидетельствует о том, что он искренно одобряет, что он чувствует себя в атмосфере доверия и симпатии.
Вскоре мы приплываем в Петергоф. Наверху длинной террасы, с которой величественно ниспадает пенящийся водопад, сквозь великолепный парк и бьющие фонтаны воды показывается любимое жилище Екатерины II.
Наши экипажи скорой рысью поднимаются по аллее, которая ведет к главному подъезду дворца. При всяком повороте открываются далекие виды, украшенные статуями, фонтанами и балюстрадами. Несмотря на всю искусственность обстановки, здесь, при ласкающем дневном свете, вдыхаешь живой и очаровательный аромат Версаля.
В половине восьмого начинается торжественный обед в Елизаветинском зале.
По пышности мундиров, по роскоши туалетов, по богатству ливрей, по пышности убранства, общему выражению блеска и могущества зрелище так великолепно, что ни один двор в мире не мог бы с ним сравниться. Я надолго сохраню в глазах ослепительную лучистость драгоценных камней, рассыпанных на женских плечах. Это фантастический поток алмазов, жемчуга, рубинов, сапфиров, изумрудов, топазов, бериллов – поток света и огня.
В этом волшебном окружении черная одежда Пуанкаре производит неважное впечатление. Но широкая голубая лента ордена Святого Андрея, которая пересекает его грудь, поднимает в глазах русских его престиж. Наконец, все вскоре замечают, что император слушает его с серьезным и покорным вниманием.
Во время обеда я наблюдал за Александрой Федоровной, против которой сидел. Хотя длинные церемонии являются для нее очень тяжелым испытанием, она захотела быть здесь в этот вечер, чтобы оказать честь президенту союзной республики. Ее голова, сияющая бриллиантами, ее фигура в декольтированном платье из белой парчи выглядят довольно красиво. Несмотря на свои сорок два года, она еще приятна лицом и очертаниями. С первой перемены блюд она старается завязать разговор с Пуанкаре, который сидит справа от нее. Но вскоре ее улыбка становится судорожной, ее щеки покрываются пятнами. Каждую минуту она кусает себе губы. И ее лихорадочное дыхание заставляет переливаться огнями бриллиантовую сетку, покрывающую ее грудь. До конца обеда, который продолжается долго, бедная женщина, видимо, борется с истерическим припадком. Ее черты внезапно разглаживаются, когда император встает, чтобы произнести тост.
Августейшее слово выслушано с благоговением, но особенно хочется всем услышать ответ. Вместо того чтобы прочесть свою речь, как сделал император, Пуанкаре говорит без бумажки. Никогда его голос не был более ясным, более определенным, более внушительным. То, что он говорит, не более как пошлое дипломатическое пустословие, но слова в его устах приобретают замечательную силу, значение и властность. Присутствующие, воспитанные в деспотических традициях и в дисциплине двора, заметно заинтересованы. Я убежден, что среди всех этих обшитых галунами сановников многие думают: «Вот как должен был бы говорить самодержец».
После обеда император собирает около себя кружок. Поспешность, с которой представляются Пуанкаре, свидетельствует о его успехе. Даже немецкая партия, даже ультрареакционное крыло домогаются чести приблизиться к Пуанкаре.
В одиннадцать часов начинается разъезд. Император провожает президента до его покоев.
Там Пуанкаре задерживает меня в течение нескольких минут. Мы обмениваемся нашими впечатлениями, которыми мы оба вполне довольны.
Возвратясь в Петербург по железной дороге в три четверти первого, я узнаю, что сегодня после полудня без всякого повода, по знаку, идущему неизвестно откуда, забастовали главнейшие заводы и что в нескольких местах произошли столкновения с полицией. Мой осведомитель, хорошо знающий рабочую среду, утверждает, что движение было вызвано немецкими агентами.
Вторник, 21 июля Президент Республики посвящает сегодняшний день осмотру Петербурга. Прежде чем покинуть Петергоф, он провел переговоры с царем. Пункт за пунктом они обсудили все вопросы, входившие в настоящий момент в дипломатическую повестку дня: напряженные отношения между Грецией и Турцией; интриги правительства Болгарии на Балканах, прибытие в Албанию князя Вьедского; практическое применение англо-русских соглашений в Персии; политическая ориентация скандинавских государств и т. д. Они завершили обзор этих вопросов обсуждением проблемы спора между Австрией и Сербией – проблемы, с каждым днем становившейся все более тревожной из-за высокомерной и непонятной позиции Австрии. Пуанкаре самым решительным образом настаивал на том, что единственный путь для сохранения всеобщего мира – открытая дискуссия между великими державами и принятие мер для того, чтобы одна сторона не противостояла другой. «Этот метод так хорошо послужил нам в 1913 году, – заявил он. – Давайте попытаемся воспользоваться им вновь!..» Николай II полностью с этим согласился. В половине второго я отправляюсь ожидать на императорской пристани вблизи Николаевского моста. Морской министр, градоначальник, комендант города и городские власти находятся там, чтобы его встретить.
Согласно старинному славянскому обычаю, граф Иван Толстой, городской голова столицы, подносит хлеб-соль.
Затем мы садимся в экипаж, чтобы отправиться в Петропавловскую крепость, являющуюся государственной тюрьмой и усыпальницей Романовых. Согласно обычаю, президент возложит венок на могилу Александра III, творца Союза.
Наши экипажи крупной рысью едут вдоль Невы, сопровождаемые гвардейскими казаками, ярко-красные мундиры которых сверкают на солнце.
Несколько дней тому назад, когда я обсуждал с Сазоновым последние подробности визита президента, он сказал мне смеясь:
– Гвардейские казаки назначены для сопровождения президента. Вы увидите, какое они представят красивое зрелище. Это великолепные и страшные молодцы. Кроме того, они одеты в красное. А я думаю, что господин Вивиани не относится с ненавистью к этому цвету.
Я ответил:
– Нет, он его не ненавидит, но его глаз художника наслаждается им вполне лишь тогда, когда он соединен с белым и синим.
В своих красных мундирах эти казаки, бородатые и косматые, действительно наводят ужас. Когда наши экипажи въезжают вместе с ними в главные ворота крепости, какой-нибудь иронический наблюдатель, любитель исторических антитез, мог бы спросить себя: не в государственную ли тюрьму провожают они этих двух патентованных «революционеров» – Пуанкаре и Вивиани, не считая меня, их сообщника. Никогда еще моральная противоречивость и молчаливая двусмысленность, которые лежат в основе франко-русского союза, не являлись мне с такой силой.
В три часа президент принимает делегатов французов – жителей Петербурга и всей России. Они приехали из Москвы и Харькова, из Одессы и Киева, из Ростова и Тифлиса. Представляя их Пуанкаре, я могу сказать ему с полной искренностью:
– Их готовность явиться приветствовать вас нисколько меня не удивила, так как я каждый день вижу, с каким усердием и любовью французы в России хранят культ далекой родины. Ни в одной из провинций нашей старой Франции, господин президент, вы не найдете лучших граждан, чем те, которые находятся здесь, перед вами.
В четыре часа шествие снова выстраивается, чтобы сопровождать президента в Зимний дворец, где должен состояться дипломатический прием.
На всем пути нас встречают восторженными приветствиями. Так приказала полиция. На каждом углу кучки бедняков оглашают улицы криками «ура» под наблюдением полицейского.
Зимний дворец выглядит как в самые торжественные дни.
Этикет требует, чтобы посланники один за другим вводились к президенту, слева от которого стоит Вивиани. А я представляю ему моих иностранных коллег.
Первым входит германский посол, граф Пурталес, старейшина дипломатического корпуса. Я предупредил Пуанкаре, что мой предшественник, Делькассе, едва соблюдал необходимую вежливость по отношению к этому очень учтивому человеку, и я просил президента оказать ему хороший прием. Итак, президент принимает его с подчеркнутой приветливостью. Он спрашивает его о французском происхождении его семьи, о родстве его жены с фамилией Кастеллан, о поездке на автомобиле, которую граф и графиня предполагают сделать через Прованс по дороге в Кастеллан, и т. д. Ни слова о политике.
Затем я представляю моего японского коллегу, барона Мотоно, которого Пуанкаре когда-то знал в Париже. Разговор их краток, но не лишен значения. В нескольких фразах выражен и предположительно решен принцип присоединения Японии к Тройственному согласию.
После Мотоно я ввожу моего английского коллегу, сэра Джорджа Бьюкенена. Пуанкаре заверяет его, что император решил держаться самого примирительного образа действий в персидских делах, и он настаивает на том, чтобы британское правительство признало, наконец, необходимость преобразовать Тройственное согласие в Тройственный союз.
Совсем поверхностный разговор с послами Италии и Испании.
Наконец появляется мой австро-венгерский коллега, граф Сапари, типичный венгерский дворянин, безукоризненный по манерам, посредственного ума, неопределенного образования. В течение двух месяцев он отсутствовал в Петербурге, вынужденный оставаться при больных жене и сыне. Он неожиданно вернулся третьего дня. Из этого я вывел заключение, что австро-сербская распря усиливается, что там произойдет взрыв и что необходимо, чтобы посол был на своем посту, дабы поддерживать спор и принять свою долю ответственности.
Пуанкаре, которого я предупредил, ответил мне:
– Я попытаюсь выяснить это.
После нескольких слов сочувствия по поводу убийства эрцгерцога Франца Фердинанда президент спрашивает у Сапари:
– Имеете ли вы известия из Сербии?
– Юридическое расследование продолжается, – холодно отвечает Сапари.
Пуанкаре снова говорит:
– Результаты этого следствия не перестают меня занимать, господин посол, так как я вспоминаю два предыдущих расследования, которые не улучшили ваших отношений с Сербией… Вы помните, господин посол… дело Фридюнга и дело Прохаски…
Сапари сухо возражает:
– Мы не можем терпеть, господин президент, чтобы иностранное правительство допускало на своей территории подготовку покушения против представителей нашей верховной власти.
Самым примирительным тоном Пуанкаре старается доказать ему, что при нынешнем состоянии умов в Европе все правительства должны усвоить осторожность.
– При некотором желании это сербское дело легко может быть окончено. Но так же легко оно может разрастись. У Сербии есть очень горячие друзья среди русского народа. И у России есть союзница, Франция. Скольких осложнений следует бояться!
Затем он благодарит посла, что тот приехал. Сапари кланяется и выходит, не говоря ни слова.
Когда мы трое остаемся одни, Пуанкаре нам говорит:
– Я вынес дурное впечатление из этого разговора. Посол явно получил приказание молчать… Австрия подготавливает неожиданное выступление. Необходимо, чтобы Сазонов был тверд и чтобы мы его поддержали…
Мы переходим затем в соседний зал, где представители второстепенных держав выстроены по старшинству.
Стесненный временем, Пуанкаре проходит перед ними быстрым шагом, пожимая руки. Их разочарование можно угадать по их лицам. Они все надеялись услышать от него несколько содержательных и туманных слов, из которых бы составили длинные донесения своим правительствам.
Он останавливается только перед сербским посланником Спалайковичем, которого утешает двумя или тремя сочувственными фразами.
В шесть часов – посещение французской больницы, где президент закладывает первый камень здания аптеки.
В восемь часов – парадный обед в посольстве. Стол накрыт на восемьдесят шесть персон. Дом, отделанный заново, выглядит прекрасно. Государственные мебельные кладовые уступили мне удивительную серию гобеленов, среди них «Триумф Марка Антония» и «Триумф Мардохея», работы Натуара, которые пышно украшают парадную залу. Кроме то го, всё посольство украшено розами и орхидеями.
Приезжают гости, одни наряднее других. Их выбор был для меня сущим мучением вследствие бесконечного соперничества и зависти, которые вызывает жизнь при дворе: распределение мест за столом было еще более трудной задачей. Но мне так удачно помогают секретари, что обед и вечер проходят прекрасно.
В одиннадцать часов президент удаляется.
Я сопровождаю его в здание городской думы, где петербургское общественное управление дает праздник офицерам французской эскадры. Впервые здесь глава иностранного государства удостаивает своим присутствием прием городского управления. Зато и встреча из самых горячих.
В полночь президент отправляется обратно в Петергоф. Бурные демонстрации продолжались сегодня в фабричных кварталах Петербурга. Градоначальник уверял меня сегодня вечером, что агитация прекращена и что работа завтра возобновится. Он утверждал, наконец, что среди арестованных вожаков опознали несколько известных агентов немецкого шпионажа. С точки зрения Союза, это обстоятельство достойно внимания.
Среда, 22 июля
В полдень император дает завтрак президенту Республики в Петергофском дворце. Ни императрица и ни одна дама не присутствуют. Приборы накрыты на маленьких столиках, каждый на десять или двенадцать приглашенных. На дворе стоит сильная жара, но через открытые окна тень и воды парка посылают нам дуновения свежести.
Я сажусь за столом императора и президента – с Вивиани; адмиралом Ле Бри, командующим французской эскадрой; Горемыкиным, председателем Совета министров; графом Фредериксом, министром двора, и, наконец, Сазоновым и Извольским.
Я сижу слева от Вивиани; справа от него граф Фредерикс.
Граф Фредерикс, которому скоро минет семьдесят семь лет, в высшей степени олицетворяет жизнь двора. Из всех подданных царя на него сыплется больше всего почестей и титулов. Он министр императорского двора и уделов, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, член Государственного совета, канцлер императорских орденов, главноуправляющий Кабинетом его величества.
Всё его долгое существование протекло во дворцах и придворных церемониях, в шествиях и в каретах, в золотом шитье и в орденах. По своей должности он превосходит самых высоких сановников Империи и посвящен во все тайны императорской фамилии. Он раздает от имени императора все милости и все дары, все выговоры и все наказания. Великие князья и великие княгини осыпают его знаками внимания, так как это он управляет их делами, он заглушает их скандалы, он платит их долги. Несмотря на всю трудность его обязанностей, нельзя указать ни одного его врага – столько у него вежливости и такта. К тому же он был одним из самых красивых людей своего поколения, одним из самых изящных кавалеров, и его успехи у женщин неисчислимы. Он сохранил стройную фигуру и очаровательные манеры. В отношении физическом и моральном – он совершенный образец своего звания, высший блюститель обрядов и чинопочитания, приличий и традиций, учтивости и свет скости.
В половине четвертого мы уезжаем в императорском поезде в деревню и лагерь Красное Село.
Сверкающее солнце освещает обширную равнину, волнистую и бурую, ограниченную холмами на горизонте. В то время как император, императрица, президент, великие князья, великие княгини и вся императорская свита осматривают расположение войск, я жду со статскими и министрами на возвышении, где раскинуты палатки. Цвет петербургского общества теснится на нескольких трибунах. Светлые туалеты женщин, их белые шляпы, белые зонтики блистают, как купы азалий.
Но вот вскоре показывается и императорский кортеж. В коляске, запряженной цугом, императрица и справа от нее президент, напротив нее – две ее старшие дочери. Император скачет верхом справа от коляски в сопровождении блестящей группы великих князей и адъютантов. Все останавливаются и занимают места на холме, который господствует над равниной. Войска, без оружия, выстраиваются шеренгой, сколько хватает глаз, перед рядом палаток. Их линия проходит у самого подножия холма.
Солнце опускается к горизонту на пурпурном и золотом небе – небе апофеоза. По знаку императора пушечный залп дает сигнал к вечерней молитве. Оркестр исполняет религиозный гимн. Все обнажают головы. Унтер-офицер читает громким голосом «Отче наш», тысячи и тысячи людей молятся за императора и за Святую Русь. Безмолвие и сосредоточенность этой толпы, громадность пространства, поэзия минуты, дух Союза, который парит над всем, сообщают обряду волнующую величественность.
Из лагеря мы возвращаемся в деревню Красное Село, где великий князь Николай Николаевич, командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа, предполагаемый Верховный главнокомандующий русскими армиями, дает обед президенту Республики и чете монархов.
Три длинных стола поставлены под полуоткрытыми палатками около сада в полном цвету. Клумбы цветов, только что политые, испускают в тепловатом воздухе свежий растительный запах, который приятно вдыхать после этого жаркого дня.
Я приезжаю одним из первых. Великая княгиня Анастасия и ее сестра, великая княгиня Милица, встречают меня с энтузиазмом. Обе черногорки говорят одновременно.
– Знаете ли вы, что мы переживаем исторические дни, священные дни? Завтра на смотру музыканты будут играть только Лотарингский марш и марш Самбры и Мааса… Я получила сегодня от моего отца телеграмму в условных выражениях: он объявляет мне, что раньше конца месяца у нас будет война… Какой герой мой отец… Он достоин «Илиады»… Вот посмотрите эту бонбоньерку, которая всегда со мной, она содержит землю Лотарингии, да, землю Лотарингии, которую я взяла по ту сторону границы, когда я была с мужем во Франции два года назад. И затем посмотрите еще там, на почетном столе: он покрыт чертополохом, я не хотела, чтобы там были другие цветы. Ну что же, это чертополох Лотарингии. Я сорвала несколько его веток на отторгнутой территории. Я привезла их сюда и распорядилась посеять семена в моем саду… Милица, поговори еще с послом, скажи ему обо всем, что представляет для нас сегодняшний день, пока я пойду встречать императора…
На обеде я сижу слева от великой княгини Анастасии. И рапсодия продолжается, прерываемая предсказаниями: «Война вспыхнет… от Австрии больше ничего не останется… Вы возьмете обратно Эльзас и Лотарингию… Наши армии соединятся в Берлине… Германия будет уничтожена…»
Затем внезапно: «Я должна сдерживаться, потому что император на меня смотрит…»
И под строгим взглядом царя черногорская сивилла внезапно успокаивается.
Когда обед кончен, мы идем смотреть балет в красивом императорском театре при лагере.
Четверг, 23 июля
Сегодня утром смотр в Красном Селе. Шестьдесят тысяч человек участвуют в нем. Великолепное зрелище могущества и блеска. Пехота проходит под марш Самбры и Мааса и под Лотарингский марш. Как внушительна эта военная машина, которую царь всей России развертывает перед президентом союзной республики, сыном Лотарингии.
Император верхом у подножия холма, на котором возвышается императорский павильон. Пуанкаре сидит справа от императрицы, перед павильоном; несколько взглядов, которыми он обменивается со мной, показывают, что у нас одни и те же мысли.
Сегодня вечером прощальный обед на борту «Франции». Тотчас после него французская эскадра снимется с якоря и направится в Стокгольм.
Императрица сочла долгом сопровождать императора. Все великие князья и все великие княгини находятся здесь.
Около семи часов короткий шквал немного попортил цветочные украшения палубы. Тем не менее вид стола прекрасен: он имеет даже род наводящей ужас величественности, чему способствуют четыре гигантские 304-миллиметровые пушки, которые вытягивают свои громадные стволы над гостями. Небо уже прояснилось, легкий ветерок ласкает волны, на горизонте встает луна.
Между царем и президентом беседа не прерывается.
Издали несколько раз великая княгиня Анастасия поднимает, глядя на меня, бокал с шампанским, указывая круговым жестом на воинственную обстановку, которая нас окружает. Перед тем как было подано второе блюдо, слуга приносит мне записку от Вивиани, небрежным почерком написанную им на карточке меню: «Подготовьте, не теряя времени, коммюнике для прессы».
Сидящий рядом адмирал Григорович, военно-морской министр, шепчет мне на ухо: «Сдается, что вас не оставляют в покое ни на минуту!»
Позаимствовав у соседа по столу карточку меню и взяв свою, я в спешке набросал на них текст сообщения для агентства «Гавас», использовав нейтральную и ничего не значившую фразеологию, подходящую для документов подобного рода. Но в конце текста коммюнике я в завуалированной форме коснулся Сербии:
«Оба правительства выяснили, что их взгляды и намерения о поддержке европейского баланса силы, особенно на Балканском полуострове, являются абсолютно идентичными».
Я передаю проект коммюнике сидевшему на противоположной стороне стола Вивиани, который читает его и затем одобрительно кивает мне головой.
Наконец начинаются тосты. Пуанкаре бросает заключительную фразу, которая звучит как сигнал трубы: «У обеих стран один общий идеал мира – в силе, чести и величии».
Эти последние слова – их нужно было слышать, чтобы оценить по достоинству – вызывают бурю аплодисментов. Великий князь Николай Николаевич, великая княгиня Анастасия, великий князь Николай Михайлович глядят на меня сверкающими глазами.
Вивиани, встав из-за стола, подходит ко мне:
– Мне не совсем нравится последнее предложение вашего текста коммюнике: я думаю, что оно несколько сверх меры вовлекает нас в орбиту русской политики на Балканах… Может быть, будет лучше обойтись без него?
– Но вы не можете опубликовать официальное сообщение о визите, делая вид, что не знаете о существовании серьезных разногласий из-за угрозы открытого конфликта между Австрией и Сербией. Может даже появиться мысль, что вы занялись здесь чем-то таким, о чем не имеете права упоминать.
– Это верно. Хорошо, подготовьте мне другой вариант коммюнике.
Через несколько минут я представил ему такой вариант:
«Визит, который только что нанес Президент Республики Его Величеству императору России, предоставил возможность двум дружественным и союзным правительствам выяснить, что они находятся в полном согласии в отношении понимания стоящих перед державами различных проблем, касающихся поддержания мира и баланса силы в Европе, особенно на Востоке».
– Отлично! – говорит Вивиани.
Мы немедленно отправляемся обсуждать вопрос о коммюнике с президентом, царем, Сазоновым и Извольским. Все четверо безоговорочно одобрили новый проект коммюнике, и я отправил его сразу же агентству «Гавас».
Между тем время отхода приближается. Император выражает Пуанкаре желание продлить разговор еще на несколько минут.
– Если бы мы поднялись на мостик, господин президент? Там нам было бы спокойнее.
Таким образом, я остаюсь один с императрицей, которая предлагает мне сесть в кресло с левой стороны от себя. Бедная государыня кажется измученной и усталой. С судорожной улыбкой она говорит мне слабым голосом:
– Я счастлива, что пришла сегодня вечером. Я очень боялась грозы… Украшения корабля великолепны… Во время переезда президента будет хорошая погода.
Но вдруг она подносит руки к ушам. Затем застенчиво, со страдающим и умоляющим видом она указывает на музыкантов эскадры, которые совсем близко от нас начинают яростное allegro, подкрепляемое медными инструментами и барабаном:
– Не могли ли бы вы… – шепчет она.
Я догадываюсь о причине и делаю рукой знак капельмейстеру, который, ничего не понимая, совсем останавливает оркестр.
– О, благодарю, благодарю, – говорит мне императрица, вздыхая.
Молодая великая княжна Ольга, которая сидит на другом борту корабля с остальными членами императорской фамилии и дипломатами французской миссии, с беспокойством наблюдает за нами в течение нескольких минут. Она быстро встает, скользит к своей матери с легкой грацией и говорит ей два-три слова совсем тихо. Затем, обращаясь ко мне, она продолжает:
– Императрица немного устала, но она просит вас, господин посол, остаться и продолжать разговор.
В то время как она удаляется легкими и быстрыми шагами, я возобновляю беседу. Как раз в этот момент появляется луна в окружении медлительных облаков: весь Финский залив освещен ею. Тема найдена: я восхваляю очарование морских путешествий. Императрица слушает молча, с пустым и напряженным взглядом, щеки покрыты пятнами, губы неподвижны и надуты.
Через десять минут, которые мне кажутся бесконечными, император и президент спускаются с мостика.
Одиннадцать часов. Наступает время отъезда. Стража берет на караул, раздаются короткие приказания, шлюпка «Александрии» подходит к «Франции». При звуках русского гимна и «Марсельезы» происходит обмен прощальными приветствиями. Император выказывает по отношению к президенту Республики большую сердечность. Я прощаюсь с Пуанкаре, который любезно назначает мне свидание в Париже через две недели.
Когда я почтительно кланяюсь императору у трапа, он говорит:
– Господин посол, поедемте со мной, прошу вас. Мы можем поговорить совсем спокойно на моей яхте. А затем вас отвезут в Петербург.
С «Франции» мы пересаживаемся на «Александрию». Только императорская фамилия сопровождает их величества. Министры, сановники, свита и мои дипломаты возвращаются прямо в Петербург на адмиралтейской яхте.
Ночь великолепная. Млечный Путь развертывается, сверкающий и чистый, в бесконечном эфире. Ни единого дуновения ветра. «Франция» и сопровождающий ее отряд судов быстро удаляются к западу, оставляя за собой длинные пенистые ленты, которые сверкают при луне, как серебряные ручьи.
Когда вся императорская свита собралась на борту, адмирал Нилов приходит выслушать приказания императора, который говорит мне:
– Эта ночь великолепна. Не хотите ли прокатиться по морю?..
«Александрия» направляется к финляндскому берегу.
Усадив меня около себя на корме яхты, император рассказывает о беседе, которая у него только что была с Пуанкаре:
– Я в восторге от разговора с президентом, мы удивительно сговорились. Я не менее миролюбив, чем он, и он не менее, чем я, решительно настроен сделать всё, что будет нужно, чтобы не допустить нарушения мира. Он опасается австро-германского движения против Сербии, и он думает, что мы должны будем на него ответить единым согласованным фронтом нашей дипломатии. Я думаю так же. Мы должны будем показать нашу твердость и единство в поисках возможных решений и необходимых средств к примирению. Чем труднее будет положение, тем более едиными и непреклонными мы должны быть.
– Эта политика кажется мне самой мудростью… Боюсь только, что нам придется применить ее совсем скоро.
– Вы все еще тревожитесь?..
– Да, государь.
– У вас есть новые причины беспокойства?..
– По крайней мере одна – неожиданное возвращение моего коллеги Сапари и холодная, враждебная осторожность, которую он выказал позавчера президенту… Германия и Австрия готовят нам взрыв.
– Чего они могут желать?.. Доставить себе дипломатический успех за счет Сербии?.. Нанести урон Тройственному согласию?.. Нет, нет… Несмотря на всю видимость, император Вильгельм слишком осторожен, чтобы ввергнуть свою страну в безумную авантюру… А император Франц Иосиф хочет одного – умереть спокойно.
В течение минуты он остается молчаливым, как если бы следил за неясною мыслью. Затем встает и делает несколько шагов по палубе.
Вокруг нас великие князья, стоя, выжидают момент, когда они смогут, наконец, приблизиться к повелителю, который скупо наделяет их несколькими незначительными словами. Он их подзывает, одного за другим, и, кажется, выказывает им всем полную непринужденность и благосклонное дружелюбие, – как бы для того, чтобы заставить их забыть расстояние, на котором он их держит обычно, и правило, которое он принял: никогда не говорить с ними о политике.
Великие князья Николай Николаевич, Николай Михайлович, Павел Александрович и великая княгиня Мария Павловна подходят и поздравляют себя и меня с тем, что визит президента так удался. На языке двора это значит, что монарх доволен.
Великие княгини Анастасия и Милица, две черногорки, отводят меня в сторону:
– О, этот тост президента, вот что надо было сказать, вот чего мы ждали так долго… Мир – в силе, чести и величии… Запомните хорошенько эти слова, господин посол, это дата в мировой истории…
В три четверти первого «Александрия» бросает якорь в Петергофской гавани.
Расставшись с императором и императрицей, я перехожу на борт яхты «Стрела», которая отвозит меня в Петербург, где я схожу на берег в половине третьего утра. Плывя по Неве под звездным небом, я думаю о пылком пророчестве черногорских сивилл.
Пятница, 24 июля
Очень утомленный этими четырьмя днями беспрерывного напряжения, я надеялся немного отдохнуть и приказал слугам не будить меня. Но в семь часов утра звонок телефона внезапно нарушил мой сон: сообщают, что вчера вечером Австрия вручила свой ультиматум Сербии. В первый момент и в том состоянии сонливости, в котором я нахожусь, новость производит на меня странное впечатление неожиданности и достоверности. Событие является мне в одно и то же время нереальным и достоверным, воображаемым и несомненным. Мне кажется, что я продолжаю мой вчерашний разговор с императором, что я излагаю гипотезы и предположения. В то же время у меня сильное, положительное, неопровержимое ощущение совершившегося факта.
В течение утра начинают прибывать подробности того, что произошло в Белграде…
В половине первого Сазонов и Бьюкенен собираются у меня, чтобы переговорить о положении. После ленча наш разговор возобновляется. Основываясь на тостах, которыми обменялись император и президент, на взаимных декларациях двух министров иностранных дел, наконец, на ноте, сообщенной вчера агентством «Гавас», я не колеблюсь вы сказаться за политику твердости.
– Но если эта политика должна привести нас к войне… – говорит Сазонов.
– Она приведет нас к войне, только если германские державы уже теперь решили применить силу, чтобы обеспечить себе гегемонию на Востоке. Твердость не исключает примирения. Но нужно, чтобы противная сторона согласилась договариваться и мириться. Вы знаете мое личное мнение о замыслах Германии. Австрийский ультиматум, мне кажется, служит началом опасного кризиса, который я предвижу уже давно. С сегодняшнего дня мы должны признать, что война может вспыхнуть с минуты на минуту. И эта перспектива должна быть на первом плане во всяком нашем дипломатическом действии.
Бьюкенен предполагает, что его правительство захочет остаться нейтральным: он боится поэтому, как бы Франция и Россия не были раздавлены Тройственным союзом.
Сазонов ему замечает:
– При настоящих обстоятельствах нейтралитет Англии равнялся бы самоубийству.
– Я в этом уверен, – грустно отвечает сэр Джордж. – Но я боюсь, что общественное мнение в нашей стране все еще плохо понимает, что требуют национальные интересы.
Я настаиваю на решающей роли, которую Англия может сыграть, чтобы унять воинственный пыл Германии, я ссылаюсь на мнение, которое четыре дня тому назад высказывал мне император Николай: Германия никогда не осмелится напасть на объединенные Россию, Францию и Англию иначе как совершенно потеряв рассудок. Итак, необходимо, чтобы британское правительство высказалось в пользу нашего дела, которое является делом мира. Сазонов с жаром высказывается в том же смысле.
Бьюкенен обещает нам энергично поддерживать перед сэром Эдвардом Греем политику сопротивления германским притязаниям.
В три часа Сазонов нас покидает, чтобы отправиться на Елагин остров, где Горемыкин созывает Совет министров.
В восемь часов вечера я еду в Министерство иностранных дел, где Сазонов ведет переговоры с моим германским коллегой.
Через несколько минут я вижу, как выходит Пурталес, с красным лицом, со сверкающими глазами. Спор, должно быть, был горячим. Он пожимает мне руку, в то время как я вхожу в кабинет министра.
Сазонов весь еще дрожит от спора, который он только что выдержал. У него нервные движения, сухой и прерывистый голос.
– Ну что же, – говорю я ему, – что произошло?..
– Как я предвидел, Германия вполне поддерживает дело Австрии. Ни одного слова примирения. Зато и я заявил весьма откровенно Пурталесу, что мы не оставим Сербию в одиночестве решать проблемы с Австрией. Наш разговор окончился в очень резком тоне.
– Ах, в очень резком?..
– Да… Знаете, что он осмелился сказать?.. Он меня упрекал, меня и всех русских, что мы не любим Австрии, что мы не совестимся тревожить последние дни ее почтенного императора. Я возражал: «Конечно, мы не любим Австрии… И почему стали бы мы ее любить?.. Она делала нам только зло. Что же касается ее почтенного императора, то если он еще носит корону на своей голове, так этим он обязан нам. Вспомните, как он нам изъявлял свою благодарность в 1855-м, в 1878-м, в 1908 годах… Упрекать нас в нелюбви к Австрии… Нет, в самом деле, это слишком…»
– Плохи дела. Если разговор между Петербургом и Берлином будет продолжаться таким образом, он долго не затянется. В самом непродолжительном времени мы увидим, как император Вильгельм поднимется в своих «сверкающих доспехах». Ради Бога, будьте сдержанны. Надо исчерпать все способы примирения. Не забывайте, что мое правительство – правительство общественного мнения и что оно сможет активно поддерживать вас только в том случае, если общество будет за него. Наконец, подумайте о мнении Англии.
– Я сделаю всё возможное, чтобы избежать войны. Но, как и вы, я очень обеспокоен оборотом, который принимают события.
– Могу ли я уверить мое правительство, что вы не дали еще приказания ни о каком военном мероприятии?..
– Ни о каком, я подтверждаю это. Мы только решили тайно вернуть на родину восемьдесят миллионов рублей, которые мы хранили в немецких банках.
Он прибавляет, что постарается добиться от графа Берхтольда продления срока переданного Сербии ультиматума, чтобы державы имели время составить себе мнение о юридической стороне конфликта и поискать путей примирения.
Русские министры соберутся завтра под председательством императора. Я советую Сазонову крайнюю осторожность в мнениях, которые он будет высказывать.
Нашего разговора было достаточно, чтобы дать отдых его нервам. И он отвечает очень положительно:
– Не бойтесь ничего… К тому же вы знаете благоразумие императора… Берхтольд доказал свою неправоту: мы должны заставить его взять на себя ответственность за то, что может последовать. Я считаю даже, что, если Венский кабинет перейдет к действиям, сербы должны будут допустить захват их территории и ограничиться указанием цивилизованному миру на низость Австрии.
Суббота, 25 июля
Вчера германские послы в Париже и Лондоне вручили французскому и британскому правительствам ноту, в которой заявляется, что австро-сербская ссора должна быть покончена исключительно между Веной и Белградом. Нота оканчивается такими словами: «Германское правительство горячо желает, чтобы конфликт был локализован, ибо всякое вмешательство третьей державы может… вызвать неисчислимые последствия».
Вот начинаются и приемы запугивания!
В три часа пополудни Сазонов принимает меня вместе с Бьюкененом. Он объявляет, что сегодня утром происходило чрезвычайно важное совещание в Царском Селе под председательством императора и что его величество принял, в принципе, решение мобилизовать тринадцать армейских корпусов, которые предположительно назначены действовать против Австро-Венгрии.
Затем, обращаясь к Бьюкенену, он всеми силами, очень серьезно настаивает на том, чтобы Англия более не медлила перейти на сторону России и Франции ввиду кризиса, ставящего на карту не только европейское равновесие, но даже свободу Европы. Я поддерживаю настояния Сазонова и, заканчивая дополнительным аргументом, указываю на портрет канцлера Горчакова, украшающий кабинет, в котором мы совещаемся.
– Вот здесь в июле 1870 года, дорогой сэр Джордж, князь Горчаков заявил вашему отцу (сэру Эндрю Бьюкенену, тогдашнему послу в России), который ему указывал на опасность германских честолюбивых замыслов: рост германского могущества не представляет собою ничего, что могло бы беспокоить Россию. Пусть современная Англия не совершает той ошибки, которая так дорого стоила тогдашней России.
– Вы прекрасно знаете, что убеждаете того, кто уже убежден, – говорит Бьюкенен с жестом безнадежности.
С каждым часом волнение в публике возрастает. В прессе сделано сообщение: императорское правительство внимательно следит за развитием австро-сербского конфликта, который не может оставить Россию безучастной.
Почти в то же время Пурталес дает знать Сазонову, что Германия как союзница Австрии поддерживает, само собою разумеется, законные требования Венского кабинета против Сербии.
Со своей стороны Сазонов советует сербскому правительству без промедления просить о посредничестве британского правительства.
В семь часов вечера я отправляюсь на Варшавский вокзал, чтобы проститься с Извольским, который поспешно возвращается к своему посту. На платформах большое оживление. Поезда донельзя нагружены офицерами и солдатами. Это уже пахнет мобилизацией. Мы быстро обмениваемся впечатлениями и делаем одинаковый вывод: на этот раз – это война.
Вернувшись в посольство, я узнаю, что император отдал приказ о подготовке мобилизации в Киевском, Одесском, Казанском и Московском военных округах. Кроме того, Петербург и Москва с их губерниями объявлены на военном положении. Наконец, лагерь в Красном Селе снят и войска с сегодняшнего вечера отосланы обратно на зимние квартиры.
В половине девятого мой военный атташе, генерал де Лагиш, вызван в Красное Село для переговоров с великим князем Николаем Николаевичем и военным министром генералом Сухомлиновым.
Воскресенье, 26 июля
Сегодня днем, когда я отправляюсь к Сазонову, мои впечатления несколько более благоприятны.
Он только что принял моего австро-венгерского коллегу графа Сапари и побудил его «к откровенному и честному объяснению».
Затем он прочел статью за статьей текст ультиматума, переданного в Белград, отмечая недопустимый, нелепый и оскорбительный характер главных статей. После этого он сказал самым дружеским тоном:
– Желание, которое породило этот документ, справедливо, если у вас не было иной цели, как защитить вашу территорию от происков сербских анархистов, но форма не может быть одобрена…
Он с жаром заключил:
– Возьмите назад ваш ультиматум, измените его редакцию, и я гарантирую благоприятный результат.
Сапари, казалось, был тронут, даже почти убежден этими словами; тем не менее он отстаивал точку зрения своего правительства.
Сегодня вечером Сазонов предложит Берхтольду начать непосредственные переговоры между Петербургом и Веной, чтобы условиться об изменениях, которые должны быть внесены в ультиматум.
Я поздравляю Сазонова с тем, что он так удачно вел разговор. Он отвечает:
– Я не откажусь от этой позиции. До последнего момента я буду стремиться к соглашению.
Затем, проводя рукой перед глазами, как если бы страшное видение возникло в его мыслях, он спрашивает меня дрожащим голосом:
– Откровенно, между нами, думаете ли вы, что можно было бы еще спасти дело мира?
– Если бы мы имели дело только с Австрией, у меня оставалась бы надежда… Но есть еще Германия; она обещала своей союзнице большой триумф самолюбия; она убеждена, что мы не осмелимся до конца противиться ей, что Тройственное согласие уступит, как оно уступало всегда. На этот раз мы не можем более уступать, под опасением не существовать более. Нам не избежать войны.
– Ах, мой дорогой посол, ужасно думать о том, что готовится.
Понедельник, 27 июля
В официальных сферах день прошел спокойно: дипломатия методически продолжает свою работу.
Измученный телеграммами и визитами, удрученный тяжелыми мыслями, я отправляюсь перед обедом прокатиться на острова; я схожу с экипажа в тенистой и уединенной аллее, которая проходит вдоль Елагина дворца. Прелестная погода. Мягкий свет льется сквозь густые и блестящие ветви больших дубов. Ни единое дуновение ветра не колеблет листьев, но время от времени в воздухе встают влажные испарения, которые кажутся свежим дыханием растений и вод.
Мои выводы полны пессимизма. Какие бы усилия я ни делал, чтобы их опровергнуть, они неизменно возвращают меня к одному: война. Прошло время комбинаций и дипломатического искусства. В сравнении с отдаленными и глубокими причинами, которые вызвали нынешний кризис, происшествия последних дней ничего не значат. Нет более личной инициативы, не существует более человеческой воли, которая могла бы сопротивляться автоматическому действию выпущенных на свободу сил.
Мы, дипломаты, утратили всякое влияние на события; мы можем только пытаться их предвидеть и настаивать, чтобы наши правительства сообразовали с ними свое поведение.
Судя по агентским телеграммам, кажется, что моральное состояние во Франции – хорошее. Нет ни нервозности, ни безумства; спокойная и сильная уверенность, полная национальная солидарность. И подумать только, что это та же страна, которая вчера еще увлекалась скандалами процесса Кайо и гипнотизировала себя перед клоакой, раскрывавшейся в здании суда.
По всей России общественное мнение раздражено. Сазонов лавирует, и ему еще удается обуздывать прессу. Но все же он принужден давать журналистам немного пищи, чтобы успокоить их внезапный голод, и он поручил сообщить им: «Если угодно, направляйте удары на Австрию, но будьте умеренны по отношению к Германии».
Вторник, 28 июля
В три часа дня я еду в Министерство иностранных дел. Бьюкенен совещается с Сазоновым.
Немецкий посол ожидает своей очереди, чтобы быть принятым. Я смело подхожу к нему:
– Ну что? Решили вы наконец успокоить вашу союзницу? Вы одни в состоянии заставить Австрию слушать благоразумные советы.
Он тотчас же возражает мне отрывистым голосом:
– Но это здесь должны успокоиться и перестать возбуждать Сербию…
– Я убежден, клянусь честью, что русское правительство совершенно спокойно и готово ко всем примирительным решениям. Но не просите у него, чтобы оно допустило уничтожение Сербии. Это значило бы просить у него невозможного.
Он бросает мне сухим тоном:
– Мы не можем покинуть нашу союзницу.
– Позвольте мне, не стесняясь, говорить с вами, мой дорогой коллега. Время достаточно серьезное, и я думаю, что мы достаточно друг друга уважаем, чтобы иметь право объясняться с полной откровенностью… Если через день, через два австро-сербский конфликт не будет улажен, то это – война, всеобщая война, катастрофа, какой мир, может быть, никогда не знал. И это бедствие еще может быть отвращено, потому что русское правительство миролюбиво, потому что британское правительство миролюбиво, потому что ваше правительство называет себя миролюбивым.
При этих словах Пурталес вспыхивает:
– Да, конечно, и я призываю Бога в свидетели: Германия миролюбива. Вот уже сорок три года, как мы охраняем мир Европы. В продолжение сорока трех лет мы считаем долгом чести не злоупотреблять своей силой. И нас сегодня обвиняют в желании возбудить войну… История докажет, что мы вполне правы и что наша совесть ни в чем не может нас упрекнуть.
– Разве мы уже в таком положении, что необходимо взывать к суду истории? Разве нет больше никакой надежды на спасение?
Волнение, которое охватывает Пурталеса, таково, что он не может более говорить. Его руки дрожат, его глаза наполняются слезами. Дрожа от сдерживаемого гнева, он повторяет:
– Мы не можем покинуть и не покинем нашу союзницу… Нет, мы ее не покинем.
В эту минуту английский посол выходит из кабинета Сазонова. Пурталес бросается туда с суровым видом и даже, проходя, не подает руки Бьюкенену.
– В каком он состоянии! – говорит мне сэр Джордж. – Положение еще ухудшилось… Я не сомневаюсь более, что Россия не отступит, она совершенно серьезна. Я умолял Сазонова не соглашаться ни на какую военную меру, которую Германия могла бы истолковать как вызов. Надо предоставить германскому правительству всю ответственность и всю инициативу нападения. Английское общественное мнение не допустит мысли об участии в войне иначе как при условии, чтобы наступление исходило несомненно от Германии… Ради Бога, говорите в том же смысле с Сазоновым.
– Я иначе с ним и не говорю.
В этот момент вдруг входит австрийский посол. Он бледен. Сдержанность, которую он выказывает по отношению к нам, противоположна той гибкой и учтивой приветливости, которая ему привычна.
Бьюкенен и я, мы пытаемся заставить его говорить.
– Получили ли вы из Вены новости получше? Можете ли вы немного нас успокоить?
– Нет, я не знаю ничего нового… Машина катится.
Не желая более объясняться, он повторяет свою апокалиптическую метафору:
– Машина катится.
Понимая, что не стоит упорствовать, я выхожу с Бьюкененом. К тому же я хотел бы увидеть министра только после того, как он примет Пурталеса и Сапари.
Через четверть часа обо мне докладывают Сазонову. Он бледен и дрожит:
– Я вынес очень плохое впечатление, – говорит он, – очень плохое. Теперь ясно, что Австрия отказывается вести переговоры с нами и что Германия втайне ее подстрекает.
– Следовательно, вы ничего не могли добиться от Пурталеса?
– Ничего. Германия не может оставить Австрии. Но разве я требую, чтобы она ее оставила? Я просто прошу помочь мне разрешить кризис мирными способами… Впрочем, Пурталес более не владел собой, он не находил слов, он заикался, у него был испуганный вид. Откуда этот испуг?.. Ни вы, ни я – мы не таковы, мы сохраняем наше хладнокровие, наше самообладание.
– Пурталес сходит с ума потому, что тут действует его личная ответственность. Я боюсь, это он способствовал тому, что его правительство пустилось в эту ужасную авантюру, утверждая, будто Россия не выдержит удара и будто если, паче чаяния, она не уступит, – то Франция изменит русскому союзу. Теперь он видит, в какую пропасть он низверг свою страну.
– Вы уверены в этом?
– Почти… Еще вчера Пурталес уверял нидерландского посланника и бельгийского поверенного в делах, что Россия капитулирует и что это будет триумфом для Тройственного союза. Я знаю это из самого лучшего источника.
Сазонов делает унылый жест и сидит молча. Я возражаю:
– Со стороны Вены и Берлина жребий брошен. Теперь вы должны усиленно думать о Лондоне. Я умоляю вас не предпринимать никакой военной меры на немецком фронте и быть также очень осторожными на австрийском, пока Германия не открыла своей игры. Малейшая неосторожность с вашей стороны будет нам стоить содействия Англии.
– Я тоже так думаю, но наш штаб теряет терпение, и мне приходится с большим трудом его сдерживать.
Эти последние слова меня беспокоят; у меня является одна мысль:
– Как бы ни была серьезна опасность, как бы ни были слабы шансы на спасение, мы должны, вы и я, до пределов возможного пытаться спасти мир. Прошу вас принять во внимание, что я нахожусь в беспримерном для посла положении. Глава государства и глава правительства находятся в море; я могу сноситься с ними только с перерывами и самым ненадежным способом; к тому же, так как они только очень неполно знают положение, они не могут послать мне никаких инструкций. В Париже министерство лишено главы, его сношения с президентом и премьером столь же нерегулярны и недостаточны. Моя ответственность, таким образом, громадна. Поэтому я прошу вас согласиться на все меры, которые Франция и Англия предложат для того, чтобы сохранить мир.
– Но это невозможно!.. Как вы хотите, чтобы я заранее согласился на меры, не зная ни их цели, ни условий?..
– Я уже сказал вам, что мы должны испробовать всё вплоть до невозможного, чтобы отвратить войну. Я настаиваю поэтому на моей просьбе.
После короткого колебания он мне отвечает:
– Ну что же, да, я согласен.
– Я смотрю на ваше обязательство как на официальное и телеграфирую о нем в Париж.
– Вы можете об этом телеграфировать.
– Благодарю, вы снимаете с моей совести большую тяжесть.
Среда, 29 июля
Пролог драмы, мне кажется, приближается к последней сцене.
Вчера вечером правительство Австро-Венгрии отдало приказ об общей мобилизации армии; Венский кабинет, таким образом, отказывается от прямых переговоров, которые ему предлагало русское правительство.
Сегодня днем, около трех часов, Пурталес заявил Сазонову, что если Россия не прекратит немедленно своих военных приготовлений, Германия также мобилизует свою армию. Сазонов ответил ему, что приготовления русского штаба вызваны упорной непримиримостью Венского кабинета и тем фактом, что восемь австро-венгерских корпусов находятся уже в готовности к войне.
В одиннадцать часов вечера Николай Александрович Базили, вице-директор канцелярии Министерства иностранных дел, является ко мне в посольство; он приходит сообщить, что повелительный тон, в котором сегодня днем высказался германский посол, побудил русское правительство, во-первых, приказать сегодня же ночью мобилизацию тринадцати корпусов, назначенных действовать против Австро-Венгрии, и, во-вторых, начать тайно общую мобилизацию.
Последние слова заставляют меня привскочить.
– Разве невозможно ограничиться, хотя бы временно, частичной мобилизацией?
– Нет! Вопрос только что основательно обсуждался в совещании наших самых высоких военачальников. Они признали, что при нынешних обстоятельствах русское правительство не имеет выбора между частичной и общей мобилизацией, так как частичная мобилизация не будет технически исполнима без общей мобилизации. Следовательно, если бы мы сегодня ограничились мобилизацией тринадцати корпусов, назначенных действовать против Австрии, и если бы завтра Германия решила военной силой поддержать свою союзницу, мы оказались бы не в состоянии защитить себя со стороны Польши и Восточной Пруссии… Разве Франция не заинтересована, так же как и мы, в том, чтобы мы могли быстро выступить против Германии?..
– Вы указываете здесь на весьма важные соображения. Тем не менее я считаю, что ваш штаб не должен принимать никаких мер раньше, чем он свяжется с французским штабом. Будьте добры сказать от меня господину Сазонову, что я обращаю самое серьезное внимание его на этот пункт и что я хотел бы получить ответ в течение ночи.
(Точная хронология событий обязывает меня сослаться здесь на документ, который увидел свет только шесть месяцев спустя.)
В этот день 29 июля император Николай, следуя побуждениям своего сердца и не испытывая желания с кем-либо посоветоваться, направил императору Вильгельму телеграмму с предложением передать решение австро-сербского спора на рассмотрение Гаагского трибунала. Если бы кайзер всего лишь принял предложение об арбитраже, то война могла быть самым определенным образом предотвращена; но он даже не ответил на предложение царя.
События затем приняли такое бурное развитие, что Николай II не стал информировать Сазонова о своей личной инициативе, которую, как он считал, он был обязан предпринять.
Четверг, 30 июля
Едва Базили вернулся в Министерство иностранных дел, как Сазонов просит меня по телефону прислать ему моего первого секретаря Шамбрена «для крайне неотложного сообщения». В то же время мой военный атташе генерал де Лагиш вызван в Генеральный штаб. Уже три четверти первого часа ночи.
Император Николай, который вечером получил личную телеграмму от императора Вильгельма, действительно решил отсрочить общую мобилизацию, так как Вильгельм утверждает, что «он старается всеми силами способствовать непосредственному соглашению между Австрией и Россией». Царь принял это решение своею личною властью, несмотря на сопротивление генералов, которые лишний раз представили ему неудобство, даже опасность частичной мобилизации. Итак, я сообщаю в Париж только о мобилизации тринадцати русских корпусов, назначенных действовать против Австрии.
Сегодня утром газеты сообщают, что австро-венгерская армия вчера вечером начала нападение на Сербию бомбардировкой Белграда.
Новость, тотчас же распространившаяся в публике, вызывает сильное волнение. Со всех сторон мне телефонируют, чтобы спросить, не знаю ли я подробностей о событии, решила ли Франция поддержать Россию и т. д. Оживленные группы на улицах. И перед моими окнами на набережной Невы четыре мужика, которые выгружают дрова, прерывают работу, чтобы послушать своего хозяина, который читает им газету. Затем они все пятеро долго разговаривают с серьезными жестами и возмущенными лицами. Рассуждение заканчивается крестным знамением.
В два часа дня Пурталес отправляется в Министерство иностранных дел. Сазонов, который немедленно его принимает, с первых же слов догадывается, что Германия не хочет произнести в Вене сдерживающего слова, которое бы спасло мир.
Поведение Пурталеса слишком красноречиво: он потрясен, потому что замечает теперь последствия непримиримой политики, орудием, если не подстрекателем которой он был; он предвидит неминуемую катастрофу и изнемогает под тяжестью ответственности.
– Ради Бога, – говорит он Сазонову, – сделайте мне какое-нибудь предложение, которое бы я мог передать своему правительству. Это моя последняя надежда.
Сазонов немедленно сочиняет следующую искусную формулу: «Если Австрия, признавая, что австро-сербский вопрос принял общеевропейский характер, объявит себя готовой вычеркнуть из своего ультиматума пункты, которые наносят ущерб Сербии, Россия обязывается прекратить свои военные приготовления».
Удрученный, с мрачным взглядом, заикающийся Пурталес уходит нетвердыми шагами.
Час спустя Сазонова принимают в Петергофском дворце, чтобы тот сделал доклад императору. Он находит монарха расстроенным телеграммой, которую император Вильгельм отправил ему ночью и тон которой звучит угрозой:
«Если Россия мобилизуется против Австро-Венгрии, миссия посредника, которую я принял по твоей настоятельной просьбе, будет чрезвычайно затруднена, если не совсем невозможна. Вся тяжесть решения ложится на твои плечи, которые должны будут нести ответственность за войну или за мир».
Прочитав телеграмму, Сазонов делает жест отчаяния:
– Нам не избежать более войны. Германия явно уклоняется от посредничества, которого мы от нее просим, и хочет только выиграть время, чтобы закончить втайне свои приготовления. При этих условиях я не думаю, чтобы ваше величество могло более откладывать приказ об общей мобилизации.
Очень бледный император с судорогой в горле ему отвечает:
– Подумайте об ответственности, которую вы советуете мне принять! Подумайте о том, что дело идет о посылке тысяч и тысяч людей на смерть!
Сазонов возражает:
– Если война вспыхнет, ни совесть вашего величества, ни моя не смогут ни в чем нас упрекнуть. Вы и ваше правительство сделали всё возможное, чтобы избавить мир от этого ужасного испытания… Но сегодня я убежден, что дипломатия окончила свое дело. Отныне надо думать о безопасности империи. Если ваше величество остановит наши приготовления к мобилизации, то этим удастся только расшатать нашу военную организацию и привести в замешательство наших союзников. Война, невзирая на это, все же вспыхнет в час, желательный для Германии, и застанет нас в полном расстройстве.
После минутного размышления император произносит решительным голосом:
– Сергей Дмитриевич, пойдите телефонируйте начальнику Главного штаба, что я приказываю произвести общую мобилизацию.
Сазонов спускается в вестибюль дворца, где находится телефонная будка, и передает генералу Янушкевичу приказ императора.
Часы показывают ровно четыре часа.
Броненосец «Франция», на котором находится президент и премьер, прибыл вчера в Дюнкерк, уклонившись от посещения Копенгагена и Христиании.
В шесть часов я получаю телеграмму, отправленную из Парижа сегодня утром и подписанную Вивиани. Подтвердив лишний раз мирные намерения французского правительства и возобновив свои советы об осторожности русскому правительству, Вивиани прибавляет: Франция решила исполнить все обязательства союзного договора.
Я отправляюсь объявить об этом Сазонову, который чрезвычайно просто отвечает мне:
– Я был уверен во Франции.
Пятница, 31 июля
Приказ об общей мобилизации опубликован на рассвете.
Во всем городе, как в простонародных частях города, так и в богатых и аристократических, единодушный энтузиазм.
На площади Зимнего дворца, перед Казанским собором раздаются воинственные крики «ура».
Император Николай и император Вильгельм продолжают свой разговор по телеграфу. Царь телеграфировал сегодня утром кайзеру:
«Мне технически невозможно остановить военные приготовления. Но пока переговоры с Австрией не будут прерваны, мои войска воздержатся от всяких наступательных действий. Я даю тебе в этом мое честное слово».
На что император Вильгельм ответил:
«Я дошел до крайних пределов возможного в моем старании сохранить мир. Поэтому не я понесу ответственность за ужасные бедствия, которые угрожают теперь всему цивилизованному миру. Только от Тебя теперь зависит отвратить их. Моя дружба к Тебе и Твоей империи, завещанная мне дедом, всегда для меня священна, и я был верен России, когда она находилась в беде во время последней войны. В настоящее время Ты еще можешь спасти мир Европы, если остановишь военные мероприятия».
Сазонов, по-прежнему желающий привлечь на свою сторону английское общественное мнение и готовый до последней минуты делать всё возможное, чтобы предотвратить войну, принимает, без возражений, некоторые изменения, которые сэр Эдвард Грей просит его внести в предложение, удивившее вчера Берлинский кабинет. Вот новый текст:
«Если Австрия согласится остановить продвижение своих армий на сербской территории и если, признавая, что австро-сербский конфликт принял характер вопроса, имеющего общеевропейское значение, она допустит, чтобы великие державы обсудили удовлетворение, которое Сербия могла бы предложить правительству Австро-Венгрии, не умаляя своих прав суверенного государства и своей независимости, Россия обязуется сохранить выжидательное положение».
В три часа дня германский посол испрашивает аудиенцию у императора, который просит его немедленно приехать в Петергоф.
Принятый самым приветливым образом, Пурталес ограничивается тем, что развивает мысль, изложенную в последней телеграмме кайзера: «Германия всегда была лучшим другом России… Пусть император Николай согласится отменить свои военные мероприятия, и спокойствие мира будет спасено…»
Царь отвечает, указывая на значение средств к примирению, которые предложение Сазонова, дополненное Греем, еще предоставляет для почетного улаживания конфликта.
В одиннадцать часов вечера в Министерстве иностранных дел докладывают о приезде Пурталеса. Принятый тотчас же, он заявляет Сазонову, что, если в течение двенадцати часов Россия не остановит своих мобилизационных мер как на германской, так и на австро-венгерской границе, вся германская армия будет мобилизована.
Затем, глядя на часы, которые показывают двадцать пять минут двенадцатого, он прибавляет:
– Срок окончится завтра в полдень.
Не давая Сазонову времени сделать какое-нибудь замечание, он говорит дрожащим торопливым голосом:
– Согласитесь на демобилизацию!.. Согласитесь на демобилизацию!.. Согласитесь на демобилизацию!..
Сазонов очень спокойно отвечает:
– Я могу только подтвердить вам то, что вам сказал его величество император. Пока будут продолжаться переговоры с Австрией, пока останется хоть один шанс на предотвращение войны, мы не будем нападать. Но нам технически невозможно демобилизоваться, не расстраивая всей военной организации. Это соображение, законность которого не может оспаривать даже ваш штаб.
Пурталес уходит с жестом отчаяния.
Суббота, 1 августа
В течение вчерашнего дня император Вильгельм объявил, что Германия находится в состоянии «угрозы войны». Объявление «угрозы войны» означает немедленный призыв резервистов и закрытие границ. Если это не официальная мобилизация, то во всяком случае это прелюдия к войне и первый шаг к ее началу.
Получив эти новости, царь телеграфировал кайзеру:
«Я понимаю, что ты вынужден мобилизоваться, но я хотел бы иметь от тебя ту же самую гарантию, которую сам дал тебе – что эти меры не означают войны и что мы продолжим наши переговоры, чтобы спасти всеобщий мир, столь дорогой для наших сердец. С Божьей помощью наша продолжительная и испытанная временем дружба будет в состоянии предотвратить кровопролитие. С верой в это я жду от тебя ответа».
Срок, назначенный германским ультиматумом, истекает сегодня в полдень; только в семь часов вечера Пурталес является в Министерство иностранных дел.
Очень красный, с распухшими глазами, задыхающийся от волнения, он торжественно передает Сазонову объявление войны, которое оканчивается следующей театральной и лживой фразой: «Его величество император, мой августейший монарх, от имени империи принимает вызов и считает себя находящимся в состоянии войны с Россией».
Сазонов ему отвечает:
– Вы проводите здесь преступную политику. Проклятие народов падет на вас.
Затем, читая громким голосом объявление войны, он с изумлением видит там, в скобках, два варианта, имеющие, впрочем, очень мало значения. Так, после слов «Россия, отказавшись воздать должное…» написано «не считая нужным ответить…» И далее, после слов «Россия, обнаружив этим отказом…» стоит «этим положением…». Вероятно, эти варианты были указаны из Берлина и по недосмотру или по поспешности переписчика были, как тот, так и другой, вставлены в официальный текст.
Пурталес до такой степени поражен, что не успевает объяснить эту странность формы, которая навечно делает смешным исторический документ, кладущий начало стольким бедствиям. Когда чтение окончено, Сазонов повторяет:
– Вы совершаете здесь преступление!
– Мы защищаем нашу честь!
– Ваша честь не была затронута. Вы могли одним словом предотвратить войну – вы не хотите этого. Во всем, что я пытался сделать с целью спасти мир, я не встретил с вашей стороны ни малейшего содействия. Но существует Божий суд!..
Пурталес отвечает глухим голосом, с растерянным взглядом:
– Это правда… Существует!
Он бормочет еще несколько непонятных слов и, весь дрожа, направляется к окну, которое находится справа от входной двери, против Зимнего дворца. Там он прислоняется к подоконнику и вдруг разражается рыданиями.
Сазонов пытается его успокоить, слегка похлопывая по спине. Пурталес бормочет:
– Вот результат моего пребывания здесь…
Затем внезапно он бросается к двери, которую с трудом отворяет, так дрожат его руки, и выходит, бормоча:
– Прощайте!.. Прощайте!..
Несколько минут спустя я вхожу к Сазонову, который описывает мне всю сцену. Он сообщает мне, сверх того, что Бьюкенен испросил аудиенцию у императора, дабы передать ему личную телеграмму своего монарха. В этой телеграмме король Георг обращается с последним призывом к миролюбию царя и умоляет его продолжать примирительные попытки. Эта просьба бесцельна с тех пор, как Пурталес передал объявление войны. Император тем не менее примет Бьюкенена сегодня вечером в одиннадцать часов.
Воскресенье, 2 августа
Общая мобилизация французской армии. Телеграфный приказ дошел до меня сегодня в два часа ночи.
Итак, жребий брошен… Доля разума, который управляет народами, так мала, что достаточно было недели, чтобы вызвать всеобщее безумие… Я не знаю, как история будет судить дипломатические действия, в которых я участвовал вместе с Сазоновым и Бьюкененом; но мы, все трое, имеем право утверждать, что добросовестно сделали всё зависевшее от нас с целью спасти мир всего мира, не соглашаясь, однако, принести в жертву два других блага, еще более ценных: независимость и честь родины.
В продолжение этой решительной недели работа моего посольства была очень тяжела: ночи были не менее заняты работой, чем дни. Сотрудники были полны рвения и хладнокровия. Я нашел во всех – в моем советнике Дульсе, в моих военных атташе генерале де Лагише и майоре Верлене, в моих секретарях Шамбрене, Жанти, Дюлонге и Робьене – содействие столь же активное и разумное, сколько душевное и усердное.
Сегодня в три часа дня я отправляюсь в Зимний дворец, откуда, согласно обычаю, император должен объявить манифест своему народу. Я единственный иностранец, допущенный к этому торжеству как представитель союзной державы.
Зрелище великолепное. В громадном Георгиевском зале, который идет вдоль набережной Невы, собрано пять или шесть тысяч человек. Весь двор в торжественных одеждах, все офицеры гарнизона в походной форме. Посередине зала помещен алтарь, и туда из храма на Невском проспекте перенесли чудотворную икону Казанской Божьей Матери. В 1812 году фельдмаршал князь Кутузов, отправляясь к армии в Смоленск, долго молился перед этой иконой.
В благоговейной тишине императорский кортеж проходит через зал и становится слева от алтаря. Император приглашает меня занять место около него, желая таким образом, говорит он мне, «засвидетельствовать публично уважение верной союзнице, Франции».
Божественная служба начинается тотчас же, сопровождаемая мощными и патетическими песнопениями православной литургии. Николай II молится с горячим усердием, которое придает его бледному лицу поразительное выражение глубокой набожности. Императрица Александра Федоровна стоит рядом с ним, неподвижно, с высоко поднятой головой, с лиловыми губами, с остановившимся взглядом стеклообразных зрачков; время от времени она закрывает глаза, и ее посиневшее лицо напоминает маску.
После окончания молитв дворцовый священник читает манифест царя народу – простое изложение событий, которые сделали войну неизбежной, красноречивый призыв к национальной энергии, прошение о помощи Всевышнего и т. д. Затем император, приблизясь к алтарю, поднимает правую руку над Евангелием, которое ему подносят. Он так серьезен и сосредоточен, как если бы собирался приобщиться Святых Тайн. Медленным голосом, подчеркивая каждое слово, он заявляет:
– Офицеры моей гвардии, присутствующие здесь, я приветствую в вашем лице всю мою армию и благословляю ее. Я торжественно клянусь, что не заключу мира, пока останется хоть один враг на родной земле.
Громкое «ура» отвечает на это заявление, скопированное с клятвы, которую император Александр I произнес в 1812 году. В течение приблизительно десяти минут во всем зале стоит неистовый шум, который вскоре усиливается криками толпы, собравшейся вдоль Невы.
Внезапно, с обычной стремительностью, великий князь Николай, генералиссимус русских армий, бросается ко мне и целует, почти задушив меня. Тогда энтузиазм усиливается, раздаются крики: «Да здравствует Франция! Да здравствует Франция!»
Сквозь шум, приветствующий меня, я с трудом прокладываю себе путь позади монарха и пробираюсь к выходу.
Наконец я выхожу на площадь Зимнего дворца, где теснится бесчисленная толпа с флагами, знаменами, иконами, портретами царя.
Император появляется на балконе. Мгновенно все опускаются на колени и поют русский гимн. В эту минуту царь для них действительно самодержец, посланный Богом, военный, политический и религиозный вождь своего народа, неограниченный владыка их душ и тел.
В то время как я возвращаюсь в посольство, под впечатлением от этого грандиозного зрелища, я не могу не вспомнить о злополучном дне 9 января 1905 года, когда население Петербурга, предводительствуемое священником Гапоном и предшествуемое, как и сегодня, святыми иконами, собралось перед Зимним дворцом, чтобы умолять своего батюшку-царя, – и тогда в него стреляли.
Понедельник, 3 августа
Министр внутренних дел, Николай Алексеевич Маклаков, утверждает, что мобилизация на всей территории империи происходит с полной правильностью и при сильном подъеме патриотизма.
Я на этот счет не имел никаких опасений, самое большее, чего я опасался, – нескольких местных инцидентов.
Один из моих осведомителей Б., который вращается в прогрессивных кругах, говорит мне:
– В этот момент нечего опасаться ни забастовки, ни беспорядков. Национальный порыв слишком силен… Да и руководители социалистических партий на всех заводах проповедовали покорность военному долгу; к тому же они убеждены, что эта война приведет к торжеству пролетариата.
– Торжество пролетариата… даже в случае победы?..
– Да, потому что война заставит слиться все социальные классы; она приблизит крестьянина к рабочему и студенту; она лишний раз выведет на свет нечестность нашей бюрократии, что заставит правительство считаться с общественным мнением; она введет, наконец, в дворянскую офицерскую касту свободомыслящий и даже демократический элемент, свойственный офицерам запаса.
Этот элемент уже сыграл большую политическую роль во время войны в Маньчжурии… Без него военные мятежи 1905 года не были бы возможны.
– Сначала будем победителями… Потом увидим.
Председатель Думы, Михаил Владимирович Родзянко, также говорит со мной в самом успокоительном тоне, возможном сегодня.
– Война, – говорит он, – внезапно положила конец всем нашим внутренним раздорам. Во всех думских партиях помышляют только о войне с Германией. Русский народ не испытывал подобного патриотического подъема с 1812 года.
Великий князь Николай Николаевич назначен главнокомандующим – временно, так как император предоставляет себе право в более подходящий момент принять личное командование своими войсками.
Это назначение послужило причиною очень оживленных дискуссий в совещании, которое его величество имел со своими министрами. Император хотел немедленно стать во главе войск. Горемыкин, Кривошеин, адмирал Григорович и в особенности Сазонов с почтительной настойчивостью напомнили ему, что он не должен рисковать своим престижем и своей властью, предводительствуя в войне, которая обещает быть очень тяжелой, очень опасной и начало которой очень неопределенно.
– Надо быть готовым к тому, – сказал Сазонов, – что мы будем отступать в течение первых недель. Ваше величество не должно подвергать себя критике, которую это отступление тотчас вызовет в народе и даже в армии.
Император привел в пример своего предка Александра I в 1805 и в 1812 годах. Сазонов основательно возразил:
– Пусть ваше величество соблаговолит перечитать мемуары и переписку того времени. Вы увидите там, как ваш августейший предок был порицаем и осуждаем за то, что принял личное командование действиями. Вы увидите там описание всех бед, которых можно было бы избежать, если б он остался в столице, чтобы пользоваться своей верховной властью.
Император кончил тем, что согласился с этим мнением.
Генерал Сухомлинов, военный министр, который уже давно добивался высокого поста главнокомандующего, взбешен тем, что ему предпочли великого князя Николая Николаевича. И, к несчастью, это человек, который будет за себя мстить…
Вторник, 4 августа
Вчера Германия объявила войну Франции.
Общая мобилизация производится быстро и без малейших эксцессов во всей России. Первоочередные части даже выиграли пять или шесть часов в сравнении с расписанием.
Сазонов, бескорыстие и честность которого я часто раньше имел случай оценить, показал себя в это последнее время в таком виде, который возвышает его еще больше. В нынешнем кризисе он видит не только политическую проблему, которая должна быть решена, но также и, главным образом, проблему моральную, в которой замешана даже религия. Над всей его работой господствуют тайные влечения его совести и его убеждений. Несколько раз он мне говорит:
– Эта политика Австрии и Германии столь же преступна, сколь и бессмысленна: она не заключает в себе ни малейшего элемента нравственности, она оскорбляет все божественные законы.
Сегодня утром, видя его изнемогающим от усталости, с темными кругами под глазами, я спрашиваю у него, как он может переносить такую работу при его слабом здоровье; он мне отвечает:
– Господь поддерживает меня.
Весь день перед посольством проходили шествия, с флагами, иконами, криками «Да здравствует Франция! Да здравствует Франция!».
Толпа очень смешанная: рабочие, священники, крестьяне, студенты, курсистки, прислуга, мелкие чиновники и т. д. Энтузиазм кажется искренним. Но в этих манифестациях, столь многолюдных и появляющихся через такие правильные промежутки времени, какую часть инициативы надо приписать полиции?..
Я ставлю себе этот вопрос сегодня вечером, около десяти часов, когда мне докладывают, что толпа народа бросилась на германское посольство и разграбила его до основания.
Расположенное на главной площади города, между Исаакиевским собором и Мариинским дворцом, германское посольство представляет собою колоссальное здание: массивный фасад из финляндского гранита, тяжелые архитравы, циклопическая каменная кладка. Два громадных бронзовых коня на крыше, которых держат в поводьях гиганты, окончательно подавляют здание. Отвратительное как произведение искусства, строение это очень символично: оно утверждает с грубой и явной выразительностью желание Германии преобладать над Россией.
Чернь наводнила здание, била стекла, срывала обои, протыкала картины, выбросила в окно всю мебель, в том числе мрамор и бронзу эпохи Возрождения, которые составляли прелестную личную коллекцию Пурталеса. А в конце нападавшие сбросили на тротуар конную группу, которая возвышалась над фасадом. Разграбление продолжалось более часу под снисходительными взорами полиции.
Этот акт вандализма, будет ли он иметь также символическое значение? Предвещает ли он падение германского влияния в России?
Мой австрийский коллега Сапари находится еще в Петербурге, не понимая, почему его правительство так мало торопится прервать сношения с русским правительством.
Среда, 5 августа
Петербургская французская колония служит сегодня торжественную мессу во французской церкви Богоматери, чтобы призвать благословение небес на наши войска.
В пять часов утра Бьюкенен телефонировал мне, что получил ночью телеграмму из английского министерства иностранных дел, извещающую его о вступлении Англии в войну. Поэтому я приказываю присоединить к французскому и русскому флагам, украшающим алтарь, и британский флаг.
В церкви я сажусь на мое обычное кресло, в правом проходе.
Бьюкенен почти одновременно приезжает и говорит мне с глубоким чувством:
– Мой союзник… Мой дорогой союзник…
В центре в первом ряду стоят два кресла – одно для Белосельского, генерал-адъютанта его величества, представляющего особу государя императора, другое – для генерала Крупенского, состоящего при великом князе Николае Николаевиче, представителя Верховного главнокомандующего.
В левом проходе собрались все русские министры, а позади них – человек сто должностных лиц, офицеров и проч.
Вся церковь полна народу и благоговейно сосредоточена.
На лице каждого вновь входящего я читаю то же радостное удивление. Вывешенный Union Jack показывает всем, что Англия отныне наша союзница.
Эти флаги трех наций красноречиво гармонируют друг с другом, составленные из одинаковых цветов – синего, белого и красного, – они выражают, поразительным и живописным образом, солидарность трех народов, вступивших в коалицию.
В конце мессы хор поет последовательно:
Domine, salvam fac Respublicam!
Domine, salvam fac Imperatorem Nicolaum!
Domine, salvаm fac Regem Britannicum[1 - Господи, спаси Республику! Господи, спаси императора Николая! Господи, спаси короля Британии! (лат.) – Прим. пер.]!
При выходе из церкви Сазонов говорит, что государь просит меня приехать к нему сегодня же в Петергоф.
Приехав в три часа дня в маленький загородный дворец Александрия, я был немедленно введен в кабинет его величества.
Согласно этикету, я оделся в полную парадную форму. Но церемониал приема упрощен: со мною церемониймейстер, для сопровождения от Петербурга до Петергофа, адъютант, чтобы доложить обо мне, и неизбежный скороход императорского двора в костюме XVIII века.
Кабинет царя, расположенный во втором этаже, освещен широкими окнами, из которых, насколько хватает глаз, открывается вид на Финский залив. Два стола, заваленных бумагами, диван, шесть кожаных кресел, несколько гравюр с военными сюжетами составляют всю обстановку. Император, в походной форме, принимает меня стоя.
– Я хотел, – говорит он мне, – выразить вам всю свою благодарность, всё свое удивление перед вашей страной. Показав себя столь верной союзницей, Франция дала миру незабвенный пример патриотизма и верности.
Передайте, прошу вас, правительству Республики мою самую сердечную благодарность.
Последнюю фразу он произносит проникновенным и слегка дрожащим голосом, изобличающим его волнение. Я отвечаю:
– Правительство Республики будет очень тронуто благодарностью вашего величества. Оно заслужило ее той быстротой и решительностью, с которыми выполнило свой союзнический долг, когда убедилось, что дело мира непоправимым образом погублено. В этот день оно не колебалось ни одного мгновения. И с тех пор я мог передавать вашим министрам лишь слова поддержки уверения в солидарности.
– Я знаю… Впрочем, я всегда верил слову Франции.
Мы говорим затем о завязывающейся борьбе. Император предвидит, что она будет очень жестокой, очень долгой, очень опасной.
– Нам нужно вооружиться мужеством и терпением. Что касается меня, то я буду бороться до самого конца. Для того чтобы достичь победы, я пожертвую всем, вплоть до последнего рубля и солдата. Пока останется хотя один враг на русской земле или на земле Франции – до тех пор я не заключу мира.
Самым простым, самым спокойным и ровным голосом делает он мне это торжественное заявление. Какая-то странная смесь в его голосе и особенно в его взгляде – решимости и кротости, чего-то одновременно непоколебимого и пассивного, смутного и определенного, как будто он выражает не свою личную волю, но повинуется скорее некоей внешней силе, велению Промысла или Рока.
Не будучи, со своей стороны, таким фаталистом, как он, я указываю ему со всей настойчивостью, на которую только способен, какой ужасной опасности должна подвергнуться Франция в первую фазу войны:
– Французской армии придется выдержать ужасающий натиск двадцати пяти германских корпусов. Потому я умоляю ваше величество предписать вашим войскам перейти в немедленное наступление – иначе французская армия рискует быть раздавленной, и тогда вся масса германцев обратится против России.
Он отвечает, подчеркивая каждое слово:
– Как только закончится мобилизация, я дам приказ идти вперед. Мои войска рвутся в бой. Наступление будет вестись со всею возможною силой. Вы ведь, впрочем, знаете, что великий князь Николай Николаевич обладает необычайной энергией.
Император затем расспрашивает меня о разных вопросах военной техники, о наличном составе германской армии, о согласованных планах русского и английского генеральных штабов, о взаимодействии английской армии и флота, о предполагаемой позиции, которую займут Италия и Турция, и т. д. – всё о вопросах, которые, мне кажется, он изучил до тонкости.
Уже целый час длится аудиенция. Вдруг император смолкает. Он как будто в затруднении и смотрит на меня серьезным взглядом в несколько неловкой позе, делая руками нерешительное движение. Потом внезапно заключает меня в объятия, говоря:
– Господин посол, позвольте мне в вашем лице обнять мою дорогую и славную Францию.
Из скромного коттеджа Александрия я отправляюсь в роскошный дворец Знаменка, который находится совсем близко и в котором живет великий князь Николай Николаевич.
Главнокомандующий принимает меня в просторном кабинете, где все столы покрыты разложенными картами. Он идет мне навстречу быстрыми и решительными шагами и, как три дня тому назад в Зимнем дворце, обнимает, почти раздавив мне плечи.
– Господь и Жанна д’Арк с нами! – восклицает он. – Мы победим. Разве не Провидению угодно было, чтобы война разгорелась по такому благородному поводу? И чтобы наши народы отозвались на приказ о мобилизации с таким энтузиазмом? Чтобы обстоятельства так нам благоприятствовали?
Я, как могу лучше, приспособляюсь к этому военному и мистическому красноречию, наивная форма которого не мешает мне чувствовать его бодрость; тем не менее я остерегся бы призывать Жанну д’Арк, потому что теперь дело идет не о том, чтобы изгнать англичан из Франции, но привлечь их туда – и как можно скорее.
Без предисловий я приступаю к вопросу самому важному из всех:
– Через сколько дней, ваше высочество, вы перейдете в наступление?
– Я прикажу наступать, как только эта операция станет выполнимой, и я буду атаковать основательно. Может быть, я даже не буду ждать, когда завершится сосредоточение войск. Как только я почувствую себя достаточно сильным, тут же начну нападение. Это случится, вероятно, 14 августа.
Затем он объясняет мне свой общий план движений: 1) группа, действующая на прусском фронте; 2) группа, действующая на галицийском фронте; 3) масса в Польше, назначенная броситься на Берлин, как только войскам на юге удастся «зацепить» и «зафиксировать» неприятеля.
В то время как он, водя пальцем по карте, излагает мне свои планы, вся его фигура выражает суровую энергию. Его решительные и произносимые с ударением слова, блеск глаз, нервные движения, его строгий, сжатый рот, его гигантский рост олицетворяют величавую и увлекательную смелость, которая была главным качеством великих русских полководцев, Суворова и Скобелева.
В Николае Николаевиче есть что-то грандиозное, что-то вспыльчивое, деспотическое, непримиримое, и оно наследственно связывает его с московскими воеводами XV и XVI веков. И разве не общее у него с ними простодушное благочестие, суеверное легковерие, горячая и сильная жажда жизни? Какова бы ни была ценность этого исторического сближения, я имею право утверждать, что великий князь Николай Николаевич – чрезвычайно благородный человек и что высшее командование русскими армиями не могло быть поручено ни более верным, ни более сильным рукам.
В конце разговора он говорит мне:
– Будьте добры передать генералу Жоффру самое горячее приветствие и уверение в моей полной вере в победу. Скажите ему также, что я прикажу рядом с моим значком главнокомандующего носить значок, который он мне подарил два года назад, когда я присутствовал на маневрах во Франции.
После этого, с силой пожимая мне руки, он проводил меня до двери:
– А теперь, – воскликнул он, – на милость Божью…
В половине шестого я вновь занял место в императорском поезде, который доставил меня обратно в Петербург.
В этот же вечер немецкая армия вступила на территорию Бельгии.
Четверг, 6 августа
Мой австро-венгерский коллега Сапари передает сегодня утром Сазонову объявление войны. Декларация указывает на две причины: 1) положение, занятое русским правительством в австро-сербском конфликте; 2) тот факт, что, согласно сообщению Берлинского кабинета, Россия сочла себя вынужденной начать неприятельские действия по отношению к Германии.
Немцы проникают в Западную Польшу. Третьего дня они заняли Калиш, Ченстохов и Бендин. Это быстрое продвижение вперед показывает, насколько русский Генеральный штаб был прав в 1910 году, когда он отодвинул на сотню километров к востоку свои пограничные гарнизоны и свою зону сосредоточения – мера, которая вызывала такую оживленную критику во Франции.
В полдень я еду в Царское Село, где буду завтракать у великого князя Павла Александровича и его морганатической супруги графини Гогенфельзен, с которой я поддерживаю в течение многих лет дружеские отношения.
В течение всей поездки мой автомобиль догонял и затем проезжал мимо пехотных полков, находившихся на марше с полным полевым снаряжением. За каждым полком нескончаемой вереницей следовали транспортные средства, фургоны с боеприпасами, багажные повозки, грузовые средства передвижения армейских технических служб, санитарные повозки, военно-полевые кухни, телеги, линейки, крестьянские повозки и т. п. Транспортные средства следовали одно за другим в полнейшем беспорядке; иногда они съезжали с колеи и пересекали поля, натыкаясь друг на друга и создавая такую красочную неразбериху, что напоминали нашествие азиатской орды. Пехотинцы выглядели прекрасно, хотя их походу мешали дожди и дорожная грязь. Большое число женщин присоединилось к армейской колонне, чтобы сопроводить мужей до первого привала и там в последний раз попрощаться с ними. Некоторые женщины несли на руках своих детей. Вид одной из них весьма тронул меня. Она была очень молодой, с нежным лицом и красивой шеей. Красно-белый головной платок был повязан на ее светлых волосах, а кожаный пояс стягивал на ее талии сарафан из синей хлопчатобумажной ткани. К груди она прижимала младенца. По мере своих сил она старалась не отставать от шагавшего в конце колонны солдата, красивого парня с загорелым лицом и с развитой мускулатурой тела. Они ничего не говорили, но шли, не спуская друг с друга любящих, полных душевного мучения глаз. Я видел, как трижды подряд молодая мать протягивала солдату младенца для поцелуя.
Великий князь Павел Александрович и графиня Гогенфельзен пригласили кроме меня только Михаила Стаховича, члена Государственного совета по выборам от орловского земства, одного из русских, наиболее пропитанных французскими идеями. Я нахожусь в атмосфере искренней и теплой симпатии.
Когда я вхожу, все трое приветствуют меня возгласом: «Да здравствует Франция!» С прямотою и простотою, ему присущими, великий князь выражает мне восхищение единодушным порывом, который заставил французский народ лететь на помощь своей союзнице:
– Я знаю, что ваше правительство не колебалось ни одной минуты, чтобы поддержать, когда Германия принудила нас защищаться. И это прекрасно… Но что весь народ мгновенно понял свой долг союзника, что ни в одном классе общества, ни в одной политической партии не было ни малейшей слабости, ни малейшего протеста, – вот что необыкновенно, вот что величественно…
Стахович подхватывает:
– Да, величественно… Но современная Франция лишь продолжает свою историческую традицию: она всегда была страной великих дел.
Я соглашаюсь, подчеркивая:
– Это правда. Французский народ, который столько раз обвиняли в скептицизме и в легкомыслии, это, несомненно, тот народ, который чаще всего бросался в борьбу по бескорыстным мотивам, который чаще всего жертвовал собою ради идеи.
Затем я рассказываю моим хозяевам о длинном ряде событий, которые наполнили собою последние две недели.
Они, со своей стороны, передают мне большое число эпизодов, которые указывают на единение всех русских в желании спасти Сербию и победить Германию.
– Никто, – говорит Стахович, – никто в России не согласился бы, чтоб мы позволили раздавить маленький сербский народ.
Тогда я спрашиваю у него, что думают о войне члены крайней правых партий в Государственном совете и в Государственной думе, этой влиятельной и многочисленной партии, которая устами князя Мещерского, Щегловитова, барона Розена, Пуришкевича, Маркова всегда проповедовала союз с германским императором. Он уверяет меня, что эта доктрина, поддерживавшаяся главным образом расчетами внутренней политики, радикальным образом разрушена нападением на Сербию, и заключает:
– Война, которая теперь начинается, это смертельная дуэль между славянством и германизмом. Нет такого русского, который бы этого не сознавал.
Когда мы встаем из-за стола, я только даю себе время выкурить папиросу и быстро возвращаюсь в Петербург.
Неподалеку от Пулково я проезжаю мимо гвардейского стрелкового полка, следующего к границе. Командир полка, генерал, опознал автомашину французского посла, увидев ливрею моего слуги. Генерал посылает ко мне одного из своих офицеров с просьбой выйти из машины, чтобы солдаты полка смогли пройти мимо меня парадным строем. Я выхожу из авто и иду к генералу, который наклоняется с коня, чтобы обнять меня.
Звучит резкий сигнал команды, и полк останавливается. Ряды смыкаются, солдаты приводят себя в порядок, и во главу колонны выходит военный оркестр. Пока идет эта подготовка к параду, генерал, обращаясь ко мне, с жаром выкрикивает:
– Мы уничтожим этих грязных пруссаков!.. Пруссия не должна более существовать, Германии конец!.. Вильгельма на остров Святой Елены!
Парадный марш начался. Проходившие мимо меня с гордым видом солдаты отличались отменным здоровьем. Как только появлялась очередная рота, генерал приподнимался на стременах и отдавал приказ: «Послу Франции! Ура!»
Солдаты отвечали во все горла: «Урра! Урра!»
Когда прошел последний ряд солдат, генерал, наклонившись с коня, чтобы вновь обнять меня, произносит серьезным тоном:
– Я очень рад видеть вас, господин посол. Все мои солдаты, как и я, склонны думать, что встреча с Францией на первом же этапе нашего участия в войне является хорошим предзнаменованием.
После этих слов он галопом помчался, чтобы занять свое место во главе колонны. В то время как я садился в автомашину, он продолжал выкрикивать свой воинственный призыв: «Вильгельма на остров Святой Елены! Вильгельма на остров Святой Елены!..»
В четыре часа я веду длинный разговор со своим итальянским коллегой, маркизом Карлотти де Рипарбелла; я стараюсь доказать ему, что современный кризис представляет для его страны неожиданный случай осуществить ее национальные стремления.
– Какова бы ни была, – говорю я, – моя личная уверенность, я не имею самонадеянности гарантировать вам, что войска и флоты Тройственного союза будут победоносны. Но что я имею право вам утверждать, особенно после моего вчерашнего разговора с императором, – это желание, которое воодушевляет три державы, неукротимое желание раздавить Германию. Все три единодушны в решении положить конец германской тирании. Если проблема так поставлена, то оцените сами, на чьей стороне шансы на успех, и сделайте выводы.
Мы вместе выходим, и я отправляюсь в Министерство иностранных дел, где мне нужно выяснить многочисленные вопросы: о блокаде, о возвращении французов на родину, о телеграфных сношениях, о прессе, о полиции и т. д., не считая дипломатических вопросов.
Сазонов сообщает мне, что он пригласил румынского посланника Диаманди, чтобы просить у него немедленной помощи румынской армии против Австрии. Взамен он предлагает признать за Бухарестским кабинетом право присоединить все австро-венгерские земли, населенные теперь румынами, то есть большую часть Трансильвании и южную часть Буковины; кроме того, державы Антанты гарантируют Румынии неприкосновенность ее территории.
Сазонов также телеграфировал русскому посланнику в Софии просьбу добиться доброжелательного нейтралитета Болгарии взамен обещания нескольких округов в том случае, если Сербия приобретет прямой доступ к Адриатическому морю.
Пятница, 7 августа
Вчера германцы вошли в Льеж, несколько фортов еще сопротивляются.
Сазонов предлагает французскому и британскому правительствам безотлагательно договориться в Токио о присоединении Японии к нашей коалиции: союзные державы признали бы за японским правительством право присоединить германскую территорию в Цзяо-Чжоу, а Россия и Япония гарантировали бы друг другу неприкосновенность их азиатских владений.
Сегодня вечером я обедаю в Яхт-клубе на Морской. В этой среде, в высшей степени консервативной, я нахожу подтверждение того, что Стахович говорил мне вчера о настроениях крайней правых по отношению к Германии. Те, кто еще на прошлой неделе энергично утверждали необходимость усилить православную монархию тесным союзом с прусским самовластием, теперь признают невыносимым оскорбление, нанесенное всему славянскому миру бомбардировкой Белграда, и оказываются среди самых воинствующих. Остальные молчат или замечают, что Германия и Австрия нанесли смертельный удар монархическому принципу в Европе.
Перед возвращением в посольство я иду в Министерство иностранных дел, где Сазонов хочет со мной говорить.
– Я обеспокоен, – говорит он мне, – новостями, которые получаю из Константинополя. Я очень боюсь, как бы Германия и Австрия не устроили там какой-нибудь проделки, по их обычаю.
– Чего же, например?
– Я боюсь, что австро-венгерский флот собирается укрыться в Мраморном море. Вы сами можете предвидеть последствия…
Суббота, 8 августа
Французская армия вступила вчера в Бельгию, устремившись на помощь бельгийской армии. Будет ли еще раз решаться судьба Франции между Самброй и Маасом?
Сегодня – заседание Государственного совета и Думы.
Второго августа император объявил о своем намерении созвать чрезвычайную сессию Законодательного собрания, «чтобы быть в полном единении с нашим народом». Этот созыв, который показался бы вполне естественным и необходимым в какой угодно другой стране, был истолкован здесь как обнаружение «конституционализма». В либеральных кругах за это благодарны, особенно императору, потому что известно: председатель Совета Горемыкин, министр внутренних дел Маклаков, министр юстиции Щегловитов и обер-прокурор Святейшего синода Саблер смотрят на Государственную думу как на самый низкий, не стоящий внимания государственный орган.
Я вместе с сэром Джорджем Бьюкененом занимаю место в первом ряду дипломатической ложи.
Взволнованная речь председателя Думы Родзянко открывает заседание. Его высокопарное и звонкое красноречие возбуждает энтузиазм собрания.
Затем нетвердыми шагами входит на трибуну старый Горемыкин, с трудом управляя звуками слабого голоса, который моментами прерывается, как если бы он умирал. Горемыкин излагает, что «Россия не хотела войны», что императорское правительство испробовало всё, чтобы сохранить мир, «цепляясь за малейшую надежду предотвратить потоки крови, которые грозили затопить Европу»; он заключает, что Россия не могла отступить перед вызовом, который ей бросили германские державы; «к тому же, если бы мы уступили, наше унижение не изменило бы хода событий». При произнесении этих последних слов его голос становится немного тверже, а угасший взгляд оживляется вспышкой пламени. Кажется, что этот старик, скептический, утомленный трудами, почестями и опытом, испытывает насмешливую радость, когда при этих торжественных обстоятельствах выказывает свой разочарованный фатализм.
Сазонов сменяет его на трибуне. Он бледный и нервный. С самого начала он облегчает свою совесть: «Когда для истории наступит день произнесения беспристрастного приговора, я убежден, что она нас оправдает…» Он энергично напоминает, что «не политика России подвергла опасности общий мир» и что, если бы Германия этого захотела, она могла бы «одним словом, одним-единственным повелительным словом» остановить Австрию на ее воинствующем пути. Затем он горячо восхваляет «великодушную Францию, рыцарскую Францию, которая вместе с нами поднялась на защиту права и справедливости». При этой фразе все депутаты встают и, повернувшись ко мне, долго приветствуют Францию радостными криками.
Тем не менее я замечаю, что приветствия не особенно поддерживаются на скамьях левой стороны: либеральные партии никогда не могли нам простить, что мы продлили существование царизма с помощью финансовых субсидий. Аплодисменты снова раздаются, когда Сазонов заявляет, что Англия также признала моральную невозможность оставаться безучастной к насилию, совершенному над Сербией. Заключение его речи правильно передает идею, которая все эти последние недели господствовала над всеми нашими мыслями и поступками: «Мы не хотим установления ига Германии и ее союзницы в Европе». Он спускается с трибуны под гром приветствий.
После перерыва в заседании глава каждой партии заявляет о своем патриотизме и выражает готовность ко всем жертвам, чтобы избавить Россию и славянские народы от германского главенства. Когда председатель подвергает голосованию военные кредиты, испрашиваемые правительством, социалистическая партия объявляет, что она воздерживается от голосования, не желая принимать на себя никакой ответственности за политику царизма; тем не менее она убеждает русскую демократию защищать родную землю от иностранного нападения: «Рабочие и крестьяне, соберите все ваши силы для защиты нашей страны; затем мы ее освободим…» За исключением воздержавшихся от голосования социалистов военные кредиты приняты единогласно.
Когда я уезжаю с Бьюкененом из Таврического дворца, наши экипажи с трудом пролагают себе дорогу среди толпы, которая окружает и приветствует нас.
Впечатление, которое я вынес из этого заседания, удовлетворительно. Русский народ, который не хотел войны, который был даже застигнут войной врасплох, твердо решил принять ее бремя. С другой стороны, правительство и руководящие классы сознают, что судьба России отныне связана с судьбами Франции и Англии. Этот второй пункт не менее важен, чем первый.
Воскресенье, 9 августа
Вчера французские войска вошли в Мюльхаузен.
Великий князь Николай Николаевич, который еще не перенес своей Главной квартиры на фронт, посылает своего начальника штаба генерала Янушкевича с поручением сообщить мне, что мобилизация оканчивается при самых лучших условиях и что перевозка и сосредоточение войск совершаются пунктуально. Он прибавляет, что так как правительство вполне уверено в сохранении порядка в Петербурге, то войска из столицы и пригородов отправляются теперь же к границе.
Мы говорим затем о подготовляющихся военных операциях. Генерал Янушкевич утверждает: 1) виленская армия начнет наступление на Кенигсберг, 2) варшавская армия будет немедленно переброшена на левый берег Вислы, дабы прикрывать с фланга виленскую армию, 3) общее наступление начнется 14 августа.
В половине седьмого я уезжаю на автомобиле в Царское Село, где обедаю у великой княгини Марии Павловны.
Великая княгиня окружена старшим сыном и невесткой, великим князем Кириллом Владимировичем и великой княгиней Викторией Федоровной, зятем и своей дочерью, принцем Николаем Греческим и великой княгиней Еленой Владимировной, а также фрейлинами и приближенными.
Стол накрыт в саду в палатке, три стороны которой подняты. Воздух чист и прозрачен. Кусты роз благоухают. Солнце, которое, несмотря на поздний час, еще высоко стоит на небосклоне, разливает вокруг нас мягкий свет и прозрачные тени.
Идет общий разговор, непринужденный и оживленный; само собою разумеется, что его единственная тема – война. Но каждую минуту вновь выплывает один и тот же вопрос: распределение главных командных должностей и составление штабов; критикуют уже известные назначения; стараются угадать назначения, относительно которых император еще не принял решения. Все соперничества двора и салонов выдают себя в словах, которыми обмениваются здесь. Иногда мне кажется, что я переживаю главу из «Войны и мира» Толстого.
Когда обед окончен, великая княгиня Мария Павловна уводит меня в глубину сада, затем усаживает рядом с собой на скамейку.
– Теперь, – говорит она мне, – будем беседовать вполне свободно… У меня такое чувство, что император и Россия играют решительную партию. Это не политическая война, которых столько уже было; это дуэль славянства и германизма; надо, чтобы одно из двух пало… Я эти последние дни видела многих лиц, мои походные госпитали и санитарные поезда поставили меня в соприкосновение с людьми разной среды, разных классов. Я могу вас уверить, что никто не строит иллюзий относительно опасности начинающейся борьбы. Так от императора до последнего мужика все решили героически исполнить свой долг, никакая жертва не заставит отступить… Если, не дай Бог, наши первые шаги будут неудачны, вы увидите чудеса 1812 года.
– Действительно, возможно, что наши первые шаги будут очень трудны. Мы должны всё предвидеть, даже несчастье. Но России нужно только продержаться.
– Она продержится. Не сомневайтесь в этом!..
Чтобы заставить великую княгиню высказаться относительно более деликатной темы, я поздравляю ее с бодрым настроением, которое она мне высказывает, – я предполагаю, что ее душевная твердость дается ей не без жестоких внутренних терзаний.
Она отвечает мне:
– Я счастлива исповедаться в этом перед вами… Я эти дни несколько раз исследовала свою совесть; я смотрела в самую глубину себя самой. Ни в сердце, ни в уме я не нашла ничего, что бы не было совершенно преданно моей русской родине. И я благодарила за это Бога… Не потому ли, что первые жители Мекленбурга и их первые государи, мои предки, были славяне? Это возможно. Но скорее я предположила бы, что сорок лет моего пребывания в России, всё счастье, которое я здесь знала, все мечты, которые я здесь строила, вся любовь и доброта, которые мне здесь выказывали, – они сделали мою душу совсем русской. Я чувствую себя снова уроженкой Мекленбурга только в одном пункте – в моей ненависти к императору Вильгельму. Он олицетворяет всё, что я научилась с детства особенно ненавидеть, – тиранию Гогенцоллернов… Да, это они, Гогенцоллерны, так развратили, деморализовали, опозорили, унизили Германию, это они понемногу уничтожили в ней начала идеализма, великодушия, кротости и милосердия…
Она изливает свой гнев в длинной речи, которая обличает застарелую злобу, глухое и упорное отвращение, которые маленькие германские государства, в былое время независимые, питают к деспотической Пруссии.
Около десяти часов я прощаюсь с великой княгиней, так как в посольстве меня ждет тяжелая работа.
Ночь светлая и теплая; бледная луна кидает тут и там на громадную и однообразную равнину серебряные ленты… На западе, по направлению к Финскому заливу, горизонт покрывается туманом медного цвета.
Когда я возвращаюсь в половине двенадцатого, мне приносят связку телеграмм, полученных вечером.
Только около двух часов ночи я ложусь в постель.
Чувствуя себя слишком уставшим, чтобы заснуть, я взял книгу, одну из тех немногих книг, которую можно раскрыть в этот час всеобщего смятения и исторического потрясения, – Библию. Я вновь стал читать «Откровение», остановившись на следующем отрывке: «И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч… И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть; и ад следовал за ним; дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Сегодня это люди, которые играют роль «зверей земных».
Понедельник, 10 августа
Сазонов торопит итальянское правительство присоединиться к нашему союзу. Он предлагает ему соглашение на следующих условиях: 1) итальянская армия и флот немедленно нападут на армию и флот Австро-Венгрии; 2) после войны область Трент, а также гавани Триеста и Валлоны будут присоединены к Италии.
Со стороны Софии впечатления отнюдь не успокоительны. Царь Фердинанд способен на все мерзости и любое вероломство, когда затронуты его тщеславие и его злоба.
Я знаю три страны, по отношению к которым он питает непримиримое желание мести: Сербия, Румыния и Россия. Я говорю об этом с Сазоновым, он прерывает меня:
– Как?.. Царь Фердинанд сердится на Россию… Почему?
– Прежде всего, он обвиняет русское правительство в том, что оно стало на сторону Сербии и даже Румынии в 1913 году. Затем, есть старые обиды, и они бесчисленны…
– Но какие обиды?.. Мы всегда выказывали ему благосклонность. А когда он приезжал сюда в 1910 году, император обходился с ним с таким почтением, с таким вниманием, как если бы он был монархом большого государства. Что же мы могли еще сделать?
– Это путешествие 1910 года есть именно одна из обид, наиболее для него мучительная… На следующий день после его возвращения в Софию он пригласил меня во дворец и сказал: «Дорогой посол, я просил вас прийти ко мне, потому что мне необходимы ваши знания, чтобы разобраться во впечатлениях, привезенных из Петербурга. Мне не удалось, по правде говоря, понять, кого там больше ненавидят: мой народ, мое дело или меня самого».
– Но это безумие…
– Это выражение не слишком сильно… Несомненно, у этого человека есть признаки нервного вырождения и отсутствует психическое равновесие, зато есть способность поддаваться внушению, навязчивые идеи, меланхолия, мания преследования. От этого он только более опасен, потому что он подчиняет своему честолюбию и злобе необыкновенную ловкость, редкое коварство и хитрость.
– Я не знаю, что бы осталось от его ловкости, если бы у нее отняли коварство… Как бы то ни было, мы не можем быть слишком внимательными к действиям Фердинанда. Я счел нужным его предупредить, что если он будет интриговать с Австрией против Сербии, Россия окончательно лишит болгарский народ своей дружбы. Наш посланник в Софии, Савинский, очень умный человек, он исполнит поручение с надлежащим тактом.
– Этого недостаточно. Есть другие аргументы, к которым клика болгарских политиков очень чувствительна; нам следует прибегнуть к ним без промедления.
– Это также и мое мнение. Мы еще об этом поговорим.
Война, по-видимому, возбудила во всем русском народе удивительный порыв патриотизма.
Сведения, как официальные, так и частные, которые доходят до меня со всей России, одинаковы. В Москве, Ярославле, Казани, Симбирске, Туле, Киеве, Харькове, Одессе, Ростове, Самаре, Тифлисе, Оренбурге, Томске, Иркутске – везде одни и те же народные восклицания, одинаково сильное и благоговейное усердие, одно и то же единение вокруг царя, одинаковая вера в победу, одинаковое возбуждение национального сознания. Никакого противоречия, никакого разномыслия. Тяжелые дни 1905 года кажутся вычеркнутыми из памяти. Собирательная душа Святой Руси не выражалась с такой силой с 1812 года.
Вторник, 11 августа
Французские войска, которые с таким прекрасным порывом заняли Мюльхаузен, вынуждены уйти оттуда.
Вражда к немцам продолжает высказываться по всей России с силой и настойчивостью. Первенство, которое Германия завоевала во всех экономических областях русской жизни и которое чаще всего равнялось монополии, слишком оправдывает эту грубую реакцию национального чувства. Трудно точным образом определить число немецких подданных, живущих в России, но отнюдь не было бы преувеличенным определить его в 170 000 рядом с 120 000 австро-венгров, 10 000 французов и 8000 англичан. Список ввозимых товаров не менее красноречив. В течение последнего года товары, привезенные из Германии, стоили 643 миллиона рублей, в то время как английских товаров было ввезено на 170 миллионов, французских товаров – на 56 миллионов, а австро-венгерских – на 35 миллионов.
Среди элементов германского влияния в России надо учесть еще немецких колонистов, говорящих на немецком языке, хранящих немецкие традиции, – их насчитывают не менее 2 миллионов человек, живущих в балтийских провинциях, на Украине и в нижнем течении Волги.
Наконец – и прежде всего – прибалтийские бароны, которые постепенно захватили плацдармы в сфере назначений на все высокопоставленные должности при императорском дворе и на лучшие посты в армии и на административной и дипломатической службах. В течение ста пятидесяти лет феодальные касты балтийских провинций снабжали царизм наиболее преданными и реакционными слугами. Именно балтийская знать обеспечила триумф самодержавного абсолютизма, разгромив декабрьское восстание 1825 года. Именно балтийская знать всегда направляла деятельность репрессивных сил всякий раз, когда либеральный или революционный дух пробуждался от спячки. Именно балтийская знать, более чем что-либо еще, способствовала тому, чтобы превратить русское государство в огромный полицейский бюрократический аппарат, в котором механизм татарского деспотизма и методы прусского деспотизма слились в одно странное целое. Именно балтийская знать является основным стержнем структуры режима.
Для того чтобы понять всё отвращение, которое истинные русские испытывают к «балтийским баронам», мне достаточно выслушать речь Е., шефа протокольного отдела императорского двора, с которым я поддерживаю отношения, основанные на взаимном доверии, и чей бескомпромиссный национализм меня забавляет. Вчера он, посетив меня, чтобы решить некоторые наши повседневные служебные проблемы, с большей, чем обычно, страстью поносил немцев, заполонивших императорский двор, – министра императорского двора графа Фредерикса, главного церемониймейстера барона Корфа, главного конюшего генерала фон Грюневальдта, гофмаршала графа Бенкендорфа и всех этих Мейендорфов, Будбергов, Гейденов, Штакельбергов, Ниеротов, Кноррингов, Коцебу и т. д., которые толпятся в императорских дворцах. Придавая своим словам большую выразительность с помощью эмоциональной жестикуляции, он закончил свою тираду следующим обещанием:
– После войны мы свернем шеи балтийским баронам.
– Но когда вы свернете и им шеи, будете ли вы полностью уверены, что не станете сожалеть об этом?
– Что вы имеете в виду?.. Вы действительно думаете, что русские не в состоянии управлять собой?
– Я уверен, что русские вполне в состоянии управлять собой… Но опасно устранять анкерную балку в строительном сооружении без того, чтобы не иметь в запасе другую, для замены.
Среда, 12 августа
В то время как военные силы мобилизуются, все общественные организации примериваются к войне. Как всегда, сигнал дан Москвой, которая является настоящим центром народной жизни и в которой дух инициативы более возбужден и более изощрен, чем где бы то ни было в другом месте.
Там собирается съезд всех земств и всех русских городов (так называемый Земгор), чтобы согласовать многочисленные усилия общественной деятельности ввиду войны: помощь раненым, пособия неимущим классам, съестные припасы, лекарства, одежда и т. п. Основная мысль – прийти на помощь правительству в исполнении этих задач, которые бюрократия, слишком ленивая и продажная, слишком чуждая потребностям народа, неспособна выполнить одна. Только бы не стали чиновники препятствовать – по недоверию и по старой привычке – этому прекрасному побуждению к добровольной организации.
Каждый день на Невском проспекте, на Литейном и на Садовой я проезжаю мимо полков, направляющихся к Варшавскому вокзалу. Эти пышущие крепким здоровьем и снабженные всем необходимым солдаты производят на меня отличное впечатление своим серьезным, решительным выражением лица и твердой походкой. Когда я смотрю на них, меня одолевает мысль о том, что большинство из них уже помечено знаком смерти. Но каковы будут чувства тех, кто вернется? С какими убеждениями и требованиями, с каким новым душевным настроем и с какой новой душой они вернутся наконец к своим родным очагам?
Каждая большая война приносила русскому народу и его стране глубокий внутренний кризис. Отечественная война 1812 года подготовила ту подспудную работу по созданию освободительного движения, которое почти смело царизм в декабре 1825 года. Неудачная Крымская война привела к отмене крепостного права и вызвала необходимость великих реформ 1860-х годов. После Балканской войны 1877–1878 годов с ее победами, доставшимися дорогой ценой, последовал взрыв терроризма нигилистов. Обреченная на провал Маньчжурская война закончилась революционными выступлениями 1905 года. Что последует за нынешней войной?
Русская нация настолько неоднородна в этническом и нравственном отношении; она сформирована из настолько несовместимых и анахроничных элементов, она всегда развивалась в таком полном пренебрежении к логике, в такой путанице конфликтов, потрясений и противоречий, что ее историческая эволюция совершенно не поддается предсказанию.
Сегодня вечером я обедаю с госпожой П. и с графиней Р., мужья которых уехали в армию, а сами они готовятся ехать в качестве сестер Красного Креста в походный госпиталь на передовую линию галицийского фронта. На основании многочисленных писем, которые они получили из провинции и из деревни, они подтверждают, что мобилизация совершилась везде в животворной атмосфере национальной веры и героизма.
Мы говорим об ужасных испытаниях, на которые новые условия войны обрекают сражающихся; никогда еще человеческие нервы не подвергались подобному напряжению.
Госпожа П. говорит мне:
– В этом отношении я отвечаю вам за русского солдата. Он не имеет себе равных в том, что касается невозмутимости перед лицом смерти.
Однако графиня Р., у которой всегда такой живой ум и быстрая речь, остается молчаливой. Склонившись к краю своего кресла, охватив руками колени, нахмурив брови, она погружена в тяжелые думы.
Госпожа П. спрашивает ее:
– О чем ты задумалась, Дарья? У тебя вид сивиллы у треножника. Или ты будешь пророчествовать?
– Нет, я не думаю о будущем; я думаю о прошедшем или, вернее, о том, что могло бы быть. Скажите ваше мнение, господин посол… Вчера я была с визитом у госпожи Танеевой, вы знаете – это мать Анны Вырубовой. Там было пять или шесть человек, весь цвет распутинок. Там спорили очень серьезно, с очень разгоряченными лицами… Настоящий синод… Мое появление вызвало некоторую холодность, потому что я не принадлежу к этой стае, о нет! Совсем нет!.. После несколько стесненного молчания Анна Вырубова возобновила разговор. Решительным тоном и как бы давая мне урок, она утверждала, что, конечно, война бы не вспыхнула, если б Распутин находился в Петербурге, а не лежал больным в Покровском, когда наши отношения с Германией начали портиться[2 - 29 июня 1914 года Распутина, который только что приехал в Покровское, в свою родную деревню, ударила ножом в живот петербургская проститутка Хиония Гусева, бывшая его любовница. В течение двух недель Распутин находился на грани жизни и смерти. Его выздоровление заняло много времени. Царица ежедневно направляла ему телеграммы. Хионию Гусеву отправили в больницу для душевнобольных. Когда она ударила Распутина ножом, она воскликнула: «Я убила Антихриста!» Будучи довольно привлекательной женщиной двадцати шести лет, она являла собой наиболее характерный типаж русской проститутки, объединяя в себе истеричку, алкоголичку и мистически настроенную женщину. Ее легко представить в роли героини одного из романов Толстого или Достоевского. – Прим. авт.]. Она несколько раз повторила: «Если бы старец был здесь, у нас не было бы войны; не знаю, что бы он сделал, что бы он посоветовал, но Господь вдохновил бы его, а так министры не сумели ничего предвидеть, ничему помешать. Ах!.. Это большое несчастье, что его не было вблизи от нас, чтобы научить императора». Только посмотрите, от чего зависит судьба империй. Шлюха в силу личных мотивов мстит грязному мужику, и царь всея Руси сразу теряет голову. И вот, пожалуйста, весь мир охвачен огнем!
Госпожа П. раздраженно прервала ее:
– Дарья, вы не должны, даже в шутку, говорить подобное в присутствии посла. Сама мысль о том, что о таких вещах говорят в окружении их величеств, приводит меня в ужас!
Графиня Р., вновь приняв серьезное выражение лица, продолжала:
– Хорошо! Не буду шутить. Но я очень бы хотела знать ваше мнение, господин посол: думаете ли вы, что война была неизбежна и что никакие личные влияния не могли ее отвратить?
Я отвечаю:
– Учитывая, как поставила проблему Германия, война была неизбежна. В Петербурге, так же как в Париже и в Лондоне, сделали всё возможное, чтобы спасти мир. Нельзя было идти дальше по пути уступок: иначе пришлось бы только унизиться перед германскими государствами и капитулировать. Может быть, Распутин и посоветовал бы это императору.
– Будьте в этом уверены! – бросает мне госпожа П. с негодующим взглядом.
Четверг, 13 августа
Великий князь Николай Николаевич известил меня, что виленская и варшавская армии начнут наступление завтра утром, на рассвете; войска, назначенные действовать против Австрии, также вскоре последуют их примеру.
Великий князь покидает Петербург сегодня вечером. Он увозит с собой моего первого военного атташе генерала де Лагиша и английского военного атташе генерала Уильямса. Главная квартира находится в Барановичах между Минском и Брест-Литовском. Я сохраняю около себя моего второго военного атташе, майора Верлена, и морского атташе, капитана 2-го ранга Галланда.
Румынское правительство отклонило предложение русского правительства, ссылаясь на отношения старой близкой дружбы, которые связывают короля Кароля и императора Франца Иосифа; тем не менее оно принимает к сведению эти предложения, дружественный характер которых оно готово оценить; оно заключает, что в нынешней стадии конфликта, разделяющего Европу, оно должно ограничиться попытками сохранить равновесие на Балканах.
Предостережение, которое Сазонов неделю тому назад просил передать нашему флоту, оказалось тщетным. Двум большим немецким крейсерам, «Гебену» и «Бреслау», удалось укрыться в Мраморном море. В том, что турецкое правительство причастно к этому, никто не сомневается.
В Адмиралтействе царит большое волнение; там ожидают материальных убытков и опасаются морального впечатления от нападения, направленного на русские берега Черного моря.
Сазонов смотрит еще дальше:
– Этим неожиданным шагом, – говорит он мне, – немцы удесятерили свой престиж в Константинополе. Если мы не будем на это немедленно реагировать, Турция для нас потеряна… И она даже выступит против нас… В таком случае мы будем вынуждены рассеять наши силы по побережью Черного моря, на границах Армении и Персии.
– По-вашему, что следовало бы сделать?
– Мое мнение еще не определилось… На первый взгляд мне кажется, что нам следовало предложить Турции, в награду за ее нейтралитет, торжественную гарантию ее территориальной неприкосновенности; мы могли бы прибавить к этому обещание больших финансовых выгод в ущерб Германии.
Я побуждаю его искать на этом пути решение, которое срочно необходимо.
– Теперь, – говорит Сазонов, – я доверю вам тайну, большую тайну. Император решил восстановить Польшу и даровать ей широкую автономию… Его намерения будут возвещены полякам в манифесте, который в скором времени обнародует великий князь Николай и который его величество приказал мне приготовить.
– Браво!.. Это великолепный жест, который не только среди поляков, но и во Франции, в Англии, во всем мире произведет большое впечатление… Когда будет опубликован манифест?
– Через три или четыре дня… Я представил проект императору, который в целом его одобрил; я посылаю его сегодня вечером великому князю Николаю, который, может быть, потребует от меня некоторых изменений в деталях.
– Но почему император поручает обнародование манифеста великому князю? Почему он не обнародует его сам как непосредственный акт его монаршей воли? Моральное впечатление от этого было бы гораздо более сильным.
– Это было также моей первой мыслью. Но Горемыкин и Маклаков, которые враждебно относятся к восстановлению Польши, не без основания заметили, что поляки Галиции и Познани находятся еще под австрийским и прусским владычеством; что завоевание этих двух областей есть только еще предвидение, надежда; что поэтому император не может лично достойным образом обратиться к своим будущим подданным; что, напротив, великий князь Николай не превысил бы своей роли русского главнокомандующего, обратившись к славянскому населению, которое он идет освобождать… Император присоединился к этому мнению…
Затем мы философствуем об увеличении сил, которое Россия приобретет от соединения двух славянских народов под скипетром Романовых. Расширение германизма на восток будет, таким образом, решительно остановлено; все проблемы Восточной Европы примут, к выгоде славянства, новый вид; наконец, и главным образом, более широкий, более сочувственный, более либеральный дух проникнет в отношение царизма к инородческим группам империи.
Пятница, 14 августа
На основании не знаю каких слухов, дошедших из Константинополя, в Париже и Лондоне воображают, что Россия обдумывает нападение на Турцию и что она бережет часть своих сил для этого готовящегося нападения. Сазонов, который был одновременно об этом уведомлен Извольским и Бенкендорфом, с горечью выражает мне свою печаль по поводу того, что он навлек на себя со стороны союзников такое несправедливое подозрение.
– Как могут нам приписывать подобную мысль?.. Это не только ошибочно, это нелепо… Великий князь Николай Николаевич вам говорил, лично вам, что все наши силы, без исключения, сосредоточены на западной границе империи с единственной целью: сокрушить Германию… И не далее как сегодня утром, когда я делал доклад императору, его величество заявил мне буквально: «Я предписал великому князю Николаю Николаевичу очистить как можно скорее и во что бы то ни стало дорогу на Берлин. Мы должны добиться прежде всего уничтожения германской армии». Чего же еще хотят?
Я успокаиваю его как могу:
– Послушайте, не принимайте вещи слишком трагически… Нет ничего удивительного в том, что Германия пытается внушить туркам, будто вы готовитесь напасть на них. Отсюда некоторое волнение в Константинополе. Послы Франции и Англии дали отчет об этом своим правительствам. И это всё… Превосходные разъяснения, которые вы мне делаете, будут высоко оценены.
Суббота, 15 августа
Энергичное сопротивление бельгийцев в Хассельте. Поспеет ли французская армия вовремя к ним на помощь?
Великий князь извещает меня из Барановичей, что сосредоточение его войск продолжается с замечательной быстротой сравнительно с предусмотренным промедлением; следовательно, он сможет ускорить свои наступательные действия.
Русский авангард проник вчера в Галицию, в Сокаль-на-Буге, и отбросил неприятеля в направлении на Львов.
Я имею сегодня днем длинное совещание с генералом Сухомлиновым, военным министром, чтобы скорее разрешить большое число военных вопросов: транспорта, военных запасов, снабжения провиантом и т. д. После этого мы говорим об операциях, которые начинаются. Вот общий план:
1. Северо-западные армии. – Три армии, заключающие 12 корпусов, начали наступление. Две из этих армий действуют к северу от Вислы, третья действует на юге и уже отошла от Варшавы. Четвертая армия в составе трех корпусов движется на Позен и Бреславль, обеспечивая связь этих трех армий с силами, действующими против Австрии.
2. Юго-западные армии. – Три армии, составленные из 12 корпусов, имеют приказ завоевать Галицию.
Сомнительный человек этот генерал Сухомлинов… Шестьдесят шесть лет от роду; под башмаком у довольно красивой жены, которая на тридцать два года моложе его; умный, ловкий, хитрый; рабски почтительный перед императором; друг Распутина; окружен негодяями, которые служат ему посредниками для его интриг и уловок; утратил привычку к работе и сберегает все свои силы для супружеских утех; имеет угрюмый вид, все время подстерегающий взгляд под тяжелыми, собранными в складки веками; я знаю мало людей, которые с первого взгляда внушали бы большее недоверие.
Через три дня император уедет в Москву, чтобы там из Кремля обратиться к народу с торжественным воззванием. Он пригласил нас, Бьюкенена и меня, сопровождать его…
Воскресенье, 16 августа
Манифест великого князя Николая Николаевича польскому народу обнародован сегодня утром. Газеты единодушно радуются по этому поводу; большая их часть печатает даже восторженные статьи, торжествуя по поводу примирения поляков и русских в лоне великой славянской семьи.
Документ этот, прекрасно составленный, был написан по указаниям Сазонова вице-директором Министерства иностранных дел князем Григорием Трубецким. Перевод на польский язык был сделан графом Сигизмундом Велепольским, председателем польской группы в Государственном совете.
Третьего дня Сазонов просил Велепольского посетить его, не указывая на причину приглашения. В нескольких словах он сообщил ему обо всем, затем прочел манифест. Велепольский слушал его со стиснутыми руками, с затаенным дыханием. После волнующих заключительных слов: «Пусть в этой утренней заре загорится знамение Креста, символа страданий и воскресения народов…» – он разражается слезами и шепчет:
– Боже мой, Боже мой, слава тебе Господи…
Когда Сазонов рассказывает мне эти подробности, я привожу ему слова, которые Гратри произнес в 1863 году: «Со времени раздела Польши Европа находится в состоянии смертного греха».
– В таком случае, – отвечает он, – я хорошо работал для душевного спасения Европы.
От Польши мы переходим к Турции. Сазонов предлагает французскому и британскому правительствам присоединиться к нему, дабы заявить оттоманскому правительству: 1) если Турция сохранит строгий нейтралитет, то Россия, Франция и Англия гарантируют ей неприкосновенность ее территории; 2) при том же условии три союзные державы обязуются, в случае победы, включить в мирный договор статью, освобождающую Турцию от притеснительной опеки, которую Германия на нее наложила в экономическом и финансовом отношении; эта статья устанавливала бы, например, отмену договоров, относящихся к Багдадской железной дороге и другим германским предприятиям.
Я поздравляю Сазонова с этим двойным предложением, которое представляется мне самой мудростью; особенно я настаиваю на первом пункте:
– Итак, даже в случае нашей победы, Россия не выражает никакого притязания, территориального или политического порядка, по отношению к Турции… Вы понимаете значение, которое я придаю этому вопросу: вы ведь знаете, что полная самостоятельность Турции есть один из руководящих принципов французской дипломатии.
Сазонов мне отвечает:
– Даже если мы победим, мы будем уважать независимость и неприкосновенность Турции, только бы она осталась нейтральной. Мы потребуем, самое большее, чтобы был установлен новый режим для проливов, режим, который бы одинаково применялся для всех прибрежных государств Черного моря – для России, Турции, Болгарии и Румынии.
Понедельник, 17 августа
Французские войска успешно продвигаются на Верхних Вогезах и в Верхнем Эльзасе.
Русские войска переходят в энергичное наступление на границах Восточной Пруссии, на линии от Ковно к Кенигсбергу.
Манифест к полякам наполняет все разговоры. Общее впечатление остается превосходным. Более или менее строгая критика исходит только из крайних правых кругов, где согласие с прусской реакционностью всегда рассматривалось как жизненное условие для царизма, а подавление польской национальности есть главная основа этого согласия.
В восемь часов вечера я уезжаю в Москву с сэром Джорджем и леди Бьюкенен.
Вторник, 18 августа
Приехав сегодня утром в Москву, я отправляюсь в половине одиннадцатого с Бьюкененом в Большой дворец Кремля. Нас вводят в Георгиевский зал, где уже собрались высшие сановники империи, министры, делегации от дворян, от купечества, от торговцев, от благотворительных обществ и т. д. Целая толпа, густая и сосредоточенная.
Ровно в одиннадцать часов входят император, императрица и императорская фамилия. Так как все великие князья уехали в армию, то кроме монарха входят только четыре дочери государя, цесаревич Алексей, который вчера ушиб себе ногу, и поэтому его несет на руках казак, наконец, великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы, настоятельница Марфо-Мариинской общины.
Посередине зала они останавливаются. Звонким, твердым голосом император обращается к дворянству и народу Москвы. Он заявляет, что по обычаю своих предков пришел искать в Москве поддержки своим нравственным силам в молитве перед святынями Кремля; он свидетельствует, что прекрасный порыв охватил всю Россию, без различия племен и национальностей; в конце он говорит:
– Отсюда, из сердца русской земли, я посылаю моим храбрым войскам и доблестным союзникам мое горячее приветствие. С нами Бог…
Ему отвечают долгие крики «ура».
В то время как кортеж снова начинает двигаться, обер-церемониймейстер приглашает нас, Бьюкенена и меня, следовать за императорской семьей, непосредственно позади великих княжон.
Мы доходим до Красной лестницы, нижняя площадка которой продолжается мостками, затянутыми красным, до Успенского собора. В момент появления императора поднимается буря радостных криков по всему Кремлю, в котором на площадях теснится громадная толпа, с обнаженными головами. В то же время раздается звон колоколов Ивана Великого. Громовый звук громадного колокола, отлитого из металла, собранного из руин, оставшихся после 1812 года, царит над этим шумом. И вокруг святая Москва – со своими тысячами церквей, дворцов, монастырей с лазоревыми куполами, медными шпилями колоколен, золотыми главами – сверкает на солнце, как фантастический мираж. Буря народного энтузиазма почти заглушает звон колоколов.
Граф Бенкендорф, обер-гофмаршал двора, подойдя ко мне, говорит:
– Вот та революция, которую нам предсказывали в Берлине.
Он, вероятно, выражает общую мысль. У императора радостный вид. Лицо императрицы выражает исступленную радость. Бьюкенен шепчет мне на ухо:
– Мы теперь переживаем величественный момент… Подумайте об историческом будущем, которое подготовляется в эту минуту именно здесь.
– Да, я думаю также об историческом прошлом, которое здесь же совершалось… С того места, где мы находимся, Наполеон глядел на Москву, охваченную пламенем. И по этой дороге Великая армия начала свое знаменитое отступление.
Между тем мы доходим до собора. Московский митрополит, окруженный духовенством, подносит их величествам крест царя Михаила Федоровича, первого из Романовых, и освященную воду.
Мы входим в Успенский собор. Четырехугольное здание, над которым возвышается громадный купол, поддерживаемый четырьмя массивными столбами, полностью покрыто фресками на золотом фоне. Иконостас, высокая стена из позолоченного серебра, весь усеян драгоценными каменьями. Слабый свет, падающий из купола, и мерцание свечей делают всё в храме золотисто-рыжеватым.
Государь и государыня становятся перед амвоном с правой стороны у подножия столба, рядом с престолом патриархов. Слева придворные певчие в костюмах XVI века, серебряных и бледно-голубых, поют замечательные песнопения православной литургии, – может быть, самые прекрасные во всей церковной музыке.
В глубине храма против иконостаса стоят три русских митрополита и двенадцать архиепископов. Слева от них собрано сто десять архиереев, архимандритов и игуменов. Баснословное богатство, неслыханное изобилие алмазов, сапфиров, рубинов, аметистов сияют на парче митр и облачений.
Бьюкенен и я, мы оба стоим слева от государя, впереди двора.
В конце длинной службы митрополит подносит их величествам Распятие, содержащее частицу подлинного креста Господня, которое они благоговейно целуют. Затем сквозь облака ладана императорская семья проходит через собор, чтобы преклонить колени перед православными святынями и гробницами патриархов.
Во время этого обхода я любуюсь походкой, позами, коленопреклонением великой княгини Елизаветы Федоровны. Несмотря на то, что ей около пятидесяти лет, она сохранила всю свою былую грацию и гибкость. Под развевающимся покрывалом из белой шерстяной ткани она так же элегантна и прелестна, как прежде, до своего вдовства, в те времена, когда она внушала мирские страсти… Чтобы приложиться к иконе Владимирской Божьей Матери, она должна была поставить колено на мраморную скамью, довольно высокую. Императрица и молодые великие княжны, которые ей предшествовали, принимались за это дважды и не без некоторой неловкости дотягивались до знаменитой иконы. Она сделала это одним гибким, ловким, величественным движением.
Служба окончена. Кортеж перестраивается, во главе проходит духовенство. Последнее песнопение великолепным взлетом наполняет храм. Двери открываются.
Вся декорация Москвы внезапно развертывается при ослепительном солнце. В то время как процессия развертывается, я думаю, что только византийский двор в эпоху Константина Багрянородного, Никифора Фоки и Андроника Палеолога знал зрелища, исполненные такого пышного, такого величественного великолепия.
В конце мостков, затянутых красным, ожидают дворцовые экипажи. Прежде чем сесть в них, императорская фамилия остается некоторое время стоять посреди неистовых радостных криков толпы.
Император говорит нам, Бьюкенену и мне:
– Подойдите ко мне, господа. Эти приветствия относятся к вам так же, как и ко мне.
Под шум исступленных криков мы трое говорим о начавшейся войне. Император поздравляет меня с удивительным рвением, которое воодушевляет французские войска, и повторяет заявление о своей полной уверенности в окончательной победе. Государыня ищет любезные слова, чтобы сказать их мне. Я прихожу ей на помощь:
– Какое утешительное зрелище для вашего величества. Как прекрасно смотреть на народ в его патриотическом исступлении, в его усердии перед монархами.
Она едва отвечает, но ее судорожная улыбка и странный блеск взгляда, пристального, магнетического, блистающего, обнаруживают ее внутренний восторг.
Великая княгиня Елизавета Федоровна присоединяется к нашему разговору. Ее лицо, обрамленное длинным покрывалом из белой шерстяной материи, поражает своей одухотворенностью. Тонкость черт, бледность кожи, глубокая и далекая жизнь глаз, слабый звук голоса, отблеск какого-то сияния на ее лбу – всё обнаруживает в ней существо, которое имеет постоянную связь с неизреченным и божественным.
В то время как их величества возвращаются в Большой дворец, мы, Бьюкенен и я, выходим из Кремля, среди оваций, которые сопровождают нас до отеля.
Время после обеда я провел, осматривая Москву, отдавая предпочтение местам, отмеченных памятью о 1812 годе, которая по контрасту с нынешними временами значительно улучшила душевное состояние.
В Кремле призрак Наполеона является, казалось, на каждом шагу.
С Красного крыльца император наблюдал, как разгорался пожар в зловещую ночь с 16 на 17 сентября. Именно в этом месте он собрал совет в составе Мюрата, Евгения, Бертье и Нея в самом пекле вздымавшихся в разные стороны языков пламени и под ослеплявшим душем тлевшего пепла. Именно там к нему пришло ясное и безжалостное видение его неминуемого крушения: «Всё это, – повторял он, – предвещает нам великие катастрофы!» Именно с Красного крыльца он поспешно спускался вниз по дороге к Москве-реке в сопровождении нескольких офицеров и солдат своей гвардии. Именно там он вошел в петлявшие улицы горевшего города. «Мы шли, – рассказывает Сегюр, – по огненной земле под огненным небом, между стен из огня». Увы! Не обещает ли нам нынешняя война второе издание Дантовой сцены? И сколько экземпляров этого издания?
К северу от Кремля, между собором Василия Блаженного и Иверскими воротами, лежит Красная площадь, место прекрасных и трагических воспоминаний. Если бы мне пришлось составить список мест, где наиболее ярко перед моим мысленным взором прошли картины прошлого, вызывающие благоговейные чувства, то я бы включил в этот список итальянскую провинцию Кампанию, Акрополь в Афинах, кладбище Эйюп в Стамбуле, дворец Альгамбра в Гранаде, Запретный город в Пекине, Градчаны в Праге и Московский Кремль. Этот странный конгломерат дворцов, башен, церквей, монастырей, часовен, казарм, арсеналов и бастионов; этот беспорядочный ряд не связанных друг с другом церковных и светских зданий; эта совокупность построек, выполняющих функции крепости, убежища, сераля, гарема, некрополя и тюрьмы; эта смесь прогрессивной цивилизации и архаичного варварства; этот жестокий контраст между самым грубым материализмом и самой величественной духовностью – разве всё это не является прообразом самой истории России, всей эпопеи русской нации, всей внутренней драмы русской души?
Возвышаясь над берегами Москвы-реки к югу от Красной площади, собор Василия Блаженного вздымает к небу свою изумительную и парадоксальную архитектуру царства грез. Создается впечатление, что при строительстве собора были объединены наиболее противоречащие друг другу архитектурные стили: византийский, готический, ломбардский, персидский и русский. Тем не менее из всего этого стройного, устремленного вверх, вьющегося многоцветия форм, из всего этого буйства фантазии рождается потрясающая гармония.
Я с удовольствием вспоминаю о том, что итальянский ренессанс был представлен в Кремле Софьей Палеолог, племянницей последнего императора Константинополя, сбежавшего в Рим. В 1472 году она вышла замуж за московского царя Ивана III, известного в истории как Иван Великий. Благодаря ей он с того времени стал считать себя наследником византийской империи. В качестве русского герба он взял изображение двуглавого орла. Софья Палеолог окружила себя итальянскими художниками, архитекторами и инженерами. Некоторое время при ее правлении нежное дыхание эллинизма и классической культуры смягчило суровость московского варварства.
Ближе к вечеру я завершил прогулку, посетив Воробьевы горы, с которых открывается вид на всю Москву и на всю долину Москвы-реки. Это место обычно называли Поклонной горой, потому что русские путники, достигнув его и бросив первый взгляд на священный город, обычно останавливались, чтобы перекреститься и помолиться, отбивая поклоны. Таким образом, Воробьевы горы пробуждают у славян, жителей Третьего Рима, такие же чувства, как гора Марио у итальянцев, жителей Первого Рима. Такие же чувства удивления, смешанного с восторгом, и набожного восхищения заставляли средневековых пилигримов пасть ниц, когда они созерцали Город Мучеников с высот, венчавших берега Тибра.
В два часа дня 14 сентября 1812 года авангард французской армии под искрящимися лучами солнца взошел разомкнутым строем на Воробьевы горы. На самом верху французы остановились, словно остолбенев от величия раскрывшегося перед ними вида. Захлопав в ладоши, они вскричали, ликуя: «Москва! Москва!..» Прибыл Наполеон.
Движимый восторгом, он воскликнул: «Так вот он, этот знаменитый город!» Но тут же добавил: «Наконец-то!»
Шатобриан подытожил эту сцену броской метафорой, полной живописного романтизма: «Москва, эта европейская принцесса на границе своей империи, облаченная во всё великолепие Азии, казалось, была приведена сюда, чтобы ее выдали замуж за Наполеона».
Промелькнул ли в голове императора подобный образ? Сомневаюсь. Им уже овладели гораздо более серьезные мысли, более тревожные предчувствия.
В десять часов вечера я уезжаю в Петербург.
С политической точки зрения сегодня на меня произвели сильное впечатление два события. Первое из них связано с императором, за которым я наблюдал, когда он стоял перед иконостасом в Успенском соборе. Его особа, его окружение и вся обстановка, в которой проходила церемония в соборе, казались красноречивой интерпретацией самого того принципа царизма, как он был определен в императорском манифесте от 16 июня 1907 года, объявившем о роспуске Первой Думы: «Так как сам Бог вручил Нам нашу верховную власть, то именно только перед Его алтарем Мы несем ответственность за судьбы России».
Другое сильное впечатление на меня сегодня произвел тот неистовый энтузиазм, который проявило население Москвы по отношению к своему царю. Я никогда не думал, что монархическая иллюзия и имперский фетишизм столь глубоко запали в сердце мужика. Существует множество русских пословиц, которые выражают непоколебимую веру бедноты и простого народа к своему хозяину: «Царь – хороший, это слуги у него плохие… Царь не виновен в страданиях народа: чиновники скрывают от него правду!» Но существует также и другая пословица, которую следует помнить, поскольку она объясняет, с другой стороны, отчаяние и протест народного духа: «До Бога высоко, до царя далеко!»
И для того, чтобы установить истинную цену пылкого приема, оказанного царю в это утро на Красной площади, не следует забывать, что именно на этом месте 22 декабря 1905 года было признано необходимым стрелять в толпу народа, распевавшую «Марсельезу».
Среда, 19 августа
Сегодня утром я вернулся в Петербург.
Французские войска продвигаются в долинах Вогезов, в сторону Эльзаса. Форты Льежа еще оказывают сопротивление, но немецкая армия, не задерживаясь перед ними, движется прямо на Брюссель.
Русские войска поспешно сосредоточиваются на границе Восточной Пруссии.
Четверг, 20 августа
Сазонов приезжает завтракать со мной.
Мы беседуем о тех результатах, которых надо постараться достичь в час мира и которых мы добьемся только силою оружия. Действительно, нельзя сомневаться, что Германия не преклонится ни перед одним из наших требований, пока у нее не будут отняты средства к защите. Нынешняя война не из тех, которые оканчиваются политическим договором, как после сражения при Сольферино или при Садовой; это – война насмерть, в которой каждая группа воюющих рискует своим национальным существованием.
– Моя формула проста, – говорит Сазонов, – мы должны уничтожить германский империализм. Мы достигнем этого только рядом военных побед; перед нами длинная и очень тяжелая война. Император не имеет никаких иллюзий в этом отношении… Но чтобы кайзерство не восстановилось снова из своих развалин, чтобы Гогенцоллерны никогда больше не могли претендовать на всемирную монархию, должны произойти большие политические перемены. Не считая возвращения Эльзас-Лотарингии Франции, необходимо будет восстановить Польшу, увеличить Бельгию, восстановить Ганновер, отдать Шлезвиг Дании, освободить Богемию, разделить между Францией, Англией и Бельгией все немецкие колонии и т. д.
– Это гигантская программа. Но я думаю, как и вы, что именно так далеко мы должны будем простирать наши усилия, если хотим, чтобы наше дело было прочно.
Затем мы взвешиваем взаимные силы воюющих, их людские резервы, их ресурсы – финансовые, промышленные, земледельческие и т. д. Обсуждение благоприятных шансов, которые нам предоставляют внутренние разногласия Австрии и Венгрии, заставляет меня сказать:
– Есть еще фактор, которым мы не должны пренебрегать: мнение народных масс в Германии. Очень важно, чтобы мы были хорошо осведомлены о том, что там происходит. Вы должны были бы организовать осведомительную службу во всех больших очагах социализма, которые ближе всего к вашей территории, – в Берлине, Дрездене, Лейпциге, Хемнице, Бреславле…
– Это очень трудно организовать.
– Да, но это необходимо. Подумайте, что на следующий день после военного поражения немецкие социалисты, без сомнения, принудят касту дворянства заключить мир. И если мы можем этому помочь…
Сазонов вздрагивает. Отрывисто и сухо он заявляет:
– О, нет, нет… Революция никогда не будет нашим орудием.
– Будьте уверены, что она есть орудие наших врагов против нас… И Германия не ждет возможного поражения ваших войск, она не ждала войны, чтобы создать себе соумышленников среди ваших рабочих. Вы не можете оспаривать, что забастовки, которые вспыхнули в Петербурге во время визита президента Республики, были вызваны германскими агентами.
– Я это слишком хорошо знаю. Но, повторяю, революция никогда не будет нашим оружием, даже против Германии.
Наш разговор останавливается на этом. Сазонов более не в настроении откровенничать. Появление революционного призрака внезапно заставило его застыть.
Чтобы дать ему отдохнуть, я увожу его в моем экипаже на Крестовский остров. Там мы гуляем пешком под прекрасной тенью деревьев, которая простирается до сверкающего устья Невы.
Мы разговариваем об императоре, я говорю Сазонову:
– Какое прекрасное впечатление я вынес о нем на этих днях в Москве. Он дышал решимостью, уверенностью и силой.
– У меня было такое же впечатление, и я извлек из него хорошее предзнаменование… но предзнаменование необходимое, потому что…
Он внезапно останавливается, как если бы он не решался окончить свою мысль.
Я убеждаю его продолжить. Тогда, беря меня за руку, он говорит тоном сердечного доверия:
– Не забывайте, что основная черта характера государя это мистическая покорность судьбе.
Затем он передает мне рассказ, который слышал от своего шурина Столыпина, бывшего премьер-министра, убитого 18 сентября 1911 года.
Это было в 1909 году, когда Россия начинала забывать кошмар японской войны и последовавших за ней мятежей. Однажды Столыпин предложил государю важную меру внутренней политики. Задумчиво выслушав его, Николай II делает скептически-равнодушное движение, которое как бы говорит: «Это или что-нибудь другое – не все ли равно…» Потом он заявляет грустным голосом: «Мне не удается ничего из того, что я предпринимаю, Петр Аркадьевич. Мне не везет… К тому же человеческая воля так бессильна…»
Мужественный и решительный по натуре, Столыпин энергично протестует. Тогда царь у него спрашивает:
– Читали вы Жития святых?
– Да… по крайней мере частью, так как, если не ошибаюсь, этот труд содержит около 20 томов.
– Знаете ли вы также, когда день моего рождения?
– Разве я мог бы его не знать? Шестого мая.
– А какого святого праздник в этот день?
– Простите, государь, не помню.
– Иова Многострадального.
– Слава Богу. Значит, царствование вашего величества завершится со славой, так как Иов, смиренно претерпев самые ужасные испытания, был вознагражден благословением Божиим и благополучием.
– Нет, поверьте мне, Петр Аркадьевич, у меня более чем предчувствие, у меня в этом глубокая уверенность: я обречен на страшные испытания; но я не получу моей награды здесь, на земле… Сколько раз применял я к себе слова Иова: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне».
Несомненно, что эта война обязывает все воюющие стороны мобилизовать до конца имеющиеся нравственную энергию и организационные силы. История, только что рассказанная мне Сазоновым, привела меня к наблюдению, к которому я часто приходил с тех пор, когда стал жить среди русских, к наблюдению, которое в известном смысле суммирует их национальный облик.
Если слово «мистицизм» использовать в его широком смысле, то русский человек является исключительно мистиком. Он – мистик не только в своей религиозной жизни, но также и в социальной, политической и эмоциональной.
За всеми доводами, которые диктуют его поведение, всегда видна приверженность к определенной вере. Он рассуждает и действует, словно верит в то, что развитие человечества вызвано тайными, сверхъестественными силами, оккультной, деспотической и диктаторской властью. Этот его настрой, более или менее общепризнанный и осознанный, связан с его воображением, которое, естественно, неуправляемо и не ограничено какими-либо рамками. Этот настрой является также результатом его атавизма, географического положения, климата и истории.
Предоставленный самому себе, он не испытывает необходимости в том, чтобы выяснять, каков процесс происхождения вещей или каковы их практические и определяющие факторы, а также благодаря каким рациональным и удачным средствам они могут появиться на свет и состояться. Равнодушный к логической определенности, он лишен вкуса к продуманному и тщательному наблюдению или к аналитическому и дедуктивному исследованию. Он в меньшей степени полагается на свой рассудок, чем на свое воображение и на способность отдаваться эмоциям; его менее заботит способность понимать, чем способность «чувствовать» и «прорицать». Обычно он действует по интуиции или в соответствии с шаблоном и с природной беспомощностью.
С религиозной точки зрения его вере присуща созерцательность, склонность к фантазированию, она насыщена смутными надеждами, суеверными страхами и мессианскими ожиданиями; он всегда в поиске прямой связи с незримым и божественным.
С политической точки зрения концепция действенной мотивации крайне чужда ему. Царизм представляется ему в виде метафизической реальности. Он приписывает царю и его министрам истинную добродетель, соответствующую динамическую силу и некую магическую власть править империей, исправлять злоупотребления, осуществлять реформы, устанавливать господство справедливости и т. д.
Какими законодательными мерами, с помощью какого административного механизма они могут эффективно осуществлять это? Это не его, а их дело, их секрет.
Также и в своей эмоциональной жизни русский человек постоянно ощущает на себе подчиняющее воздействие инородных сил, которые руководят им против его же воли. Дабы оправдать свои грехи, личные недостатки, причуды и поражения, он обычно ссылается на невезение, судьбу, мистическое влияние «Потустороннего» и зачастую даже на колдовство и магию сатаны.
Подобная концепция подхода к решению проблем не вполне адекватно содействует личным, ответственным усилиям и постоянным мужественным поступкам. Именно поэтому русский человек так часто удивляет нас своей беззаботностью, своей позицией, выражаемой фразой «подождем и увидим», и своим пассивным безропотным бездействием.
И наоборот: хотя почти невозможно взывать к его душе, он способен на самые вдохновенные порывы и на самые героические жертвы. И вся история русского народа доказывает, что русский человек всегда отдает себя без остатка, когда он чувствует, что он действительно нужен…
Прошлой ночью скончался папа римский Пий Х. Соберется ли когда-либо совет кардиналов для выбора нового папы римского при более мрачных обстоятельствах или при свершении более грандиозного переворота в жизни человечества? Найдет ли коллегия кардиналов в своих рядах папу римского с достаточным человеколюбием, с достаточно глубоким благочестием, с достаточной силой характера и с достаточной политической проницательностью, чтобы играть важнейшую и беспрецедентную роль, которую Ватикану предлагает война?
Пятница, 21 августа
На бельгийском и французском фронтах наши действия принимают плохой оборот. Я получаю приказание выступить посредником перед императорским правительством с целью ускорить, насколько возможно, наступление русских войск. Я тотчас же отправляюсь к военному министру и энергично излагаю ему просьбу французского правительства. Он призывает офицера и немедленно диктует ему, под мою собственную диктовку, телеграмму великому князю Николаю Николаевичу.
Затем я спрашиваю генерала Сухомлинова по поводу военных операций, происходящих на русском фронте.
Я записываю его сообщения в таких словах:
1. Великий князь Николай Николаевич решил с возможной быстротой продвигаться вперед к Берлину и Вене, главным образом на Берлин, проходя между крепостями Торном, Позеном и Бреслау.
2. Русские армии перешли в наступление по всей линии.
3. Войска, нападающие на Восточную Пруссию, продвинулись вперед на неприятельской территории от 20 до 45 километров; их линия определяется приблизительно Сольдау, Нейденбургом, Лыком, Ангенбургом и Инстербургом.
4. В Галиции русские войска, продвигающиеся на Львов, достигли Буга и Серета.
5. Войска, действующие на левом берегу Вислы, пойдут прямо к Берлину, как только северо-западным армиям удастся зацепить германскую армию.
6. 28 корпусов, выставленные теперь против Германии и Австрии, состоят приблизительно из 1 120 000 человек.
Вчера германцы вошли в Брюссель. Бельгийская армия отступает на Антверпен. Между Мецем и Вогезами французская армия принуждена отступить после того, как она понесла тяжелые потери.
Суббота, 22 августа
Немцы у Намюра. В то время как один из их корпусов бомбардирует город, большая часть войск продолжает движение к истокам Самбры и Уазы. План германского наступления через Бельгию вырисовывается теперь во всей своей полноте.
Воскресенье, 23 августа
Наши союзники с того берега Ла-Манша начинают появляться на бельгийском фронте. Одна дивизия английской кавалерии рассеяла уже немецкую колонну… в Ватерлоо! Веллингтон и Блюхер должны были от этого проснуться в своих могилах. Большое сражение завязывается между Монсом и Шарлеруа.
Русские продвигаются в Восточной Пруссии, они заняли Инстербург.
Понедельник, 24 августа
Мне телеграфируют из Парижа:
«Сведения, полученные из самого верного источника, сообщают нам, что два действующих корпуса, находившихся раньше против русской армии, переведены теперь на французскую границу и заменены на восточной границе Германии полками, составленными из ландвера[3 - Войска, состоящие из уволенных в запас и призываемых на службу по первому требованию. – Прим. ред.]. План войны германского генерального штаба слишком ясен, чтобы было нужно до крайности настаивать на необходимости наступления русских армий на Берлин. Предупредите неотложно правительство и настаивайте».
Я обращаюсь немедленно к великому князю Николаю Николаевичу и генералу Сухомлинову. В то же время я уведомляю государя.
В тот же вечер я имею возможность уверить французское правительство, что русская армия продолжает свое движение на Кенигсберг и Торн со всей возможной энергией и быстротой. Значительное сражение подготовляется между Наревом и Вкрой.
Сегодня привезли во французский госпиталь в Петербурге адъютанта великого князя Николая Николаевича князя Кантакузина, раненного вблизи Гумбинена пулей в грудь. Доктор Крессон, главный врач, разговаривал с ним несколько минут: раненый еще весь полон наступательного пыла, который увлекает русские войска; он с горячностью утверждает, что великий князь Николай Николаевич решил какой угодно ценой открыть себе дорогу на Берлин.
Вторник, 25 августа
Немцы победили при Шарлеруа; кроме того, они нанесли нам сильный удар на юге Бельгийских Арденн, вблизи от Невшато. Все французские и английские войска отступают к Уазе и к Семуа.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/moris-zhorzh-paleolog/dnevnik-posla/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Господи, спаси Республику! Господи, спаси императора Николая! Господи, спаси короля Британии! (лат.) – Прим. пер.
2
29 июня 1914 года Распутина, который только что приехал в Покровское, в свою родную деревню, ударила ножом в живот петербургская проститутка Хиония Гусева, бывшая его любовница. В течение двух недель Распутин находился на грани жизни и смерти. Его выздоровление заняло много времени. Царица ежедневно направляла ему телеграммы. Хионию Гусеву отправили в больницу для душевнобольных. Когда она ударила Распутина ножом, она воскликнула: «Я убила Антихриста!» Будучи довольно привлекательной женщиной двадцати шести лет, она являла собой наиболее характерный типаж русской проститутки, объединяя в себе истеричку, алкоголичку и мистически настроенную женщину. Ее легко представить в роли героини одного из романов Толстого или Достоевского. – Прим. авт.
3
Войска, состоящие из уволенных в запас и призываемых на службу по первому требованию. – Прим. ред.
Морис Жорж Палеолог
Дневник француза Мориса Палеолога (1859—1944) – обязательное чтение для всех, кто интересуется историей России начала ХХ века.
Во-первых, это первоисточник – Палеолог был в 1914—1917 годах послом при русском дворе и обладал информацией, как редко кто другой. Во-вторых, это большой литературный труд – недаром Палеолог был не только кадровым дипломатом, но и «бессмертным», то есть членом Французской академии. В-третьих, это одна из тех «главных» книг, по которым Запад и по сей день знакомится с русской жизнью. И наконец, дневник Палеолога был издан по-русски еще в 1923 году, но около половины текста оказалось изъято, а некоторые места, наоборот, вписаны.
В настоящем издании текст Мориса Палеолога воспроизведен полностью – без купюр и исправлений.
Морис Жорж Палеолог
Дневник посла
Текст печатается полностью по трехтомному изданию
Maurice Paleologue
LA RUSSIE DES TSARS pendant la Grande Guerre
Paris, Library Plon 1922
Дополнительная сверка произведена по изданию
AN AMBASSADOR’S MEMOIRS
by Maurice Paleologue
in three volumes London, Hutchinson&Co. 1924
Редкие, но явные фактические ошибки и несуразности в дневниковых записях не исправляются, русские цитаты даются в обратном переводе с французского, – важнее было сохранить аутентичность текста, по которому иностранцы знакомились с Россией.
Авторское вступление
Двенадцатого января 1914 года правительство Французской Республики назначило меня своим послом при царе Николае II. Сначала я уклонялся от этой чести по общеполитическим соображениям. Действительно, последние должности, которые я занимал по дипломатическому ведомству, ставили меня в наиболее благоприятное положение для наблюдения за игрой сил, коллективных и единоличных, которая скрыто предшествовала всемирному конфликту.
В течение пяти лет, с января 1907 года, я был французским послом в Софии. Мое продолжительное пребывание в центре балканских дел позволило мне измерить ту опасность, которую представляло собою для существующего в Европе порядка вещей сочетание четырех факторов, подготовлявшееся на моих глазах: ускорение падения Турции, территориальные вожделения Болгарии, романтическую манию величия царя Фердинанда и, в особенности, наконец, – честолюбивые замыслы Германии на Востоке. Из этого опыта я извлек всё, что было возможно в смысле поучительности и интереса, когда 25 января 1912 года господин Пуанкаре, который перед тем принял председательство в Совете министров и портфель министра иностранных дел, вызвал меня в Париж, чтобы доверить мне управление политическим отделом. Это было на следующий день после серьезного спора, который марокканский вопрос и агадирский инцидент возбудили между Германией и Францией.
Дурные впечатления, которые я привез из Софии, очень быстро определились и подтвердились. С каждым днем мне становилось все более очевидным, что возрастающая непримиримость германского министерства иностранных дел и его тайные интриги должны были неминуемо привести к грядущему конфликту.
Мои предположения показались правительству достаточно обоснованными, и оно сочло необходимым внимательно исследовать предполагаемый образ действия наших союзников. В течение мая 1912 года по вечерам происходили секретные совещания на набережной Орсе под председательством Пуанкаре, при участии военного министра Мильерана, морс кого министра Делькассе, начальника главного штаба армии генерала Жоффра, начальника морского главного штаба адмирала Обера и меня; следствием их явилось более тесное согласие между центральными государственными органами, на долю которых, в случае войны, должно было выпасть главное напряжение сил при обороне страны.
В продолжение следующих месяцев я несколько раз имел возможность исследовать в пределах совещательной роли, которую налагала на меня моя должность, нет ли возможности улучшить наши отношения с Германией, отнестись к ней с авансированным доверием, найти почву для разговоров с ней, поводы для совместных действий и для честного соглашения. Я думаю, что обладаю достаточно свободным умом, чтобы утверждать, что я приступал к этому изучению с полной объективностью. Но каждый раз я был принужден признать, что всякая снисходительность с нашей стороны была истолкована в Берлине как знак слабости, из которой императорское правительство пыталось тотчас же извлечь пользу, дабы вырвать у нас новую уступку; что германская дипломатия неуклонно преследовала обширный план гегемонии и что непреклонность ее намерений с каждым днем увеличивала опасности столкновения. Я же, сверх того, с огорчением должен был констатировать, что шумный пацифизм наших социалистов и партии, подчиненной Кайо, вел только к возбуждению высокомерия и жадности в Германии, позволяя ей думать, что ее приемы запугивания могут со временем нас подчинить и что французский народ готов лучше всё претерпеть, нежели прибегнуть к оружию.
При этих условиях 28 декабря 1913 года господин Думерг, председатель Совета министров и министр иностранных дел, предложил мне заменить в посольстве в Петербурге господина Делькассе, временные полномочия которого должны были кончиться. Благодаря его за доверие, я настоятельно просил его перенести свой выбор на другого дипломата; я выдвинул лишь один аргумент, который мне, однако, казался решающим:
– Общее положение Европы предвещает грядущий кризис. Под влиянием соображений, о которых я не имею права судить, республиканское большинство палаты всё более склоняется к численному и материальному уменьшению нашей армии; Франция рискует, таким образом, очутиться перед ужасной альтернативой: военная несостоятельность или национальное унижение. Идеи, которые одерживают верх в палате, и растущее влияние социалистической партии заставляют меня опасаться, чтобы правительство не вздумало тогда избрать национальное унижение или по крайней мере чтобы оно не было принуждено его принять. А отказ от франко-русского союза был бы, конечно, первым условием, которое нам навяжет Германия; к тому же существование этого союза не имело бы более никаких оснований, потому что его единственная цель – сопротивляться чрезмерным притязаниям Германии. Но, отрываясь от России, мы потеряли бы необходимую и незаменимую опору нашей политической независимости. Я, как посол, не хочу быть орудием этого злосчастного предприятия.
Думерг старался меня успокоить. Я тем не менее упорствовал в своих возражениях, которые, впрочем, отнюдь не были направлены против него, потому что я знал его твердый патриотизм и справедливость его суждений. Для большей ясности я позволил себе прибавить:
– Пока вы будете сохранять портфель министра иностранных дел, мне нечего бояться. Но я не могу забыть, что вашим коллегой и министром финансов является господин Кайо, который, может быть, завтра, вследствие самого ничтожного парламентского происшествия, придет вас заменить в этом самом кабинете, где мы сейчас находимся… Всего два года, как я заведую политическим отделом, и должен был служить уже при четырех министрах. Да, четыре министра иностранных дел за два года… Каковы-то будут ваши преемники?
Думерг самым сердечным тоном мне ответил:
– Я вижу, что вы упрямы, но надеюсь, что президент сумеет вас лучше убедить, чем я.
Дружба, начавшаяся еще в лицее Людовика Великого, связывала меня с Пуанкаре. Второго января 1914 года он пригласил меня в Елисейский дворец. Принял меня друг, но говорил со мной президент Республики. Он мне сказал, что Совет министров уже обсуждал мое назначение, что выбор Думерга утвержден; одним словом, что я должен согласиться. Его бодрый патриотизм, его высокое сознание общественного долга, ясная и убедительная логика его слов подсказали ему, сверх того, доводы, которые наиболее могли меня тронуть. Я согласился. Но заметил, что я принимаю поручение и высокую честь представлять Францию в России лишь для того, чтобы следовать там традиционной политике союза – как единственной, которая позволяет Франции преследовать свою мировую историческую миссию.
Я уже пять месяцев занимал пост посла в Петербурге, когда меня вызвали в Париж, чтобы словесно установить подробности визита, который первоначально президент Республики намеревался сделать императору Николаю в течение лета.
Выходя на Северном вокзале 5 июня, я узнал, что кабинет Думерга подал в отставку и что господин Буржуа, который первоначально согласился составить новое министерство, отказался от этого, признав, что он был бы тотчас же низвергнут палатой, если бы не включил в свою программу отмены военного закона, называемого «законом трех лет». Наконец, газеты объявляли, что господин Вивиани взял на себя обязанность, от которой отказался Буржуа, и что он надеется найти примирительную формулу, которая бы обеспечила ему содействие левых партий.
Я немедленно принял решение. Приехав к себе, я просил у Бриана несколько минут разговора. Он принял меня на следующее утро. Я тотчас же ему заявил, что решил отказаться от должности посла, если образующийся кабинет не сохранит закона о трехлетней службе, и я просил его сообщить о моем решении Вивиани, которого лично я еще не знал. Он согласился со мной.
– Кризис, который сейчас наступил, – сказал он мне, – один из самых тяжелых, через которые мы проходили. Революционные социалисты и объединенные радикалы ведут себя, как сумасшедшие: они способны погубить Францию. При знаюсь, однако, что ваш пессимизм меня немного удивляет. Вы действительно так убеждены, что мы накануне войны?
– У меня есть внутреннее убеждение, что мы идем навстречу грозе. В какой точке горизонта и в какой день она разрешится? Я не могу этого сказать. Но отныне война неизбежна, и в скором времени. Я сделал, по крайней мере, всё от меня зависящее, чтобы открыть глаза французскому правительству.
– Вы очень встревожили меня. Прощайте. Я спешу к Вивиани.
– Еще одно слово, – сказал я ему. – Условимся, что мой разговор с вами останется тайной.
– Это само собою разумеется.
Два часа спустя газета «Пари Миди» сообщала под сенсационным заголовком, что я угрожал своей отставкой Вивиани, если министерская декларация не поддержит полностью военного закона. Немного спустя стало известно, что Вивиани отказывается составить кабинет. В кулуарах палаты, где волнение было весьма велико, он кратко объяснил, что не мог заставить своих будущих сотрудников принять формулу, которую он считал необходимой, по вопросу о трехлетней службе. Так как его спросили, не согласен ли он попытаться сделать новое усилие, чтобы разрешить кризис, он ответил с жестом гнева и отвращения:
– Конечно нет. Мне надоело бороться против республиканцев, которые плюют мне в лицо, когда я говорю с ними о внешнем положении.
На следующий день меня, как и следовало ожидать, ругала вся левая пресса. В Бурбонском дворце революционные социалисты и объединенные радикалы требовали моего смещения.
Но после нескольких дней парламентского возбуждения и беспорядка в общественном мнении произошла здоровая реакция. Вновь призванному для образования кабинета Вивиани удалось сгруппировать вокруг себя сотрудников, которые согласились поддерживать трехлетнюю службу.
Восемнадцатого июня Вивиани, переселившийся накануне на набережную Орсе, пригласил меня, и тогда я впервые имел с ним дело. У него был угрюмый вид, бледное лицо и нервные движения.
– Ну, что же, – резко спросил он меня, – вы верите в войну?.. Бриан рассказал мне о вашем разговоре.
– Да, я думаю, что война угрожает нам в скором времени и что мы должны к ней готовиться.
Тогда в отрывочных словах он забросал меня вопросами, не давая мне иногда времени ответить.
– В самом деле война может вспыхнуть?.. По какой причине?.. Под каким предлогом?.. В какой срок?.. Всеобщая война?.. Всемирный пожар?..
Грубое слово вырвалось из его уст, и он ударил кулаком по столу.
Помолчав, он провел рукой по лбу, как бы для того, чтобы прогнать дурной сон. Затем он заговорил более спокойным тоном:
– Будьте добры повторить мне всё, что вы мне сказали. Это так важно.
Я подробно изложил ему свои мысли и заключил:
– Во всяком случае, и даже если мои предчувствия слишком пессимистичны, мы должны, насколько возможно, укрепить систему наших союзов. Главным образом необходимо, чтобы мы довершили наше соглашение с Англией, надо, чтобы мы могли рассчитывать на немедленную помощь ее флота и ее армии.
Когда я изложил ему все, он снова провел рукой по лбу и, устремив на меня тоскливый взгляд, спросил:
– Вы не можете мне указать, хотя бы в виде предположения, когда, по-вашему, произойдут непоправимые события и разразится гроза?
– Мне представляется невозможным назначить какой-нибудь срок. Однако я был бы удивлен, если бы состояние наэлектризованной напряженности, в которой живет Европа, не привело бы в скором времени к катастрофе.
Внезапно он преобразился, его лицо озарилось внутренним светом, его стан выпрямился.
– Ну что же, если это так должно быть, исполним наш долг сполна. Франция снова окажется такой, какой она всегда была, способной на любой героизм и на любые жертвы. Снова наступят великие дни 1792 года.
В его голосе было как бы вдохновение Дантона.
Пользуясь его волнением, я спросил:
– Итак, вы решили полностью поддержать военный закон, и я могу заявить об этом императору Николаю?
– Да, вы можете заявить, что трехлетняя служба будет сохранена без ограничений и что я не допущу ничего, что могло бы ослабить наш союз с Россией.
В заключение он долго расспрашивал меня об императоре Вильгельме, о его новых намерениях, о его истинных чувствах по отношению к Франции и т. д. Затем он объяснил мне причину этого тщательного допроса:
– Я должен спросить у вас совета… Князь Монакский дал знать моему коллеге по палате X., что император Вильгельм был бы счастлив переговорить с ним этим летом во время гонки судов в Киле. X. намерен туда отправиться… Не думаете ли вы, что этот разговор мог бы смягчить ситуацию?
– Я никоим образом этого не думаю. Это все время одна и та же игра… Император Вильгельм завалит X. цветами: он уверит его, что его самое горячее желание, его единственная мысль – добиться дружбы, даже любви Франции, и он засыплет его знаками внимания. Таким образом он придаст себе в глазах людей вид самого миролюбивого, самого безобидного, самого сговорчивого монарха. Наше общественное мнение и сам X. – первый – дадут себя обольстить этой прекрасной видимостью. А в это самое время вы должны будете бороться с реальной действительностью немецкой дипломатии, с ее систематическими приемами непримиримости и придирок.
– Вы правы. Я отговорю X. ехать в Киль.
Так как, по-видимому, ему больше нечего было мне сказать, я спросил у него о предписаниях, касающихся визита французского президента к императору Николаю. Затем я простился с ним.
Двадцать шестого июня я возвратился в Петербург.
Теперь я могу просто предоставить слово моему дневнику. Записи, составляющие его, заносились ежедневно; те, которые имеют отношение к политике, отчасти дополняются моей официальной корреспонденцией.
Не следует удивляться, если соображения приличия и скромности заставляли меня иногда заменять имена реальных лиц фиктивными инициалами.
1914 год
Понедельник, 20 июля
Я покидаю Петербург в десять часов утра на адмиралтейской яхте, чтобы отправиться в Петергоф. Министр иностранных дел Сазонов, русский посол во Франции Извольский и мой военный атташе генерал де Лагиш сопутствуют мне, так как император пригласил нас всех четверых завтракать на его яхту, перед тем как отправиться навстречу президенту Франции в Кронштадт. Чины моего посольства, русские министры и сановники двора будут доставлены прямо по железной дороге в Петергоф.
Погода пасмурная. Между плоскими берегами наше судно скользит с большой быстротой к Финскому заливу. Внезапно свежий ветер, дующий с открытого моря, приносит проливной дождь, но так же внезапно появляется солнце. Несколько облаков жемчужно-матового цвета, прорезанные лучами, носятся там и здесь по небу, как шелковые шарфы, испещренные золотом. И ясно освещенное устье Невы развертывает, насколько хватает глаз, свои зеленоватые, тяжелые, подернутые волнами воды, которые заставляют меня вспоминать о венецианских лагунах.
В половине двенадцатого мы останавливаемся в маленькой гавани Петергофа, где нас ждет «Александрия», любимая яхта императора.
Николай II, в адмиральской форме, почти тотчас же подъезжает к пристани. Мы пересаживаемся на «Александрию». Завтрак немедленно подан. До прибытия «Франции» в нашем распоряжении по крайней мере час и три четверти. Но император любит засиживаться за завтраком. Между блюдами делают долгие промежутки, во время которых он беседует, куря папиросы. Я занимаю место справа от него, Сазонов слева, а граф Фредерикс, министр двора, напротив.
После нескольких общих фраз император выражает мне свое удовольствие по поводу приезда президента Республики.
– Нам надо поговорить серьезно, – говорит он мне. – Я убежден, что по всем вопросам мы сговоримся… Но есть один вопрос, который особенно меня занимает: наше соглашение с Англией. Надо, чтобы мы привели ее к вступлению в наш союз. Это был бы залог мира.
– Да, государь, тройственная Антанта не может считать себя слишком сильной, если хочет охранить мир.
– Мне говорили, что вы лично обеспокоены намерениями Германии?..
– Обеспокоен? Да, государь, я обеспокоен, хотя у меня нет теперь никакой определенной причины предсказывать немедленную войну. Но император Вильгельм и его правительство позволили Германии впасть в такое состояние духа, что, если возникнет какой-нибудь спор в Марокко, на Востоке, безразлично где, они не смогут более ни отступить, ни мириться. Им необходим успех любой ценой. И чтобы его получить, они бросятся в авантюру.
Император на минуту задумывается:
– Я не могу поверить, чтобы император Вильгельм желал войны… Если бы вы его знали, как я! Если бы знали, сколько шарлатанства в его позах…
– Возможно, что я, в сущности, приписываю слишком много чести императору Вильгельму, когда считаю его способным иметь волю или просто принимать на себя последствия своих поступков. Но если бы война стала угрожающей, захотел ли бы и смог ли бы он помешать? Нет, государь, говоря откровенно, я этого не думаю.
Император остается безмолвным, пускает несколько колец дыма из своей папироски, затем решительным тоном продолжает:
– Тем более важно, чтобы мы могли рассчитывать на англичан в случае кризиса. Германия не осмелится никогда напасть на объединенные Россию, Францию и Англию, иначе как если совершенно потеряет рассудок.
Едва подан кофе, как дают сигналы о прибытии французской эскадры. Император заставляет меня подняться с ним на мостик.
Зрелище величественное. В дрожащем серебристом свете на бирюзовых и изумрудных волнах «Франция» медленно продвигается вперед, оставляя длинный след за кормой, затем величественно останавливается. Грозный броненосец, который привозит главу французского государства, красноречиво оправдывает свое название – это действительно Франция идет к России. Я чувствую, как бьется мое сердце.
В продолжение нескольких минут рейд оглашается громким шумом: выстрелы из пушек эскадры и сухопутных батарей, «ура» судовых команд, «Марсельеза» в ответ на русский гимн, восклицания тысяч зрителей, приплывших из Петербурга на яхтах и прочих прогулочных судах.
Президент Республики подплывает наконец к «Александрии», император встречает его у трапа.
Как только представления окончены, императорская яхта поворачивает носом к Петергофу.
Сидя на корме, император и президент тотчас же вступают в беседу, я сказал бы скорее – в переговоры, так как видно, что они взаимно друг друга спрашивают, о чем-то спорят. По-видимому, Пуанкаре направляет разговор. Вскоре говорит он один. Император только соглашается, но все его лицо свидетельствует о том, что он искренно одобряет, что он чувствует себя в атмосфере доверия и симпатии.
Вскоре мы приплываем в Петергоф. Наверху длинной террасы, с которой величественно ниспадает пенящийся водопад, сквозь великолепный парк и бьющие фонтаны воды показывается любимое жилище Екатерины II.
Наши экипажи скорой рысью поднимаются по аллее, которая ведет к главному подъезду дворца. При всяком повороте открываются далекие виды, украшенные статуями, фонтанами и балюстрадами. Несмотря на всю искусственность обстановки, здесь, при ласкающем дневном свете, вдыхаешь живой и очаровательный аромат Версаля.
В половине восьмого начинается торжественный обед в Елизаветинском зале.
По пышности мундиров, по роскоши туалетов, по богатству ливрей, по пышности убранства, общему выражению блеска и могущества зрелище так великолепно, что ни один двор в мире не мог бы с ним сравниться. Я надолго сохраню в глазах ослепительную лучистость драгоценных камней, рассыпанных на женских плечах. Это фантастический поток алмазов, жемчуга, рубинов, сапфиров, изумрудов, топазов, бериллов – поток света и огня.
В этом волшебном окружении черная одежда Пуанкаре производит неважное впечатление. Но широкая голубая лента ордена Святого Андрея, которая пересекает его грудь, поднимает в глазах русских его престиж. Наконец, все вскоре замечают, что император слушает его с серьезным и покорным вниманием.
Во время обеда я наблюдал за Александрой Федоровной, против которой сидел. Хотя длинные церемонии являются для нее очень тяжелым испытанием, она захотела быть здесь в этот вечер, чтобы оказать честь президенту союзной республики. Ее голова, сияющая бриллиантами, ее фигура в декольтированном платье из белой парчи выглядят довольно красиво. Несмотря на свои сорок два года, она еще приятна лицом и очертаниями. С первой перемены блюд она старается завязать разговор с Пуанкаре, который сидит справа от нее. Но вскоре ее улыбка становится судорожной, ее щеки покрываются пятнами. Каждую минуту она кусает себе губы. И ее лихорадочное дыхание заставляет переливаться огнями бриллиантовую сетку, покрывающую ее грудь. До конца обеда, который продолжается долго, бедная женщина, видимо, борется с истерическим припадком. Ее черты внезапно разглаживаются, когда император встает, чтобы произнести тост.
Августейшее слово выслушано с благоговением, но особенно хочется всем услышать ответ. Вместо того чтобы прочесть свою речь, как сделал император, Пуанкаре говорит без бумажки. Никогда его голос не был более ясным, более определенным, более внушительным. То, что он говорит, не более как пошлое дипломатическое пустословие, но слова в его устах приобретают замечательную силу, значение и властность. Присутствующие, воспитанные в деспотических традициях и в дисциплине двора, заметно заинтересованы. Я убежден, что среди всех этих обшитых галунами сановников многие думают: «Вот как должен был бы говорить самодержец».
После обеда император собирает около себя кружок. Поспешность, с которой представляются Пуанкаре, свидетельствует о его успехе. Даже немецкая партия, даже ультрареакционное крыло домогаются чести приблизиться к Пуанкаре.
В одиннадцать часов начинается разъезд. Император провожает президента до его покоев.
Там Пуанкаре задерживает меня в течение нескольких минут. Мы обмениваемся нашими впечатлениями, которыми мы оба вполне довольны.
Возвратясь в Петербург по железной дороге в три четверти первого, я узнаю, что сегодня после полудня без всякого повода, по знаку, идущему неизвестно откуда, забастовали главнейшие заводы и что в нескольких местах произошли столкновения с полицией. Мой осведомитель, хорошо знающий рабочую среду, утверждает, что движение было вызвано немецкими агентами.
Вторник, 21 июля Президент Республики посвящает сегодняшний день осмотру Петербурга. Прежде чем покинуть Петергоф, он провел переговоры с царем. Пункт за пунктом они обсудили все вопросы, входившие в настоящий момент в дипломатическую повестку дня: напряженные отношения между Грецией и Турцией; интриги правительства Болгарии на Балканах, прибытие в Албанию князя Вьедского; практическое применение англо-русских соглашений в Персии; политическая ориентация скандинавских государств и т. д. Они завершили обзор этих вопросов обсуждением проблемы спора между Австрией и Сербией – проблемы, с каждым днем становившейся все более тревожной из-за высокомерной и непонятной позиции Австрии. Пуанкаре самым решительным образом настаивал на том, что единственный путь для сохранения всеобщего мира – открытая дискуссия между великими державами и принятие мер для того, чтобы одна сторона не противостояла другой. «Этот метод так хорошо послужил нам в 1913 году, – заявил он. – Давайте попытаемся воспользоваться им вновь!..» Николай II полностью с этим согласился. В половине второго я отправляюсь ожидать на императорской пристани вблизи Николаевского моста. Морской министр, градоначальник, комендант города и городские власти находятся там, чтобы его встретить.
Согласно старинному славянскому обычаю, граф Иван Толстой, городской голова столицы, подносит хлеб-соль.
Затем мы садимся в экипаж, чтобы отправиться в Петропавловскую крепость, являющуюся государственной тюрьмой и усыпальницей Романовых. Согласно обычаю, президент возложит венок на могилу Александра III, творца Союза.
Наши экипажи крупной рысью едут вдоль Невы, сопровождаемые гвардейскими казаками, ярко-красные мундиры которых сверкают на солнце.
Несколько дней тому назад, когда я обсуждал с Сазоновым последние подробности визита президента, он сказал мне смеясь:
– Гвардейские казаки назначены для сопровождения президента. Вы увидите, какое они представят красивое зрелище. Это великолепные и страшные молодцы. Кроме того, они одеты в красное. А я думаю, что господин Вивиани не относится с ненавистью к этому цвету.
Я ответил:
– Нет, он его не ненавидит, но его глаз художника наслаждается им вполне лишь тогда, когда он соединен с белым и синим.
В своих красных мундирах эти казаки, бородатые и косматые, действительно наводят ужас. Когда наши экипажи въезжают вместе с ними в главные ворота крепости, какой-нибудь иронический наблюдатель, любитель исторических антитез, мог бы спросить себя: не в государственную ли тюрьму провожают они этих двух патентованных «революционеров» – Пуанкаре и Вивиани, не считая меня, их сообщника. Никогда еще моральная противоречивость и молчаливая двусмысленность, которые лежат в основе франко-русского союза, не являлись мне с такой силой.
В три часа президент принимает делегатов французов – жителей Петербурга и всей России. Они приехали из Москвы и Харькова, из Одессы и Киева, из Ростова и Тифлиса. Представляя их Пуанкаре, я могу сказать ему с полной искренностью:
– Их готовность явиться приветствовать вас нисколько меня не удивила, так как я каждый день вижу, с каким усердием и любовью французы в России хранят культ далекой родины. Ни в одной из провинций нашей старой Франции, господин президент, вы не найдете лучших граждан, чем те, которые находятся здесь, перед вами.
В четыре часа шествие снова выстраивается, чтобы сопровождать президента в Зимний дворец, где должен состояться дипломатический прием.
На всем пути нас встречают восторженными приветствиями. Так приказала полиция. На каждом углу кучки бедняков оглашают улицы криками «ура» под наблюдением полицейского.
Зимний дворец выглядит как в самые торжественные дни.
Этикет требует, чтобы посланники один за другим вводились к президенту, слева от которого стоит Вивиани. А я представляю ему моих иностранных коллег.
Первым входит германский посол, граф Пурталес, старейшина дипломатического корпуса. Я предупредил Пуанкаре, что мой предшественник, Делькассе, едва соблюдал необходимую вежливость по отношению к этому очень учтивому человеку, и я просил президента оказать ему хороший прием. Итак, президент принимает его с подчеркнутой приветливостью. Он спрашивает его о французском происхождении его семьи, о родстве его жены с фамилией Кастеллан, о поездке на автомобиле, которую граф и графиня предполагают сделать через Прованс по дороге в Кастеллан, и т. д. Ни слова о политике.
Затем я представляю моего японского коллегу, барона Мотоно, которого Пуанкаре когда-то знал в Париже. Разговор их краток, но не лишен значения. В нескольких фразах выражен и предположительно решен принцип присоединения Японии к Тройственному согласию.
После Мотоно я ввожу моего английского коллегу, сэра Джорджа Бьюкенена. Пуанкаре заверяет его, что император решил держаться самого примирительного образа действий в персидских делах, и он настаивает на том, чтобы британское правительство признало, наконец, необходимость преобразовать Тройственное согласие в Тройственный союз.
Совсем поверхностный разговор с послами Италии и Испании.
Наконец появляется мой австро-венгерский коллега, граф Сапари, типичный венгерский дворянин, безукоризненный по манерам, посредственного ума, неопределенного образования. В течение двух месяцев он отсутствовал в Петербурге, вынужденный оставаться при больных жене и сыне. Он неожиданно вернулся третьего дня. Из этого я вывел заключение, что австро-сербская распря усиливается, что там произойдет взрыв и что необходимо, чтобы посол был на своем посту, дабы поддерживать спор и принять свою долю ответственности.
Пуанкаре, которого я предупредил, ответил мне:
– Я попытаюсь выяснить это.
После нескольких слов сочувствия по поводу убийства эрцгерцога Франца Фердинанда президент спрашивает у Сапари:
– Имеете ли вы известия из Сербии?
– Юридическое расследование продолжается, – холодно отвечает Сапари.
Пуанкаре снова говорит:
– Результаты этого следствия не перестают меня занимать, господин посол, так как я вспоминаю два предыдущих расследования, которые не улучшили ваших отношений с Сербией… Вы помните, господин посол… дело Фридюнга и дело Прохаски…
Сапари сухо возражает:
– Мы не можем терпеть, господин президент, чтобы иностранное правительство допускало на своей территории подготовку покушения против представителей нашей верховной власти.
Самым примирительным тоном Пуанкаре старается доказать ему, что при нынешнем состоянии умов в Европе все правительства должны усвоить осторожность.
– При некотором желании это сербское дело легко может быть окончено. Но так же легко оно может разрастись. У Сербии есть очень горячие друзья среди русского народа. И у России есть союзница, Франция. Скольких осложнений следует бояться!
Затем он благодарит посла, что тот приехал. Сапари кланяется и выходит, не говоря ни слова.
Когда мы трое остаемся одни, Пуанкаре нам говорит:
– Я вынес дурное впечатление из этого разговора. Посол явно получил приказание молчать… Австрия подготавливает неожиданное выступление. Необходимо, чтобы Сазонов был тверд и чтобы мы его поддержали…
Мы переходим затем в соседний зал, где представители второстепенных держав выстроены по старшинству.
Стесненный временем, Пуанкаре проходит перед ними быстрым шагом, пожимая руки. Их разочарование можно угадать по их лицам. Они все надеялись услышать от него несколько содержательных и туманных слов, из которых бы составили длинные донесения своим правительствам.
Он останавливается только перед сербским посланником Спалайковичем, которого утешает двумя или тремя сочувственными фразами.
В шесть часов – посещение французской больницы, где президент закладывает первый камень здания аптеки.
В восемь часов – парадный обед в посольстве. Стол накрыт на восемьдесят шесть персон. Дом, отделанный заново, выглядит прекрасно. Государственные мебельные кладовые уступили мне удивительную серию гобеленов, среди них «Триумф Марка Антония» и «Триумф Мардохея», работы Натуара, которые пышно украшают парадную залу. Кроме то го, всё посольство украшено розами и орхидеями.
Приезжают гости, одни наряднее других. Их выбор был для меня сущим мучением вследствие бесконечного соперничества и зависти, которые вызывает жизнь при дворе: распределение мест за столом было еще более трудной задачей. Но мне так удачно помогают секретари, что обед и вечер проходят прекрасно.
В одиннадцать часов президент удаляется.
Я сопровождаю его в здание городской думы, где петербургское общественное управление дает праздник офицерам французской эскадры. Впервые здесь глава иностранного государства удостаивает своим присутствием прием городского управления. Зато и встреча из самых горячих.
В полночь президент отправляется обратно в Петергоф. Бурные демонстрации продолжались сегодня в фабричных кварталах Петербурга. Градоначальник уверял меня сегодня вечером, что агитация прекращена и что работа завтра возобновится. Он утверждал, наконец, что среди арестованных вожаков опознали несколько известных агентов немецкого шпионажа. С точки зрения Союза, это обстоятельство достойно внимания.
Среда, 22 июля
В полдень император дает завтрак президенту Республики в Петергофском дворце. Ни императрица и ни одна дама не присутствуют. Приборы накрыты на маленьких столиках, каждый на десять или двенадцать приглашенных. На дворе стоит сильная жара, но через открытые окна тень и воды парка посылают нам дуновения свежести.
Я сажусь за столом императора и президента – с Вивиани; адмиралом Ле Бри, командующим французской эскадрой; Горемыкиным, председателем Совета министров; графом Фредериксом, министром двора, и, наконец, Сазоновым и Извольским.
Я сижу слева от Вивиани; справа от него граф Фредерикс.
Граф Фредерикс, которому скоро минет семьдесят семь лет, в высшей степени олицетворяет жизнь двора. Из всех подданных царя на него сыплется больше всего почестей и титулов. Он министр императорского двора и уделов, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, член Государственного совета, канцлер императорских орденов, главноуправляющий Кабинетом его величества.
Всё его долгое существование протекло во дворцах и придворных церемониях, в шествиях и в каретах, в золотом шитье и в орденах. По своей должности он превосходит самых высоких сановников Империи и посвящен во все тайны императорской фамилии. Он раздает от имени императора все милости и все дары, все выговоры и все наказания. Великие князья и великие княгини осыпают его знаками внимания, так как это он управляет их делами, он заглушает их скандалы, он платит их долги. Несмотря на всю трудность его обязанностей, нельзя указать ни одного его врага – столько у него вежливости и такта. К тому же он был одним из самых красивых людей своего поколения, одним из самых изящных кавалеров, и его успехи у женщин неисчислимы. Он сохранил стройную фигуру и очаровательные манеры. В отношении физическом и моральном – он совершенный образец своего звания, высший блюститель обрядов и чинопочитания, приличий и традиций, учтивости и свет скости.
В половине четвертого мы уезжаем в императорском поезде в деревню и лагерь Красное Село.
Сверкающее солнце освещает обширную равнину, волнистую и бурую, ограниченную холмами на горизонте. В то время как император, императрица, президент, великие князья, великие княгини и вся императорская свита осматривают расположение войск, я жду со статскими и министрами на возвышении, где раскинуты палатки. Цвет петербургского общества теснится на нескольких трибунах. Светлые туалеты женщин, их белые шляпы, белые зонтики блистают, как купы азалий.
Но вот вскоре показывается и императорский кортеж. В коляске, запряженной цугом, императрица и справа от нее президент, напротив нее – две ее старшие дочери. Император скачет верхом справа от коляски в сопровождении блестящей группы великих князей и адъютантов. Все останавливаются и занимают места на холме, который господствует над равниной. Войска, без оружия, выстраиваются шеренгой, сколько хватает глаз, перед рядом палаток. Их линия проходит у самого подножия холма.
Солнце опускается к горизонту на пурпурном и золотом небе – небе апофеоза. По знаку императора пушечный залп дает сигнал к вечерней молитве. Оркестр исполняет религиозный гимн. Все обнажают головы. Унтер-офицер читает громким голосом «Отче наш», тысячи и тысячи людей молятся за императора и за Святую Русь. Безмолвие и сосредоточенность этой толпы, громадность пространства, поэзия минуты, дух Союза, который парит над всем, сообщают обряду волнующую величественность.
Из лагеря мы возвращаемся в деревню Красное Село, где великий князь Николай Николаевич, командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа, предполагаемый Верховный главнокомандующий русскими армиями, дает обед президенту Республики и чете монархов.
Три длинных стола поставлены под полуоткрытыми палатками около сада в полном цвету. Клумбы цветов, только что политые, испускают в тепловатом воздухе свежий растительный запах, который приятно вдыхать после этого жаркого дня.
Я приезжаю одним из первых. Великая княгиня Анастасия и ее сестра, великая княгиня Милица, встречают меня с энтузиазмом. Обе черногорки говорят одновременно.
– Знаете ли вы, что мы переживаем исторические дни, священные дни? Завтра на смотру музыканты будут играть только Лотарингский марш и марш Самбры и Мааса… Я получила сегодня от моего отца телеграмму в условных выражениях: он объявляет мне, что раньше конца месяца у нас будет война… Какой герой мой отец… Он достоин «Илиады»… Вот посмотрите эту бонбоньерку, которая всегда со мной, она содержит землю Лотарингии, да, землю Лотарингии, которую я взяла по ту сторону границы, когда я была с мужем во Франции два года назад. И затем посмотрите еще там, на почетном столе: он покрыт чертополохом, я не хотела, чтобы там были другие цветы. Ну что же, это чертополох Лотарингии. Я сорвала несколько его веток на отторгнутой территории. Я привезла их сюда и распорядилась посеять семена в моем саду… Милица, поговори еще с послом, скажи ему обо всем, что представляет для нас сегодняшний день, пока я пойду встречать императора…
На обеде я сижу слева от великой княгини Анастасии. И рапсодия продолжается, прерываемая предсказаниями: «Война вспыхнет… от Австрии больше ничего не останется… Вы возьмете обратно Эльзас и Лотарингию… Наши армии соединятся в Берлине… Германия будет уничтожена…»
Затем внезапно: «Я должна сдерживаться, потому что император на меня смотрит…»
И под строгим взглядом царя черногорская сивилла внезапно успокаивается.
Когда обед кончен, мы идем смотреть балет в красивом императорском театре при лагере.
Четверг, 23 июля
Сегодня утром смотр в Красном Селе. Шестьдесят тысяч человек участвуют в нем. Великолепное зрелище могущества и блеска. Пехота проходит под марш Самбры и Мааса и под Лотарингский марш. Как внушительна эта военная машина, которую царь всей России развертывает перед президентом союзной республики, сыном Лотарингии.
Император верхом у подножия холма, на котором возвышается императорский павильон. Пуанкаре сидит справа от императрицы, перед павильоном; несколько взглядов, которыми он обменивается со мной, показывают, что у нас одни и те же мысли.
Сегодня вечером прощальный обед на борту «Франции». Тотчас после него французская эскадра снимется с якоря и направится в Стокгольм.
Императрица сочла долгом сопровождать императора. Все великие князья и все великие княгини находятся здесь.
Около семи часов короткий шквал немного попортил цветочные украшения палубы. Тем не менее вид стола прекрасен: он имеет даже род наводящей ужас величественности, чему способствуют четыре гигантские 304-миллиметровые пушки, которые вытягивают свои громадные стволы над гостями. Небо уже прояснилось, легкий ветерок ласкает волны, на горизонте встает луна.
Между царем и президентом беседа не прерывается.
Издали несколько раз великая княгиня Анастасия поднимает, глядя на меня, бокал с шампанским, указывая круговым жестом на воинственную обстановку, которая нас окружает. Перед тем как было подано второе блюдо, слуга приносит мне записку от Вивиани, небрежным почерком написанную им на карточке меню: «Подготовьте, не теряя времени, коммюнике для прессы».
Сидящий рядом адмирал Григорович, военно-морской министр, шепчет мне на ухо: «Сдается, что вас не оставляют в покое ни на минуту!»
Позаимствовав у соседа по столу карточку меню и взяв свою, я в спешке набросал на них текст сообщения для агентства «Гавас», использовав нейтральную и ничего не значившую фразеологию, подходящую для документов подобного рода. Но в конце текста коммюнике я в завуалированной форме коснулся Сербии:
«Оба правительства выяснили, что их взгляды и намерения о поддержке европейского баланса силы, особенно на Балканском полуострове, являются абсолютно идентичными».
Я передаю проект коммюнике сидевшему на противоположной стороне стола Вивиани, который читает его и затем одобрительно кивает мне головой.
Наконец начинаются тосты. Пуанкаре бросает заключительную фразу, которая звучит как сигнал трубы: «У обеих стран один общий идеал мира – в силе, чести и величии».
Эти последние слова – их нужно было слышать, чтобы оценить по достоинству – вызывают бурю аплодисментов. Великий князь Николай Николаевич, великая княгиня Анастасия, великий князь Николай Михайлович глядят на меня сверкающими глазами.
Вивиани, встав из-за стола, подходит ко мне:
– Мне не совсем нравится последнее предложение вашего текста коммюнике: я думаю, что оно несколько сверх меры вовлекает нас в орбиту русской политики на Балканах… Может быть, будет лучше обойтись без него?
– Но вы не можете опубликовать официальное сообщение о визите, делая вид, что не знаете о существовании серьезных разногласий из-за угрозы открытого конфликта между Австрией и Сербией. Может даже появиться мысль, что вы занялись здесь чем-то таким, о чем не имеете права упоминать.
– Это верно. Хорошо, подготовьте мне другой вариант коммюнике.
Через несколько минут я представил ему такой вариант:
«Визит, который только что нанес Президент Республики Его Величеству императору России, предоставил возможность двум дружественным и союзным правительствам выяснить, что они находятся в полном согласии в отношении понимания стоящих перед державами различных проблем, касающихся поддержания мира и баланса силы в Европе, особенно на Востоке».
– Отлично! – говорит Вивиани.
Мы немедленно отправляемся обсуждать вопрос о коммюнике с президентом, царем, Сазоновым и Извольским. Все четверо безоговорочно одобрили новый проект коммюнике, и я отправил его сразу же агентству «Гавас».
Между тем время отхода приближается. Император выражает Пуанкаре желание продлить разговор еще на несколько минут.
– Если бы мы поднялись на мостик, господин президент? Там нам было бы спокойнее.
Таким образом, я остаюсь один с императрицей, которая предлагает мне сесть в кресло с левой стороны от себя. Бедная государыня кажется измученной и усталой. С судорожной улыбкой она говорит мне слабым голосом:
– Я счастлива, что пришла сегодня вечером. Я очень боялась грозы… Украшения корабля великолепны… Во время переезда президента будет хорошая погода.
Но вдруг она подносит руки к ушам. Затем застенчиво, со страдающим и умоляющим видом она указывает на музыкантов эскадры, которые совсем близко от нас начинают яростное allegro, подкрепляемое медными инструментами и барабаном:
– Не могли ли бы вы… – шепчет она.
Я догадываюсь о причине и делаю рукой знак капельмейстеру, который, ничего не понимая, совсем останавливает оркестр.
– О, благодарю, благодарю, – говорит мне императрица, вздыхая.
Молодая великая княжна Ольга, которая сидит на другом борту корабля с остальными членами императорской фамилии и дипломатами французской миссии, с беспокойством наблюдает за нами в течение нескольких минут. Она быстро встает, скользит к своей матери с легкой грацией и говорит ей два-три слова совсем тихо. Затем, обращаясь ко мне, она продолжает:
– Императрица немного устала, но она просит вас, господин посол, остаться и продолжать разговор.
В то время как она удаляется легкими и быстрыми шагами, я возобновляю беседу. Как раз в этот момент появляется луна в окружении медлительных облаков: весь Финский залив освещен ею. Тема найдена: я восхваляю очарование морских путешествий. Императрица слушает молча, с пустым и напряженным взглядом, щеки покрыты пятнами, губы неподвижны и надуты.
Через десять минут, которые мне кажутся бесконечными, император и президент спускаются с мостика.
Одиннадцать часов. Наступает время отъезда. Стража берет на караул, раздаются короткие приказания, шлюпка «Александрии» подходит к «Франции». При звуках русского гимна и «Марсельезы» происходит обмен прощальными приветствиями. Император выказывает по отношению к президенту Республики большую сердечность. Я прощаюсь с Пуанкаре, который любезно назначает мне свидание в Париже через две недели.
Когда я почтительно кланяюсь императору у трапа, он говорит:
– Господин посол, поедемте со мной, прошу вас. Мы можем поговорить совсем спокойно на моей яхте. А затем вас отвезут в Петербург.
С «Франции» мы пересаживаемся на «Александрию». Только императорская фамилия сопровождает их величества. Министры, сановники, свита и мои дипломаты возвращаются прямо в Петербург на адмиралтейской яхте.
Ночь великолепная. Млечный Путь развертывается, сверкающий и чистый, в бесконечном эфире. Ни единого дуновения ветра. «Франция» и сопровождающий ее отряд судов быстро удаляются к западу, оставляя за собой длинные пенистые ленты, которые сверкают при луне, как серебряные ручьи.
Когда вся императорская свита собралась на борту, адмирал Нилов приходит выслушать приказания императора, который говорит мне:
– Эта ночь великолепна. Не хотите ли прокатиться по морю?..
«Александрия» направляется к финляндскому берегу.
Усадив меня около себя на корме яхты, император рассказывает о беседе, которая у него только что была с Пуанкаре:
– Я в восторге от разговора с президентом, мы удивительно сговорились. Я не менее миролюбив, чем он, и он не менее, чем я, решительно настроен сделать всё, что будет нужно, чтобы не допустить нарушения мира. Он опасается австро-германского движения против Сербии, и он думает, что мы должны будем на него ответить единым согласованным фронтом нашей дипломатии. Я думаю так же. Мы должны будем показать нашу твердость и единство в поисках возможных решений и необходимых средств к примирению. Чем труднее будет положение, тем более едиными и непреклонными мы должны быть.
– Эта политика кажется мне самой мудростью… Боюсь только, что нам придется применить ее совсем скоро.
– Вы все еще тревожитесь?..
– Да, государь.
– У вас есть новые причины беспокойства?..
– По крайней мере одна – неожиданное возвращение моего коллеги Сапари и холодная, враждебная осторожность, которую он выказал позавчера президенту… Германия и Австрия готовят нам взрыв.
– Чего они могут желать?.. Доставить себе дипломатический успех за счет Сербии?.. Нанести урон Тройственному согласию?.. Нет, нет… Несмотря на всю видимость, император Вильгельм слишком осторожен, чтобы ввергнуть свою страну в безумную авантюру… А император Франц Иосиф хочет одного – умереть спокойно.
В течение минуты он остается молчаливым, как если бы следил за неясною мыслью. Затем встает и делает несколько шагов по палубе.
Вокруг нас великие князья, стоя, выжидают момент, когда они смогут, наконец, приблизиться к повелителю, который скупо наделяет их несколькими незначительными словами. Он их подзывает, одного за другим, и, кажется, выказывает им всем полную непринужденность и благосклонное дружелюбие, – как бы для того, чтобы заставить их забыть расстояние, на котором он их держит обычно, и правило, которое он принял: никогда не говорить с ними о политике.
Великие князья Николай Николаевич, Николай Михайлович, Павел Александрович и великая княгиня Мария Павловна подходят и поздравляют себя и меня с тем, что визит президента так удался. На языке двора это значит, что монарх доволен.
Великие княгини Анастасия и Милица, две черногорки, отводят меня в сторону:
– О, этот тост президента, вот что надо было сказать, вот чего мы ждали так долго… Мир – в силе, чести и величии… Запомните хорошенько эти слова, господин посол, это дата в мировой истории…
В три четверти первого «Александрия» бросает якорь в Петергофской гавани.
Расставшись с императором и императрицей, я перехожу на борт яхты «Стрела», которая отвозит меня в Петербург, где я схожу на берег в половине третьего утра. Плывя по Неве под звездным небом, я думаю о пылком пророчестве черногорских сивилл.
Пятница, 24 июля
Очень утомленный этими четырьмя днями беспрерывного напряжения, я надеялся немного отдохнуть и приказал слугам не будить меня. Но в семь часов утра звонок телефона внезапно нарушил мой сон: сообщают, что вчера вечером Австрия вручила свой ультиматум Сербии. В первый момент и в том состоянии сонливости, в котором я нахожусь, новость производит на меня странное впечатление неожиданности и достоверности. Событие является мне в одно и то же время нереальным и достоверным, воображаемым и несомненным. Мне кажется, что я продолжаю мой вчерашний разговор с императором, что я излагаю гипотезы и предположения. В то же время у меня сильное, положительное, неопровержимое ощущение совершившегося факта.
В течение утра начинают прибывать подробности того, что произошло в Белграде…
В половине первого Сазонов и Бьюкенен собираются у меня, чтобы переговорить о положении. После ленча наш разговор возобновляется. Основываясь на тостах, которыми обменялись император и президент, на взаимных декларациях двух министров иностранных дел, наконец, на ноте, сообщенной вчера агентством «Гавас», я не колеблюсь вы сказаться за политику твердости.
– Но если эта политика должна привести нас к войне… – говорит Сазонов.
– Она приведет нас к войне, только если германские державы уже теперь решили применить силу, чтобы обеспечить себе гегемонию на Востоке. Твердость не исключает примирения. Но нужно, чтобы противная сторона согласилась договариваться и мириться. Вы знаете мое личное мнение о замыслах Германии. Австрийский ультиматум, мне кажется, служит началом опасного кризиса, который я предвижу уже давно. С сегодняшнего дня мы должны признать, что война может вспыхнуть с минуты на минуту. И эта перспектива должна быть на первом плане во всяком нашем дипломатическом действии.
Бьюкенен предполагает, что его правительство захочет остаться нейтральным: он боится поэтому, как бы Франция и Россия не были раздавлены Тройственным союзом.
Сазонов ему замечает:
– При настоящих обстоятельствах нейтралитет Англии равнялся бы самоубийству.
– Я в этом уверен, – грустно отвечает сэр Джордж. – Но я боюсь, что общественное мнение в нашей стране все еще плохо понимает, что требуют национальные интересы.
Я настаиваю на решающей роли, которую Англия может сыграть, чтобы унять воинственный пыл Германии, я ссылаюсь на мнение, которое четыре дня тому назад высказывал мне император Николай: Германия никогда не осмелится напасть на объединенные Россию, Францию и Англию иначе как совершенно потеряв рассудок. Итак, необходимо, чтобы британское правительство высказалось в пользу нашего дела, которое является делом мира. Сазонов с жаром высказывается в том же смысле.
Бьюкенен обещает нам энергично поддерживать перед сэром Эдвардом Греем политику сопротивления германским притязаниям.
В три часа Сазонов нас покидает, чтобы отправиться на Елагин остров, где Горемыкин созывает Совет министров.
В восемь часов вечера я еду в Министерство иностранных дел, где Сазонов ведет переговоры с моим германским коллегой.
Через несколько минут я вижу, как выходит Пурталес, с красным лицом, со сверкающими глазами. Спор, должно быть, был горячим. Он пожимает мне руку, в то время как я вхожу в кабинет министра.
Сазонов весь еще дрожит от спора, который он только что выдержал. У него нервные движения, сухой и прерывистый голос.
– Ну что же, – говорю я ему, – что произошло?..
– Как я предвидел, Германия вполне поддерживает дело Австрии. Ни одного слова примирения. Зато и я заявил весьма откровенно Пурталесу, что мы не оставим Сербию в одиночестве решать проблемы с Австрией. Наш разговор окончился в очень резком тоне.
– Ах, в очень резком?..
– Да… Знаете, что он осмелился сказать?.. Он меня упрекал, меня и всех русских, что мы не любим Австрии, что мы не совестимся тревожить последние дни ее почтенного императора. Я возражал: «Конечно, мы не любим Австрии… И почему стали бы мы ее любить?.. Она делала нам только зло. Что же касается ее почтенного императора, то если он еще носит корону на своей голове, так этим он обязан нам. Вспомните, как он нам изъявлял свою благодарность в 1855-м, в 1878-м, в 1908 годах… Упрекать нас в нелюбви к Австрии… Нет, в самом деле, это слишком…»
– Плохи дела. Если разговор между Петербургом и Берлином будет продолжаться таким образом, он долго не затянется. В самом непродолжительном времени мы увидим, как император Вильгельм поднимется в своих «сверкающих доспехах». Ради Бога, будьте сдержанны. Надо исчерпать все способы примирения. Не забывайте, что мое правительство – правительство общественного мнения и что оно сможет активно поддерживать вас только в том случае, если общество будет за него. Наконец, подумайте о мнении Англии.
– Я сделаю всё возможное, чтобы избежать войны. Но, как и вы, я очень обеспокоен оборотом, который принимают события.
– Могу ли я уверить мое правительство, что вы не дали еще приказания ни о каком военном мероприятии?..
– Ни о каком, я подтверждаю это. Мы только решили тайно вернуть на родину восемьдесят миллионов рублей, которые мы хранили в немецких банках.
Он прибавляет, что постарается добиться от графа Берхтольда продления срока переданного Сербии ультиматума, чтобы державы имели время составить себе мнение о юридической стороне конфликта и поискать путей примирения.
Русские министры соберутся завтра под председательством императора. Я советую Сазонову крайнюю осторожность в мнениях, которые он будет высказывать.
Нашего разговора было достаточно, чтобы дать отдых его нервам. И он отвечает очень положительно:
– Не бойтесь ничего… К тому же вы знаете благоразумие императора… Берхтольд доказал свою неправоту: мы должны заставить его взять на себя ответственность за то, что может последовать. Я считаю даже, что, если Венский кабинет перейдет к действиям, сербы должны будут допустить захват их территории и ограничиться указанием цивилизованному миру на низость Австрии.
Суббота, 25 июля
Вчера германские послы в Париже и Лондоне вручили французскому и британскому правительствам ноту, в которой заявляется, что австро-сербская ссора должна быть покончена исключительно между Веной и Белградом. Нота оканчивается такими словами: «Германское правительство горячо желает, чтобы конфликт был локализован, ибо всякое вмешательство третьей державы может… вызвать неисчислимые последствия».
Вот начинаются и приемы запугивания!
В три часа пополудни Сазонов принимает меня вместе с Бьюкененом. Он объявляет, что сегодня утром происходило чрезвычайно важное совещание в Царском Селе под председательством императора и что его величество принял, в принципе, решение мобилизовать тринадцать армейских корпусов, которые предположительно назначены действовать против Австро-Венгрии.
Затем, обращаясь к Бьюкенену, он всеми силами, очень серьезно настаивает на том, чтобы Англия более не медлила перейти на сторону России и Франции ввиду кризиса, ставящего на карту не только европейское равновесие, но даже свободу Европы. Я поддерживаю настояния Сазонова и, заканчивая дополнительным аргументом, указываю на портрет канцлера Горчакова, украшающий кабинет, в котором мы совещаемся.
– Вот здесь в июле 1870 года, дорогой сэр Джордж, князь Горчаков заявил вашему отцу (сэру Эндрю Бьюкенену, тогдашнему послу в России), который ему указывал на опасность германских честолюбивых замыслов: рост германского могущества не представляет собою ничего, что могло бы беспокоить Россию. Пусть современная Англия не совершает той ошибки, которая так дорого стоила тогдашней России.
– Вы прекрасно знаете, что убеждаете того, кто уже убежден, – говорит Бьюкенен с жестом безнадежности.
С каждым часом волнение в публике возрастает. В прессе сделано сообщение: императорское правительство внимательно следит за развитием австро-сербского конфликта, который не может оставить Россию безучастной.
Почти в то же время Пурталес дает знать Сазонову, что Германия как союзница Австрии поддерживает, само собою разумеется, законные требования Венского кабинета против Сербии.
Со своей стороны Сазонов советует сербскому правительству без промедления просить о посредничестве британского правительства.
В семь часов вечера я отправляюсь на Варшавский вокзал, чтобы проститься с Извольским, который поспешно возвращается к своему посту. На платформах большое оживление. Поезда донельзя нагружены офицерами и солдатами. Это уже пахнет мобилизацией. Мы быстро обмениваемся впечатлениями и делаем одинаковый вывод: на этот раз – это война.
Вернувшись в посольство, я узнаю, что император отдал приказ о подготовке мобилизации в Киевском, Одесском, Казанском и Московском военных округах. Кроме того, Петербург и Москва с их губерниями объявлены на военном положении. Наконец, лагерь в Красном Селе снят и войска с сегодняшнего вечера отосланы обратно на зимние квартиры.
В половине девятого мой военный атташе, генерал де Лагиш, вызван в Красное Село для переговоров с великим князем Николаем Николаевичем и военным министром генералом Сухомлиновым.
Воскресенье, 26 июля
Сегодня днем, когда я отправляюсь к Сазонову, мои впечатления несколько более благоприятны.
Он только что принял моего австро-венгерского коллегу графа Сапари и побудил его «к откровенному и честному объяснению».
Затем он прочел статью за статьей текст ультиматума, переданного в Белград, отмечая недопустимый, нелепый и оскорбительный характер главных статей. После этого он сказал самым дружеским тоном:
– Желание, которое породило этот документ, справедливо, если у вас не было иной цели, как защитить вашу территорию от происков сербских анархистов, но форма не может быть одобрена…
Он с жаром заключил:
– Возьмите назад ваш ультиматум, измените его редакцию, и я гарантирую благоприятный результат.
Сапари, казалось, был тронут, даже почти убежден этими словами; тем не менее он отстаивал точку зрения своего правительства.
Сегодня вечером Сазонов предложит Берхтольду начать непосредственные переговоры между Петербургом и Веной, чтобы условиться об изменениях, которые должны быть внесены в ультиматум.
Я поздравляю Сазонова с тем, что он так удачно вел разговор. Он отвечает:
– Я не откажусь от этой позиции. До последнего момента я буду стремиться к соглашению.
Затем, проводя рукой перед глазами, как если бы страшное видение возникло в его мыслях, он спрашивает меня дрожащим голосом:
– Откровенно, между нами, думаете ли вы, что можно было бы еще спасти дело мира?
– Если бы мы имели дело только с Австрией, у меня оставалась бы надежда… Но есть еще Германия; она обещала своей союзнице большой триумф самолюбия; она убеждена, что мы не осмелимся до конца противиться ей, что Тройственное согласие уступит, как оно уступало всегда. На этот раз мы не можем более уступать, под опасением не существовать более. Нам не избежать войны.
– Ах, мой дорогой посол, ужасно думать о том, что готовится.
Понедельник, 27 июля
В официальных сферах день прошел спокойно: дипломатия методически продолжает свою работу.
Измученный телеграммами и визитами, удрученный тяжелыми мыслями, я отправляюсь перед обедом прокатиться на острова; я схожу с экипажа в тенистой и уединенной аллее, которая проходит вдоль Елагина дворца. Прелестная погода. Мягкий свет льется сквозь густые и блестящие ветви больших дубов. Ни единое дуновение ветра не колеблет листьев, но время от времени в воздухе встают влажные испарения, которые кажутся свежим дыханием растений и вод.
Мои выводы полны пессимизма. Какие бы усилия я ни делал, чтобы их опровергнуть, они неизменно возвращают меня к одному: война. Прошло время комбинаций и дипломатического искусства. В сравнении с отдаленными и глубокими причинами, которые вызвали нынешний кризис, происшествия последних дней ничего не значат. Нет более личной инициативы, не существует более человеческой воли, которая могла бы сопротивляться автоматическому действию выпущенных на свободу сил.
Мы, дипломаты, утратили всякое влияние на события; мы можем только пытаться их предвидеть и настаивать, чтобы наши правительства сообразовали с ними свое поведение.
Судя по агентским телеграммам, кажется, что моральное состояние во Франции – хорошее. Нет ни нервозности, ни безумства; спокойная и сильная уверенность, полная национальная солидарность. И подумать только, что это та же страна, которая вчера еще увлекалась скандалами процесса Кайо и гипнотизировала себя перед клоакой, раскрывавшейся в здании суда.
По всей России общественное мнение раздражено. Сазонов лавирует, и ему еще удается обуздывать прессу. Но все же он принужден давать журналистам немного пищи, чтобы успокоить их внезапный голод, и он поручил сообщить им: «Если угодно, направляйте удары на Австрию, но будьте умеренны по отношению к Германии».
Вторник, 28 июля
В три часа дня я еду в Министерство иностранных дел. Бьюкенен совещается с Сазоновым.
Немецкий посол ожидает своей очереди, чтобы быть принятым. Я смело подхожу к нему:
– Ну что? Решили вы наконец успокоить вашу союзницу? Вы одни в состоянии заставить Австрию слушать благоразумные советы.
Он тотчас же возражает мне отрывистым голосом:
– Но это здесь должны успокоиться и перестать возбуждать Сербию…
– Я убежден, клянусь честью, что русское правительство совершенно спокойно и готово ко всем примирительным решениям. Но не просите у него, чтобы оно допустило уничтожение Сербии. Это значило бы просить у него невозможного.
Он бросает мне сухим тоном:
– Мы не можем покинуть нашу союзницу.
– Позвольте мне, не стесняясь, говорить с вами, мой дорогой коллега. Время достаточно серьезное, и я думаю, что мы достаточно друг друга уважаем, чтобы иметь право объясняться с полной откровенностью… Если через день, через два австро-сербский конфликт не будет улажен, то это – война, всеобщая война, катастрофа, какой мир, может быть, никогда не знал. И это бедствие еще может быть отвращено, потому что русское правительство миролюбиво, потому что британское правительство миролюбиво, потому что ваше правительство называет себя миролюбивым.
При этих словах Пурталес вспыхивает:
– Да, конечно, и я призываю Бога в свидетели: Германия миролюбива. Вот уже сорок три года, как мы охраняем мир Европы. В продолжение сорока трех лет мы считаем долгом чести не злоупотреблять своей силой. И нас сегодня обвиняют в желании возбудить войну… История докажет, что мы вполне правы и что наша совесть ни в чем не может нас упрекнуть.
– Разве мы уже в таком положении, что необходимо взывать к суду истории? Разве нет больше никакой надежды на спасение?
Волнение, которое охватывает Пурталеса, таково, что он не может более говорить. Его руки дрожат, его глаза наполняются слезами. Дрожа от сдерживаемого гнева, он повторяет:
– Мы не можем покинуть и не покинем нашу союзницу… Нет, мы ее не покинем.
В эту минуту английский посол выходит из кабинета Сазонова. Пурталес бросается туда с суровым видом и даже, проходя, не подает руки Бьюкенену.
– В каком он состоянии! – говорит мне сэр Джордж. – Положение еще ухудшилось… Я не сомневаюсь более, что Россия не отступит, она совершенно серьезна. Я умолял Сазонова не соглашаться ни на какую военную меру, которую Германия могла бы истолковать как вызов. Надо предоставить германскому правительству всю ответственность и всю инициативу нападения. Английское общественное мнение не допустит мысли об участии в войне иначе как при условии, чтобы наступление исходило несомненно от Германии… Ради Бога, говорите в том же смысле с Сазоновым.
– Я иначе с ним и не говорю.
В этот момент вдруг входит австрийский посол. Он бледен. Сдержанность, которую он выказывает по отношению к нам, противоположна той гибкой и учтивой приветливости, которая ему привычна.
Бьюкенен и я, мы пытаемся заставить его говорить.
– Получили ли вы из Вены новости получше? Можете ли вы немного нас успокоить?
– Нет, я не знаю ничего нового… Машина катится.
Не желая более объясняться, он повторяет свою апокалиптическую метафору:
– Машина катится.
Понимая, что не стоит упорствовать, я выхожу с Бьюкененом. К тому же я хотел бы увидеть министра только после того, как он примет Пурталеса и Сапари.
Через четверть часа обо мне докладывают Сазонову. Он бледен и дрожит:
– Я вынес очень плохое впечатление, – говорит он, – очень плохое. Теперь ясно, что Австрия отказывается вести переговоры с нами и что Германия втайне ее подстрекает.
– Следовательно, вы ничего не могли добиться от Пурталеса?
– Ничего. Германия не может оставить Австрии. Но разве я требую, чтобы она ее оставила? Я просто прошу помочь мне разрешить кризис мирными способами… Впрочем, Пурталес более не владел собой, он не находил слов, он заикался, у него был испуганный вид. Откуда этот испуг?.. Ни вы, ни я – мы не таковы, мы сохраняем наше хладнокровие, наше самообладание.
– Пурталес сходит с ума потому, что тут действует его личная ответственность. Я боюсь, это он способствовал тому, что его правительство пустилось в эту ужасную авантюру, утверждая, будто Россия не выдержит удара и будто если, паче чаяния, она не уступит, – то Франция изменит русскому союзу. Теперь он видит, в какую пропасть он низверг свою страну.
– Вы уверены в этом?
– Почти… Еще вчера Пурталес уверял нидерландского посланника и бельгийского поверенного в делах, что Россия капитулирует и что это будет триумфом для Тройственного союза. Я знаю это из самого лучшего источника.
Сазонов делает унылый жест и сидит молча. Я возражаю:
– Со стороны Вены и Берлина жребий брошен. Теперь вы должны усиленно думать о Лондоне. Я умоляю вас не предпринимать никакой военной меры на немецком фронте и быть также очень осторожными на австрийском, пока Германия не открыла своей игры. Малейшая неосторожность с вашей стороны будет нам стоить содействия Англии.
– Я тоже так думаю, но наш штаб теряет терпение, и мне приходится с большим трудом его сдерживать.
Эти последние слова меня беспокоят; у меня является одна мысль:
– Как бы ни была серьезна опасность, как бы ни были слабы шансы на спасение, мы должны, вы и я, до пределов возможного пытаться спасти мир. Прошу вас принять во внимание, что я нахожусь в беспримерном для посла положении. Глава государства и глава правительства находятся в море; я могу сноситься с ними только с перерывами и самым ненадежным способом; к тому же, так как они только очень неполно знают положение, они не могут послать мне никаких инструкций. В Париже министерство лишено главы, его сношения с президентом и премьером столь же нерегулярны и недостаточны. Моя ответственность, таким образом, громадна. Поэтому я прошу вас согласиться на все меры, которые Франция и Англия предложат для того, чтобы сохранить мир.
– Но это невозможно!.. Как вы хотите, чтобы я заранее согласился на меры, не зная ни их цели, ни условий?..
– Я уже сказал вам, что мы должны испробовать всё вплоть до невозможного, чтобы отвратить войну. Я настаиваю поэтому на моей просьбе.
После короткого колебания он мне отвечает:
– Ну что же, да, я согласен.
– Я смотрю на ваше обязательство как на официальное и телеграфирую о нем в Париж.
– Вы можете об этом телеграфировать.
– Благодарю, вы снимаете с моей совести большую тяжесть.
Среда, 29 июля
Пролог драмы, мне кажется, приближается к последней сцене.
Вчера вечером правительство Австро-Венгрии отдало приказ об общей мобилизации армии; Венский кабинет, таким образом, отказывается от прямых переговоров, которые ему предлагало русское правительство.
Сегодня днем, около трех часов, Пурталес заявил Сазонову, что если Россия не прекратит немедленно своих военных приготовлений, Германия также мобилизует свою армию. Сазонов ответил ему, что приготовления русского штаба вызваны упорной непримиримостью Венского кабинета и тем фактом, что восемь австро-венгерских корпусов находятся уже в готовности к войне.
В одиннадцать часов вечера Николай Александрович Базили, вице-директор канцелярии Министерства иностранных дел, является ко мне в посольство; он приходит сообщить, что повелительный тон, в котором сегодня днем высказался германский посол, побудил русское правительство, во-первых, приказать сегодня же ночью мобилизацию тринадцати корпусов, назначенных действовать против Австро-Венгрии, и, во-вторых, начать тайно общую мобилизацию.
Последние слова заставляют меня привскочить.
– Разве невозможно ограничиться, хотя бы временно, частичной мобилизацией?
– Нет! Вопрос только что основательно обсуждался в совещании наших самых высоких военачальников. Они признали, что при нынешних обстоятельствах русское правительство не имеет выбора между частичной и общей мобилизацией, так как частичная мобилизация не будет технически исполнима без общей мобилизации. Следовательно, если бы мы сегодня ограничились мобилизацией тринадцати корпусов, назначенных действовать против Австрии, и если бы завтра Германия решила военной силой поддержать свою союзницу, мы оказались бы не в состоянии защитить себя со стороны Польши и Восточной Пруссии… Разве Франция не заинтересована, так же как и мы, в том, чтобы мы могли быстро выступить против Германии?..
– Вы указываете здесь на весьма важные соображения. Тем не менее я считаю, что ваш штаб не должен принимать никаких мер раньше, чем он свяжется с французским штабом. Будьте добры сказать от меня господину Сазонову, что я обращаю самое серьезное внимание его на этот пункт и что я хотел бы получить ответ в течение ночи.
(Точная хронология событий обязывает меня сослаться здесь на документ, который увидел свет только шесть месяцев спустя.)
В этот день 29 июля император Николай, следуя побуждениям своего сердца и не испытывая желания с кем-либо посоветоваться, направил императору Вильгельму телеграмму с предложением передать решение австро-сербского спора на рассмотрение Гаагского трибунала. Если бы кайзер всего лишь принял предложение об арбитраже, то война могла быть самым определенным образом предотвращена; но он даже не ответил на предложение царя.
События затем приняли такое бурное развитие, что Николай II не стал информировать Сазонова о своей личной инициативе, которую, как он считал, он был обязан предпринять.
Четверг, 30 июля
Едва Базили вернулся в Министерство иностранных дел, как Сазонов просит меня по телефону прислать ему моего первого секретаря Шамбрена «для крайне неотложного сообщения». В то же время мой военный атташе генерал де Лагиш вызван в Генеральный штаб. Уже три четверти первого часа ночи.
Император Николай, который вечером получил личную телеграмму от императора Вильгельма, действительно решил отсрочить общую мобилизацию, так как Вильгельм утверждает, что «он старается всеми силами способствовать непосредственному соглашению между Австрией и Россией». Царь принял это решение своею личною властью, несмотря на сопротивление генералов, которые лишний раз представили ему неудобство, даже опасность частичной мобилизации. Итак, я сообщаю в Париж только о мобилизации тринадцати русских корпусов, назначенных действовать против Австрии.
Сегодня утром газеты сообщают, что австро-венгерская армия вчера вечером начала нападение на Сербию бомбардировкой Белграда.
Новость, тотчас же распространившаяся в публике, вызывает сильное волнение. Со всех сторон мне телефонируют, чтобы спросить, не знаю ли я подробностей о событии, решила ли Франция поддержать Россию и т. д. Оживленные группы на улицах. И перед моими окнами на набережной Невы четыре мужика, которые выгружают дрова, прерывают работу, чтобы послушать своего хозяина, который читает им газету. Затем они все пятеро долго разговаривают с серьезными жестами и возмущенными лицами. Рассуждение заканчивается крестным знамением.
В два часа дня Пурталес отправляется в Министерство иностранных дел. Сазонов, который немедленно его принимает, с первых же слов догадывается, что Германия не хочет произнести в Вене сдерживающего слова, которое бы спасло мир.
Поведение Пурталеса слишком красноречиво: он потрясен, потому что замечает теперь последствия непримиримой политики, орудием, если не подстрекателем которой он был; он предвидит неминуемую катастрофу и изнемогает под тяжестью ответственности.
– Ради Бога, – говорит он Сазонову, – сделайте мне какое-нибудь предложение, которое бы я мог передать своему правительству. Это моя последняя надежда.
Сазонов немедленно сочиняет следующую искусную формулу: «Если Австрия, признавая, что австро-сербский вопрос принял общеевропейский характер, объявит себя готовой вычеркнуть из своего ультиматума пункты, которые наносят ущерб Сербии, Россия обязывается прекратить свои военные приготовления».
Удрученный, с мрачным взглядом, заикающийся Пурталес уходит нетвердыми шагами.
Час спустя Сазонова принимают в Петергофском дворце, чтобы тот сделал доклад императору. Он находит монарха расстроенным телеграммой, которую император Вильгельм отправил ему ночью и тон которой звучит угрозой:
«Если Россия мобилизуется против Австро-Венгрии, миссия посредника, которую я принял по твоей настоятельной просьбе, будет чрезвычайно затруднена, если не совсем невозможна. Вся тяжесть решения ложится на твои плечи, которые должны будут нести ответственность за войну или за мир».
Прочитав телеграмму, Сазонов делает жест отчаяния:
– Нам не избежать более войны. Германия явно уклоняется от посредничества, которого мы от нее просим, и хочет только выиграть время, чтобы закончить втайне свои приготовления. При этих условиях я не думаю, чтобы ваше величество могло более откладывать приказ об общей мобилизации.
Очень бледный император с судорогой в горле ему отвечает:
– Подумайте об ответственности, которую вы советуете мне принять! Подумайте о том, что дело идет о посылке тысяч и тысяч людей на смерть!
Сазонов возражает:
– Если война вспыхнет, ни совесть вашего величества, ни моя не смогут ни в чем нас упрекнуть. Вы и ваше правительство сделали всё возможное, чтобы избавить мир от этого ужасного испытания… Но сегодня я убежден, что дипломатия окончила свое дело. Отныне надо думать о безопасности империи. Если ваше величество остановит наши приготовления к мобилизации, то этим удастся только расшатать нашу военную организацию и привести в замешательство наших союзников. Война, невзирая на это, все же вспыхнет в час, желательный для Германии, и застанет нас в полном расстройстве.
После минутного размышления император произносит решительным голосом:
– Сергей Дмитриевич, пойдите телефонируйте начальнику Главного штаба, что я приказываю произвести общую мобилизацию.
Сазонов спускается в вестибюль дворца, где находится телефонная будка, и передает генералу Янушкевичу приказ императора.
Часы показывают ровно четыре часа.
Броненосец «Франция», на котором находится президент и премьер, прибыл вчера в Дюнкерк, уклонившись от посещения Копенгагена и Христиании.
В шесть часов я получаю телеграмму, отправленную из Парижа сегодня утром и подписанную Вивиани. Подтвердив лишний раз мирные намерения французского правительства и возобновив свои советы об осторожности русскому правительству, Вивиани прибавляет: Франция решила исполнить все обязательства союзного договора.
Я отправляюсь объявить об этом Сазонову, который чрезвычайно просто отвечает мне:
– Я был уверен во Франции.
Пятница, 31 июля
Приказ об общей мобилизации опубликован на рассвете.
Во всем городе, как в простонародных частях города, так и в богатых и аристократических, единодушный энтузиазм.
На площади Зимнего дворца, перед Казанским собором раздаются воинственные крики «ура».
Император Николай и император Вильгельм продолжают свой разговор по телеграфу. Царь телеграфировал сегодня утром кайзеру:
«Мне технически невозможно остановить военные приготовления. Но пока переговоры с Австрией не будут прерваны, мои войска воздержатся от всяких наступательных действий. Я даю тебе в этом мое честное слово».
На что император Вильгельм ответил:
«Я дошел до крайних пределов возможного в моем старании сохранить мир. Поэтому не я понесу ответственность за ужасные бедствия, которые угрожают теперь всему цивилизованному миру. Только от Тебя теперь зависит отвратить их. Моя дружба к Тебе и Твоей империи, завещанная мне дедом, всегда для меня священна, и я был верен России, когда она находилась в беде во время последней войны. В настоящее время Ты еще можешь спасти мир Европы, если остановишь военные мероприятия».
Сазонов, по-прежнему желающий привлечь на свою сторону английское общественное мнение и готовый до последней минуты делать всё возможное, чтобы предотвратить войну, принимает, без возражений, некоторые изменения, которые сэр Эдвард Грей просит его внести в предложение, удивившее вчера Берлинский кабинет. Вот новый текст:
«Если Австрия согласится остановить продвижение своих армий на сербской территории и если, признавая, что австро-сербский конфликт принял характер вопроса, имеющего общеевропейское значение, она допустит, чтобы великие державы обсудили удовлетворение, которое Сербия могла бы предложить правительству Австро-Венгрии, не умаляя своих прав суверенного государства и своей независимости, Россия обязуется сохранить выжидательное положение».
В три часа дня германский посол испрашивает аудиенцию у императора, который просит его немедленно приехать в Петергоф.
Принятый самым приветливым образом, Пурталес ограничивается тем, что развивает мысль, изложенную в последней телеграмме кайзера: «Германия всегда была лучшим другом России… Пусть император Николай согласится отменить свои военные мероприятия, и спокойствие мира будет спасено…»
Царь отвечает, указывая на значение средств к примирению, которые предложение Сазонова, дополненное Греем, еще предоставляет для почетного улаживания конфликта.
В одиннадцать часов вечера в Министерстве иностранных дел докладывают о приезде Пурталеса. Принятый тотчас же, он заявляет Сазонову, что, если в течение двенадцати часов Россия не остановит своих мобилизационных мер как на германской, так и на австро-венгерской границе, вся германская армия будет мобилизована.
Затем, глядя на часы, которые показывают двадцать пять минут двенадцатого, он прибавляет:
– Срок окончится завтра в полдень.
Не давая Сазонову времени сделать какое-нибудь замечание, он говорит дрожащим торопливым голосом:
– Согласитесь на демобилизацию!.. Согласитесь на демобилизацию!.. Согласитесь на демобилизацию!..
Сазонов очень спокойно отвечает:
– Я могу только подтвердить вам то, что вам сказал его величество император. Пока будут продолжаться переговоры с Австрией, пока останется хоть один шанс на предотвращение войны, мы не будем нападать. Но нам технически невозможно демобилизоваться, не расстраивая всей военной организации. Это соображение, законность которого не может оспаривать даже ваш штаб.
Пурталес уходит с жестом отчаяния.
Суббота, 1 августа
В течение вчерашнего дня император Вильгельм объявил, что Германия находится в состоянии «угрозы войны». Объявление «угрозы войны» означает немедленный призыв резервистов и закрытие границ. Если это не официальная мобилизация, то во всяком случае это прелюдия к войне и первый шаг к ее началу.
Получив эти новости, царь телеграфировал кайзеру:
«Я понимаю, что ты вынужден мобилизоваться, но я хотел бы иметь от тебя ту же самую гарантию, которую сам дал тебе – что эти меры не означают войны и что мы продолжим наши переговоры, чтобы спасти всеобщий мир, столь дорогой для наших сердец. С Божьей помощью наша продолжительная и испытанная временем дружба будет в состоянии предотвратить кровопролитие. С верой в это я жду от тебя ответа».
Срок, назначенный германским ультиматумом, истекает сегодня в полдень; только в семь часов вечера Пурталес является в Министерство иностранных дел.
Очень красный, с распухшими глазами, задыхающийся от волнения, он торжественно передает Сазонову объявление войны, которое оканчивается следующей театральной и лживой фразой: «Его величество император, мой августейший монарх, от имени империи принимает вызов и считает себя находящимся в состоянии войны с Россией».
Сазонов ему отвечает:
– Вы проводите здесь преступную политику. Проклятие народов падет на вас.
Затем, читая громким голосом объявление войны, он с изумлением видит там, в скобках, два варианта, имеющие, впрочем, очень мало значения. Так, после слов «Россия, отказавшись воздать должное…» написано «не считая нужным ответить…» И далее, после слов «Россия, обнаружив этим отказом…» стоит «этим положением…». Вероятно, эти варианты были указаны из Берлина и по недосмотру или по поспешности переписчика были, как тот, так и другой, вставлены в официальный текст.
Пурталес до такой степени поражен, что не успевает объяснить эту странность формы, которая навечно делает смешным исторический документ, кладущий начало стольким бедствиям. Когда чтение окончено, Сазонов повторяет:
– Вы совершаете здесь преступление!
– Мы защищаем нашу честь!
– Ваша честь не была затронута. Вы могли одним словом предотвратить войну – вы не хотите этого. Во всем, что я пытался сделать с целью спасти мир, я не встретил с вашей стороны ни малейшего содействия. Но существует Божий суд!..
Пурталес отвечает глухим голосом, с растерянным взглядом:
– Это правда… Существует!
Он бормочет еще несколько непонятных слов и, весь дрожа, направляется к окну, которое находится справа от входной двери, против Зимнего дворца. Там он прислоняется к подоконнику и вдруг разражается рыданиями.
Сазонов пытается его успокоить, слегка похлопывая по спине. Пурталес бормочет:
– Вот результат моего пребывания здесь…
Затем внезапно он бросается к двери, которую с трудом отворяет, так дрожат его руки, и выходит, бормоча:
– Прощайте!.. Прощайте!..
Несколько минут спустя я вхожу к Сазонову, который описывает мне всю сцену. Он сообщает мне, сверх того, что Бьюкенен испросил аудиенцию у императора, дабы передать ему личную телеграмму своего монарха. В этой телеграмме король Георг обращается с последним призывом к миролюбию царя и умоляет его продолжать примирительные попытки. Эта просьба бесцельна с тех пор, как Пурталес передал объявление войны. Император тем не менее примет Бьюкенена сегодня вечером в одиннадцать часов.
Воскресенье, 2 августа
Общая мобилизация французской армии. Телеграфный приказ дошел до меня сегодня в два часа ночи.
Итак, жребий брошен… Доля разума, который управляет народами, так мала, что достаточно было недели, чтобы вызвать всеобщее безумие… Я не знаю, как история будет судить дипломатические действия, в которых я участвовал вместе с Сазоновым и Бьюкененом; но мы, все трое, имеем право утверждать, что добросовестно сделали всё зависевшее от нас с целью спасти мир всего мира, не соглашаясь, однако, принести в жертву два других блага, еще более ценных: независимость и честь родины.
В продолжение этой решительной недели работа моего посольства была очень тяжела: ночи были не менее заняты работой, чем дни. Сотрудники были полны рвения и хладнокровия. Я нашел во всех – в моем советнике Дульсе, в моих военных атташе генерале де Лагише и майоре Верлене, в моих секретарях Шамбрене, Жанти, Дюлонге и Робьене – содействие столь же активное и разумное, сколько душевное и усердное.
Сегодня в три часа дня я отправляюсь в Зимний дворец, откуда, согласно обычаю, император должен объявить манифест своему народу. Я единственный иностранец, допущенный к этому торжеству как представитель союзной державы.
Зрелище великолепное. В громадном Георгиевском зале, который идет вдоль набережной Невы, собрано пять или шесть тысяч человек. Весь двор в торжественных одеждах, все офицеры гарнизона в походной форме. Посередине зала помещен алтарь, и туда из храма на Невском проспекте перенесли чудотворную икону Казанской Божьей Матери. В 1812 году фельдмаршал князь Кутузов, отправляясь к армии в Смоленск, долго молился перед этой иконой.
В благоговейной тишине императорский кортеж проходит через зал и становится слева от алтаря. Император приглашает меня занять место около него, желая таким образом, говорит он мне, «засвидетельствовать публично уважение верной союзнице, Франции».
Божественная служба начинается тотчас же, сопровождаемая мощными и патетическими песнопениями православной литургии. Николай II молится с горячим усердием, которое придает его бледному лицу поразительное выражение глубокой набожности. Императрица Александра Федоровна стоит рядом с ним, неподвижно, с высоко поднятой головой, с лиловыми губами, с остановившимся взглядом стеклообразных зрачков; время от времени она закрывает глаза, и ее посиневшее лицо напоминает маску.
После окончания молитв дворцовый священник читает манифест царя народу – простое изложение событий, которые сделали войну неизбежной, красноречивый призыв к национальной энергии, прошение о помощи Всевышнего и т. д. Затем император, приблизясь к алтарю, поднимает правую руку над Евангелием, которое ему подносят. Он так серьезен и сосредоточен, как если бы собирался приобщиться Святых Тайн. Медленным голосом, подчеркивая каждое слово, он заявляет:
– Офицеры моей гвардии, присутствующие здесь, я приветствую в вашем лице всю мою армию и благословляю ее. Я торжественно клянусь, что не заключу мира, пока останется хоть один враг на родной земле.
Громкое «ура» отвечает на это заявление, скопированное с клятвы, которую император Александр I произнес в 1812 году. В течение приблизительно десяти минут во всем зале стоит неистовый шум, который вскоре усиливается криками толпы, собравшейся вдоль Невы.
Внезапно, с обычной стремительностью, великий князь Николай, генералиссимус русских армий, бросается ко мне и целует, почти задушив меня. Тогда энтузиазм усиливается, раздаются крики: «Да здравствует Франция! Да здравствует Франция!»
Сквозь шум, приветствующий меня, я с трудом прокладываю себе путь позади монарха и пробираюсь к выходу.
Наконец я выхожу на площадь Зимнего дворца, где теснится бесчисленная толпа с флагами, знаменами, иконами, портретами царя.
Император появляется на балконе. Мгновенно все опускаются на колени и поют русский гимн. В эту минуту царь для них действительно самодержец, посланный Богом, военный, политический и религиозный вождь своего народа, неограниченный владыка их душ и тел.
В то время как я возвращаюсь в посольство, под впечатлением от этого грандиозного зрелища, я не могу не вспомнить о злополучном дне 9 января 1905 года, когда население Петербурга, предводительствуемое священником Гапоном и предшествуемое, как и сегодня, святыми иконами, собралось перед Зимним дворцом, чтобы умолять своего батюшку-царя, – и тогда в него стреляли.
Понедельник, 3 августа
Министр внутренних дел, Николай Алексеевич Маклаков, утверждает, что мобилизация на всей территории империи происходит с полной правильностью и при сильном подъеме патриотизма.
Я на этот счет не имел никаких опасений, самое большее, чего я опасался, – нескольких местных инцидентов.
Один из моих осведомителей Б., который вращается в прогрессивных кругах, говорит мне:
– В этот момент нечего опасаться ни забастовки, ни беспорядков. Национальный порыв слишком силен… Да и руководители социалистических партий на всех заводах проповедовали покорность военному долгу; к тому же они убеждены, что эта война приведет к торжеству пролетариата.
– Торжество пролетариата… даже в случае победы?..
– Да, потому что война заставит слиться все социальные классы; она приблизит крестьянина к рабочему и студенту; она лишний раз выведет на свет нечестность нашей бюрократии, что заставит правительство считаться с общественным мнением; она введет, наконец, в дворянскую офицерскую касту свободомыслящий и даже демократический элемент, свойственный офицерам запаса.
Этот элемент уже сыграл большую политическую роль во время войны в Маньчжурии… Без него военные мятежи 1905 года не были бы возможны.
– Сначала будем победителями… Потом увидим.
Председатель Думы, Михаил Владимирович Родзянко, также говорит со мной в самом успокоительном тоне, возможном сегодня.
– Война, – говорит он, – внезапно положила конец всем нашим внутренним раздорам. Во всех думских партиях помышляют только о войне с Германией. Русский народ не испытывал подобного патриотического подъема с 1812 года.
Великий князь Николай Николаевич назначен главнокомандующим – временно, так как император предоставляет себе право в более подходящий момент принять личное командование своими войсками.
Это назначение послужило причиною очень оживленных дискуссий в совещании, которое его величество имел со своими министрами. Император хотел немедленно стать во главе войск. Горемыкин, Кривошеин, адмирал Григорович и в особенности Сазонов с почтительной настойчивостью напомнили ему, что он не должен рисковать своим престижем и своей властью, предводительствуя в войне, которая обещает быть очень тяжелой, очень опасной и начало которой очень неопределенно.
– Надо быть готовым к тому, – сказал Сазонов, – что мы будем отступать в течение первых недель. Ваше величество не должно подвергать себя критике, которую это отступление тотчас вызовет в народе и даже в армии.
Император привел в пример своего предка Александра I в 1805 и в 1812 годах. Сазонов основательно возразил:
– Пусть ваше величество соблаговолит перечитать мемуары и переписку того времени. Вы увидите там, как ваш августейший предок был порицаем и осуждаем за то, что принял личное командование действиями. Вы увидите там описание всех бед, которых можно было бы избежать, если б он остался в столице, чтобы пользоваться своей верховной властью.
Император кончил тем, что согласился с этим мнением.
Генерал Сухомлинов, военный министр, который уже давно добивался высокого поста главнокомандующего, взбешен тем, что ему предпочли великого князя Николая Николаевича. И, к несчастью, это человек, который будет за себя мстить…
Вторник, 4 августа
Вчера Германия объявила войну Франции.
Общая мобилизация производится быстро и без малейших эксцессов во всей России. Первоочередные части даже выиграли пять или шесть часов в сравнении с расписанием.
Сазонов, бескорыстие и честность которого я часто раньше имел случай оценить, показал себя в это последнее время в таком виде, который возвышает его еще больше. В нынешнем кризисе он видит не только политическую проблему, которая должна быть решена, но также и, главным образом, проблему моральную, в которой замешана даже религия. Над всей его работой господствуют тайные влечения его совести и его убеждений. Несколько раз он мне говорит:
– Эта политика Австрии и Германии столь же преступна, сколь и бессмысленна: она не заключает в себе ни малейшего элемента нравственности, она оскорбляет все божественные законы.
Сегодня утром, видя его изнемогающим от усталости, с темными кругами под глазами, я спрашиваю у него, как он может переносить такую работу при его слабом здоровье; он мне отвечает:
– Господь поддерживает меня.
Весь день перед посольством проходили шествия, с флагами, иконами, криками «Да здравствует Франция! Да здравствует Франция!».
Толпа очень смешанная: рабочие, священники, крестьяне, студенты, курсистки, прислуга, мелкие чиновники и т. д. Энтузиазм кажется искренним. Но в этих манифестациях, столь многолюдных и появляющихся через такие правильные промежутки времени, какую часть инициативы надо приписать полиции?..
Я ставлю себе этот вопрос сегодня вечером, около десяти часов, когда мне докладывают, что толпа народа бросилась на германское посольство и разграбила его до основания.
Расположенное на главной площади города, между Исаакиевским собором и Мариинским дворцом, германское посольство представляет собою колоссальное здание: массивный фасад из финляндского гранита, тяжелые архитравы, циклопическая каменная кладка. Два громадных бронзовых коня на крыше, которых держат в поводьях гиганты, окончательно подавляют здание. Отвратительное как произведение искусства, строение это очень символично: оно утверждает с грубой и явной выразительностью желание Германии преобладать над Россией.
Чернь наводнила здание, била стекла, срывала обои, протыкала картины, выбросила в окно всю мебель, в том числе мрамор и бронзу эпохи Возрождения, которые составляли прелестную личную коллекцию Пурталеса. А в конце нападавшие сбросили на тротуар конную группу, которая возвышалась над фасадом. Разграбление продолжалось более часу под снисходительными взорами полиции.
Этот акт вандализма, будет ли он иметь также символическое значение? Предвещает ли он падение германского влияния в России?
Мой австрийский коллега Сапари находится еще в Петербурге, не понимая, почему его правительство так мало торопится прервать сношения с русским правительством.
Среда, 5 августа
Петербургская французская колония служит сегодня торжественную мессу во французской церкви Богоматери, чтобы призвать благословение небес на наши войска.
В пять часов утра Бьюкенен телефонировал мне, что получил ночью телеграмму из английского министерства иностранных дел, извещающую его о вступлении Англии в войну. Поэтому я приказываю присоединить к французскому и русскому флагам, украшающим алтарь, и британский флаг.
В церкви я сажусь на мое обычное кресло, в правом проходе.
Бьюкенен почти одновременно приезжает и говорит мне с глубоким чувством:
– Мой союзник… Мой дорогой союзник…
В центре в первом ряду стоят два кресла – одно для Белосельского, генерал-адъютанта его величества, представляющего особу государя императора, другое – для генерала Крупенского, состоящего при великом князе Николае Николаевиче, представителя Верховного главнокомандующего.
В левом проходе собрались все русские министры, а позади них – человек сто должностных лиц, офицеров и проч.
Вся церковь полна народу и благоговейно сосредоточена.
На лице каждого вновь входящего я читаю то же радостное удивление. Вывешенный Union Jack показывает всем, что Англия отныне наша союзница.
Эти флаги трех наций красноречиво гармонируют друг с другом, составленные из одинаковых цветов – синего, белого и красного, – они выражают, поразительным и живописным образом, солидарность трех народов, вступивших в коалицию.
В конце мессы хор поет последовательно:
Domine, salvam fac Respublicam!
Domine, salvam fac Imperatorem Nicolaum!
Domine, salvаm fac Regem Britannicum[1 - Господи, спаси Республику! Господи, спаси императора Николая! Господи, спаси короля Британии! (лат.) – Прим. пер.]!
При выходе из церкви Сазонов говорит, что государь просит меня приехать к нему сегодня же в Петергоф.
Приехав в три часа дня в маленький загородный дворец Александрия, я был немедленно введен в кабинет его величества.
Согласно этикету, я оделся в полную парадную форму. Но церемониал приема упрощен: со мною церемониймейстер, для сопровождения от Петербурга до Петергофа, адъютант, чтобы доложить обо мне, и неизбежный скороход императорского двора в костюме XVIII века.
Кабинет царя, расположенный во втором этаже, освещен широкими окнами, из которых, насколько хватает глаз, открывается вид на Финский залив. Два стола, заваленных бумагами, диван, шесть кожаных кресел, несколько гравюр с военными сюжетами составляют всю обстановку. Император, в походной форме, принимает меня стоя.
– Я хотел, – говорит он мне, – выразить вам всю свою благодарность, всё свое удивление перед вашей страной. Показав себя столь верной союзницей, Франция дала миру незабвенный пример патриотизма и верности.
Передайте, прошу вас, правительству Республики мою самую сердечную благодарность.
Последнюю фразу он произносит проникновенным и слегка дрожащим голосом, изобличающим его волнение. Я отвечаю:
– Правительство Республики будет очень тронуто благодарностью вашего величества. Оно заслужило ее той быстротой и решительностью, с которыми выполнило свой союзнический долг, когда убедилось, что дело мира непоправимым образом погублено. В этот день оно не колебалось ни одного мгновения. И с тех пор я мог передавать вашим министрам лишь слова поддержки уверения в солидарности.
– Я знаю… Впрочем, я всегда верил слову Франции.
Мы говорим затем о завязывающейся борьбе. Император предвидит, что она будет очень жестокой, очень долгой, очень опасной.
– Нам нужно вооружиться мужеством и терпением. Что касается меня, то я буду бороться до самого конца. Для того чтобы достичь победы, я пожертвую всем, вплоть до последнего рубля и солдата. Пока останется хотя один враг на русской земле или на земле Франции – до тех пор я не заключу мира.
Самым простым, самым спокойным и ровным голосом делает он мне это торжественное заявление. Какая-то странная смесь в его голосе и особенно в его взгляде – решимости и кротости, чего-то одновременно непоколебимого и пассивного, смутного и определенного, как будто он выражает не свою личную волю, но повинуется скорее некоей внешней силе, велению Промысла или Рока.
Не будучи, со своей стороны, таким фаталистом, как он, я указываю ему со всей настойчивостью, на которую только способен, какой ужасной опасности должна подвергнуться Франция в первую фазу войны:
– Французской армии придется выдержать ужасающий натиск двадцати пяти германских корпусов. Потому я умоляю ваше величество предписать вашим войскам перейти в немедленное наступление – иначе французская армия рискует быть раздавленной, и тогда вся масса германцев обратится против России.
Он отвечает, подчеркивая каждое слово:
– Как только закончится мобилизация, я дам приказ идти вперед. Мои войска рвутся в бой. Наступление будет вестись со всею возможною силой. Вы ведь, впрочем, знаете, что великий князь Николай Николаевич обладает необычайной энергией.
Император затем расспрашивает меня о разных вопросах военной техники, о наличном составе германской армии, о согласованных планах русского и английского генеральных штабов, о взаимодействии английской армии и флота, о предполагаемой позиции, которую займут Италия и Турция, и т. д. – всё о вопросах, которые, мне кажется, он изучил до тонкости.
Уже целый час длится аудиенция. Вдруг император смолкает. Он как будто в затруднении и смотрит на меня серьезным взглядом в несколько неловкой позе, делая руками нерешительное движение. Потом внезапно заключает меня в объятия, говоря:
– Господин посол, позвольте мне в вашем лице обнять мою дорогую и славную Францию.
Из скромного коттеджа Александрия я отправляюсь в роскошный дворец Знаменка, который находится совсем близко и в котором живет великий князь Николай Николаевич.
Главнокомандующий принимает меня в просторном кабинете, где все столы покрыты разложенными картами. Он идет мне навстречу быстрыми и решительными шагами и, как три дня тому назад в Зимнем дворце, обнимает, почти раздавив мне плечи.
– Господь и Жанна д’Арк с нами! – восклицает он. – Мы победим. Разве не Провидению угодно было, чтобы война разгорелась по такому благородному поводу? И чтобы наши народы отозвались на приказ о мобилизации с таким энтузиазмом? Чтобы обстоятельства так нам благоприятствовали?
Я, как могу лучше, приспособляюсь к этому военному и мистическому красноречию, наивная форма которого не мешает мне чувствовать его бодрость; тем не менее я остерегся бы призывать Жанну д’Арк, потому что теперь дело идет не о том, чтобы изгнать англичан из Франции, но привлечь их туда – и как можно скорее.
Без предисловий я приступаю к вопросу самому важному из всех:
– Через сколько дней, ваше высочество, вы перейдете в наступление?
– Я прикажу наступать, как только эта операция станет выполнимой, и я буду атаковать основательно. Может быть, я даже не буду ждать, когда завершится сосредоточение войск. Как только я почувствую себя достаточно сильным, тут же начну нападение. Это случится, вероятно, 14 августа.
Затем он объясняет мне свой общий план движений: 1) группа, действующая на прусском фронте; 2) группа, действующая на галицийском фронте; 3) масса в Польше, назначенная броситься на Берлин, как только войскам на юге удастся «зацепить» и «зафиксировать» неприятеля.
В то время как он, водя пальцем по карте, излагает мне свои планы, вся его фигура выражает суровую энергию. Его решительные и произносимые с ударением слова, блеск глаз, нервные движения, его строгий, сжатый рот, его гигантский рост олицетворяют величавую и увлекательную смелость, которая была главным качеством великих русских полководцев, Суворова и Скобелева.
В Николае Николаевиче есть что-то грандиозное, что-то вспыльчивое, деспотическое, непримиримое, и оно наследственно связывает его с московскими воеводами XV и XVI веков. И разве не общее у него с ними простодушное благочестие, суеверное легковерие, горячая и сильная жажда жизни? Какова бы ни была ценность этого исторического сближения, я имею право утверждать, что великий князь Николай Николаевич – чрезвычайно благородный человек и что высшее командование русскими армиями не могло быть поручено ни более верным, ни более сильным рукам.
В конце разговора он говорит мне:
– Будьте добры передать генералу Жоффру самое горячее приветствие и уверение в моей полной вере в победу. Скажите ему также, что я прикажу рядом с моим значком главнокомандующего носить значок, который он мне подарил два года назад, когда я присутствовал на маневрах во Франции.
После этого, с силой пожимая мне руки, он проводил меня до двери:
– А теперь, – воскликнул он, – на милость Божью…
В половине шестого я вновь занял место в императорском поезде, который доставил меня обратно в Петербург.
В этот же вечер немецкая армия вступила на территорию Бельгии.
Четверг, 6 августа
Мой австро-венгерский коллега Сапари передает сегодня утром Сазонову объявление войны. Декларация указывает на две причины: 1) положение, занятое русским правительством в австро-сербском конфликте; 2) тот факт, что, согласно сообщению Берлинского кабинета, Россия сочла себя вынужденной начать неприятельские действия по отношению к Германии.
Немцы проникают в Западную Польшу. Третьего дня они заняли Калиш, Ченстохов и Бендин. Это быстрое продвижение вперед показывает, насколько русский Генеральный штаб был прав в 1910 году, когда он отодвинул на сотню километров к востоку свои пограничные гарнизоны и свою зону сосредоточения – мера, которая вызывала такую оживленную критику во Франции.
В полдень я еду в Царское Село, где буду завтракать у великого князя Павла Александровича и его морганатической супруги графини Гогенфельзен, с которой я поддерживаю в течение многих лет дружеские отношения.
В течение всей поездки мой автомобиль догонял и затем проезжал мимо пехотных полков, находившихся на марше с полным полевым снаряжением. За каждым полком нескончаемой вереницей следовали транспортные средства, фургоны с боеприпасами, багажные повозки, грузовые средства передвижения армейских технических служб, санитарные повозки, военно-полевые кухни, телеги, линейки, крестьянские повозки и т. п. Транспортные средства следовали одно за другим в полнейшем беспорядке; иногда они съезжали с колеи и пересекали поля, натыкаясь друг на друга и создавая такую красочную неразбериху, что напоминали нашествие азиатской орды. Пехотинцы выглядели прекрасно, хотя их походу мешали дожди и дорожная грязь. Большое число женщин присоединилось к армейской колонне, чтобы сопроводить мужей до первого привала и там в последний раз попрощаться с ними. Некоторые женщины несли на руках своих детей. Вид одной из них весьма тронул меня. Она была очень молодой, с нежным лицом и красивой шеей. Красно-белый головной платок был повязан на ее светлых волосах, а кожаный пояс стягивал на ее талии сарафан из синей хлопчатобумажной ткани. К груди она прижимала младенца. По мере своих сил она старалась не отставать от шагавшего в конце колонны солдата, красивого парня с загорелым лицом и с развитой мускулатурой тела. Они ничего не говорили, но шли, не спуская друг с друга любящих, полных душевного мучения глаз. Я видел, как трижды подряд молодая мать протягивала солдату младенца для поцелуя.
Великий князь Павел Александрович и графиня Гогенфельзен пригласили кроме меня только Михаила Стаховича, члена Государственного совета по выборам от орловского земства, одного из русских, наиболее пропитанных французскими идеями. Я нахожусь в атмосфере искренней и теплой симпатии.
Когда я вхожу, все трое приветствуют меня возгласом: «Да здравствует Франция!» С прямотою и простотою, ему присущими, великий князь выражает мне восхищение единодушным порывом, который заставил французский народ лететь на помощь своей союзнице:
– Я знаю, что ваше правительство не колебалось ни одной минуты, чтобы поддержать, когда Германия принудила нас защищаться. И это прекрасно… Но что весь народ мгновенно понял свой долг союзника, что ни в одном классе общества, ни в одной политической партии не было ни малейшей слабости, ни малейшего протеста, – вот что необыкновенно, вот что величественно…
Стахович подхватывает:
– Да, величественно… Но современная Франция лишь продолжает свою историческую традицию: она всегда была страной великих дел.
Я соглашаюсь, подчеркивая:
– Это правда. Французский народ, который столько раз обвиняли в скептицизме и в легкомыслии, это, несомненно, тот народ, который чаще всего бросался в борьбу по бескорыстным мотивам, который чаще всего жертвовал собою ради идеи.
Затем я рассказываю моим хозяевам о длинном ряде событий, которые наполнили собою последние две недели.
Они, со своей стороны, передают мне большое число эпизодов, которые указывают на единение всех русских в желании спасти Сербию и победить Германию.
– Никто, – говорит Стахович, – никто в России не согласился бы, чтоб мы позволили раздавить маленький сербский народ.
Тогда я спрашиваю у него, что думают о войне члены крайней правых партий в Государственном совете и в Государственной думе, этой влиятельной и многочисленной партии, которая устами князя Мещерского, Щегловитова, барона Розена, Пуришкевича, Маркова всегда проповедовала союз с германским императором. Он уверяет меня, что эта доктрина, поддерживавшаяся главным образом расчетами внутренней политики, радикальным образом разрушена нападением на Сербию, и заключает:
– Война, которая теперь начинается, это смертельная дуэль между славянством и германизмом. Нет такого русского, который бы этого не сознавал.
Когда мы встаем из-за стола, я только даю себе время выкурить папиросу и быстро возвращаюсь в Петербург.
Неподалеку от Пулково я проезжаю мимо гвардейского стрелкового полка, следующего к границе. Командир полка, генерал, опознал автомашину французского посла, увидев ливрею моего слуги. Генерал посылает ко мне одного из своих офицеров с просьбой выйти из машины, чтобы солдаты полка смогли пройти мимо меня парадным строем. Я выхожу из авто и иду к генералу, который наклоняется с коня, чтобы обнять меня.
Звучит резкий сигнал команды, и полк останавливается. Ряды смыкаются, солдаты приводят себя в порядок, и во главу колонны выходит военный оркестр. Пока идет эта подготовка к параду, генерал, обращаясь ко мне, с жаром выкрикивает:
– Мы уничтожим этих грязных пруссаков!.. Пруссия не должна более существовать, Германии конец!.. Вильгельма на остров Святой Елены!
Парадный марш начался. Проходившие мимо меня с гордым видом солдаты отличались отменным здоровьем. Как только появлялась очередная рота, генерал приподнимался на стременах и отдавал приказ: «Послу Франции! Ура!»
Солдаты отвечали во все горла: «Урра! Урра!»
Когда прошел последний ряд солдат, генерал, наклонившись с коня, чтобы вновь обнять меня, произносит серьезным тоном:
– Я очень рад видеть вас, господин посол. Все мои солдаты, как и я, склонны думать, что встреча с Францией на первом же этапе нашего участия в войне является хорошим предзнаменованием.
После этих слов он галопом помчался, чтобы занять свое место во главе колонны. В то время как я садился в автомашину, он продолжал выкрикивать свой воинственный призыв: «Вильгельма на остров Святой Елены! Вильгельма на остров Святой Елены!..»
В четыре часа я веду длинный разговор со своим итальянским коллегой, маркизом Карлотти де Рипарбелла; я стараюсь доказать ему, что современный кризис представляет для его страны неожиданный случай осуществить ее национальные стремления.
– Какова бы ни была, – говорю я, – моя личная уверенность, я не имею самонадеянности гарантировать вам, что войска и флоты Тройственного союза будут победоносны. Но что я имею право вам утверждать, особенно после моего вчерашнего разговора с императором, – это желание, которое воодушевляет три державы, неукротимое желание раздавить Германию. Все три единодушны в решении положить конец германской тирании. Если проблема так поставлена, то оцените сами, на чьей стороне шансы на успех, и сделайте выводы.
Мы вместе выходим, и я отправляюсь в Министерство иностранных дел, где мне нужно выяснить многочисленные вопросы: о блокаде, о возвращении французов на родину, о телеграфных сношениях, о прессе, о полиции и т. д., не считая дипломатических вопросов.
Сазонов сообщает мне, что он пригласил румынского посланника Диаманди, чтобы просить у него немедленной помощи румынской армии против Австрии. Взамен он предлагает признать за Бухарестским кабинетом право присоединить все австро-венгерские земли, населенные теперь румынами, то есть большую часть Трансильвании и южную часть Буковины; кроме того, державы Антанты гарантируют Румынии неприкосновенность ее территории.
Сазонов также телеграфировал русскому посланнику в Софии просьбу добиться доброжелательного нейтралитета Болгарии взамен обещания нескольких округов в том случае, если Сербия приобретет прямой доступ к Адриатическому морю.
Пятница, 7 августа
Вчера германцы вошли в Льеж, несколько фортов еще сопротивляются.
Сазонов предлагает французскому и британскому правительствам безотлагательно договориться в Токио о присоединении Японии к нашей коалиции: союзные державы признали бы за японским правительством право присоединить германскую территорию в Цзяо-Чжоу, а Россия и Япония гарантировали бы друг другу неприкосновенность их азиатских владений.
Сегодня вечером я обедаю в Яхт-клубе на Морской. В этой среде, в высшей степени консервативной, я нахожу подтверждение того, что Стахович говорил мне вчера о настроениях крайней правых по отношению к Германии. Те, кто еще на прошлой неделе энергично утверждали необходимость усилить православную монархию тесным союзом с прусским самовластием, теперь признают невыносимым оскорбление, нанесенное всему славянскому миру бомбардировкой Белграда, и оказываются среди самых воинствующих. Остальные молчат или замечают, что Германия и Австрия нанесли смертельный удар монархическому принципу в Европе.
Перед возвращением в посольство я иду в Министерство иностранных дел, где Сазонов хочет со мной говорить.
– Я обеспокоен, – говорит он мне, – новостями, которые получаю из Константинополя. Я очень боюсь, как бы Германия и Австрия не устроили там какой-нибудь проделки, по их обычаю.
– Чего же, например?
– Я боюсь, что австро-венгерский флот собирается укрыться в Мраморном море. Вы сами можете предвидеть последствия…
Суббота, 8 августа
Французская армия вступила вчера в Бельгию, устремившись на помощь бельгийской армии. Будет ли еще раз решаться судьба Франции между Самброй и Маасом?
Сегодня – заседание Государственного совета и Думы.
Второго августа император объявил о своем намерении созвать чрезвычайную сессию Законодательного собрания, «чтобы быть в полном единении с нашим народом». Этот созыв, который показался бы вполне естественным и необходимым в какой угодно другой стране, был истолкован здесь как обнаружение «конституционализма». В либеральных кругах за это благодарны, особенно императору, потому что известно: председатель Совета Горемыкин, министр внутренних дел Маклаков, министр юстиции Щегловитов и обер-прокурор Святейшего синода Саблер смотрят на Государственную думу как на самый низкий, не стоящий внимания государственный орган.
Я вместе с сэром Джорджем Бьюкененом занимаю место в первом ряду дипломатической ложи.
Взволнованная речь председателя Думы Родзянко открывает заседание. Его высокопарное и звонкое красноречие возбуждает энтузиазм собрания.
Затем нетвердыми шагами входит на трибуну старый Горемыкин, с трудом управляя звуками слабого голоса, который моментами прерывается, как если бы он умирал. Горемыкин излагает, что «Россия не хотела войны», что императорское правительство испробовало всё, чтобы сохранить мир, «цепляясь за малейшую надежду предотвратить потоки крови, которые грозили затопить Европу»; он заключает, что Россия не могла отступить перед вызовом, который ей бросили германские державы; «к тому же, если бы мы уступили, наше унижение не изменило бы хода событий». При произнесении этих последних слов его голос становится немного тверже, а угасший взгляд оживляется вспышкой пламени. Кажется, что этот старик, скептический, утомленный трудами, почестями и опытом, испытывает насмешливую радость, когда при этих торжественных обстоятельствах выказывает свой разочарованный фатализм.
Сазонов сменяет его на трибуне. Он бледный и нервный. С самого начала он облегчает свою совесть: «Когда для истории наступит день произнесения беспристрастного приговора, я убежден, что она нас оправдает…» Он энергично напоминает, что «не политика России подвергла опасности общий мир» и что, если бы Германия этого захотела, она могла бы «одним словом, одним-единственным повелительным словом» остановить Австрию на ее воинствующем пути. Затем он горячо восхваляет «великодушную Францию, рыцарскую Францию, которая вместе с нами поднялась на защиту права и справедливости». При этой фразе все депутаты встают и, повернувшись ко мне, долго приветствуют Францию радостными криками.
Тем не менее я замечаю, что приветствия не особенно поддерживаются на скамьях левой стороны: либеральные партии никогда не могли нам простить, что мы продлили существование царизма с помощью финансовых субсидий. Аплодисменты снова раздаются, когда Сазонов заявляет, что Англия также признала моральную невозможность оставаться безучастной к насилию, совершенному над Сербией. Заключение его речи правильно передает идею, которая все эти последние недели господствовала над всеми нашими мыслями и поступками: «Мы не хотим установления ига Германии и ее союзницы в Европе». Он спускается с трибуны под гром приветствий.
После перерыва в заседании глава каждой партии заявляет о своем патриотизме и выражает готовность ко всем жертвам, чтобы избавить Россию и славянские народы от германского главенства. Когда председатель подвергает голосованию военные кредиты, испрашиваемые правительством, социалистическая партия объявляет, что она воздерживается от голосования, не желая принимать на себя никакой ответственности за политику царизма; тем не менее она убеждает русскую демократию защищать родную землю от иностранного нападения: «Рабочие и крестьяне, соберите все ваши силы для защиты нашей страны; затем мы ее освободим…» За исключением воздержавшихся от голосования социалистов военные кредиты приняты единогласно.
Когда я уезжаю с Бьюкененом из Таврического дворца, наши экипажи с трудом пролагают себе дорогу среди толпы, которая окружает и приветствует нас.
Впечатление, которое я вынес из этого заседания, удовлетворительно. Русский народ, который не хотел войны, который был даже застигнут войной врасплох, твердо решил принять ее бремя. С другой стороны, правительство и руководящие классы сознают, что судьба России отныне связана с судьбами Франции и Англии. Этот второй пункт не менее важен, чем первый.
Воскресенье, 9 августа
Вчера французские войска вошли в Мюльхаузен.
Великий князь Николай Николаевич, который еще не перенес своей Главной квартиры на фронт, посылает своего начальника штаба генерала Янушкевича с поручением сообщить мне, что мобилизация оканчивается при самых лучших условиях и что перевозка и сосредоточение войск совершаются пунктуально. Он прибавляет, что так как правительство вполне уверено в сохранении порядка в Петербурге, то войска из столицы и пригородов отправляются теперь же к границе.
Мы говорим затем о подготовляющихся военных операциях. Генерал Янушкевич утверждает: 1) виленская армия начнет наступление на Кенигсберг, 2) варшавская армия будет немедленно переброшена на левый берег Вислы, дабы прикрывать с фланга виленскую армию, 3) общее наступление начнется 14 августа.
В половине седьмого я уезжаю на автомобиле в Царское Село, где обедаю у великой княгини Марии Павловны.
Великая княгиня окружена старшим сыном и невесткой, великим князем Кириллом Владимировичем и великой княгиней Викторией Федоровной, зятем и своей дочерью, принцем Николаем Греческим и великой княгиней Еленой Владимировной, а также фрейлинами и приближенными.
Стол накрыт в саду в палатке, три стороны которой подняты. Воздух чист и прозрачен. Кусты роз благоухают. Солнце, которое, несмотря на поздний час, еще высоко стоит на небосклоне, разливает вокруг нас мягкий свет и прозрачные тени.
Идет общий разговор, непринужденный и оживленный; само собою разумеется, что его единственная тема – война. Но каждую минуту вновь выплывает один и тот же вопрос: распределение главных командных должностей и составление штабов; критикуют уже известные назначения; стараются угадать назначения, относительно которых император еще не принял решения. Все соперничества двора и салонов выдают себя в словах, которыми обмениваются здесь. Иногда мне кажется, что я переживаю главу из «Войны и мира» Толстого.
Когда обед окончен, великая княгиня Мария Павловна уводит меня в глубину сада, затем усаживает рядом с собой на скамейку.
– Теперь, – говорит она мне, – будем беседовать вполне свободно… У меня такое чувство, что император и Россия играют решительную партию. Это не политическая война, которых столько уже было; это дуэль славянства и германизма; надо, чтобы одно из двух пало… Я эти последние дни видела многих лиц, мои походные госпитали и санитарные поезда поставили меня в соприкосновение с людьми разной среды, разных классов. Я могу вас уверить, что никто не строит иллюзий относительно опасности начинающейся борьбы. Так от императора до последнего мужика все решили героически исполнить свой долг, никакая жертва не заставит отступить… Если, не дай Бог, наши первые шаги будут неудачны, вы увидите чудеса 1812 года.
– Действительно, возможно, что наши первые шаги будут очень трудны. Мы должны всё предвидеть, даже несчастье. Но России нужно только продержаться.
– Она продержится. Не сомневайтесь в этом!..
Чтобы заставить великую княгиню высказаться относительно более деликатной темы, я поздравляю ее с бодрым настроением, которое она мне высказывает, – я предполагаю, что ее душевная твердость дается ей не без жестоких внутренних терзаний.
Она отвечает мне:
– Я счастлива исповедаться в этом перед вами… Я эти дни несколько раз исследовала свою совесть; я смотрела в самую глубину себя самой. Ни в сердце, ни в уме я не нашла ничего, что бы не было совершенно преданно моей русской родине. И я благодарила за это Бога… Не потому ли, что первые жители Мекленбурга и их первые государи, мои предки, были славяне? Это возможно. Но скорее я предположила бы, что сорок лет моего пребывания в России, всё счастье, которое я здесь знала, все мечты, которые я здесь строила, вся любовь и доброта, которые мне здесь выказывали, – они сделали мою душу совсем русской. Я чувствую себя снова уроженкой Мекленбурга только в одном пункте – в моей ненависти к императору Вильгельму. Он олицетворяет всё, что я научилась с детства особенно ненавидеть, – тиранию Гогенцоллернов… Да, это они, Гогенцоллерны, так развратили, деморализовали, опозорили, унизили Германию, это они понемногу уничтожили в ней начала идеализма, великодушия, кротости и милосердия…
Она изливает свой гнев в длинной речи, которая обличает застарелую злобу, глухое и упорное отвращение, которые маленькие германские государства, в былое время независимые, питают к деспотической Пруссии.
Около десяти часов я прощаюсь с великой княгиней, так как в посольстве меня ждет тяжелая работа.
Ночь светлая и теплая; бледная луна кидает тут и там на громадную и однообразную равнину серебряные ленты… На западе, по направлению к Финскому заливу, горизонт покрывается туманом медного цвета.
Когда я возвращаюсь в половине двенадцатого, мне приносят связку телеграмм, полученных вечером.
Только около двух часов ночи я ложусь в постель.
Чувствуя себя слишком уставшим, чтобы заснуть, я взял книгу, одну из тех немногих книг, которую можно раскрыть в этот час всеобщего смятения и исторического потрясения, – Библию. Я вновь стал читать «Откровение», остановившись на следующем отрывке: «И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч… И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть; и ад следовал за ним; дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Сегодня это люди, которые играют роль «зверей земных».
Понедельник, 10 августа
Сазонов торопит итальянское правительство присоединиться к нашему союзу. Он предлагает ему соглашение на следующих условиях: 1) итальянская армия и флот немедленно нападут на армию и флот Австро-Венгрии; 2) после войны область Трент, а также гавани Триеста и Валлоны будут присоединены к Италии.
Со стороны Софии впечатления отнюдь не успокоительны. Царь Фердинанд способен на все мерзости и любое вероломство, когда затронуты его тщеславие и его злоба.
Я знаю три страны, по отношению к которым он питает непримиримое желание мести: Сербия, Румыния и Россия. Я говорю об этом с Сазоновым, он прерывает меня:
– Как?.. Царь Фердинанд сердится на Россию… Почему?
– Прежде всего, он обвиняет русское правительство в том, что оно стало на сторону Сербии и даже Румынии в 1913 году. Затем, есть старые обиды, и они бесчисленны…
– Но какие обиды?.. Мы всегда выказывали ему благосклонность. А когда он приезжал сюда в 1910 году, император обходился с ним с таким почтением, с таким вниманием, как если бы он был монархом большого государства. Что же мы могли еще сделать?
– Это путешествие 1910 года есть именно одна из обид, наиболее для него мучительная… На следующий день после его возвращения в Софию он пригласил меня во дворец и сказал: «Дорогой посол, я просил вас прийти ко мне, потому что мне необходимы ваши знания, чтобы разобраться во впечатлениях, привезенных из Петербурга. Мне не удалось, по правде говоря, понять, кого там больше ненавидят: мой народ, мое дело или меня самого».
– Но это безумие…
– Это выражение не слишком сильно… Несомненно, у этого человека есть признаки нервного вырождения и отсутствует психическое равновесие, зато есть способность поддаваться внушению, навязчивые идеи, меланхолия, мания преследования. От этого он только более опасен, потому что он подчиняет своему честолюбию и злобе необыкновенную ловкость, редкое коварство и хитрость.
– Я не знаю, что бы осталось от его ловкости, если бы у нее отняли коварство… Как бы то ни было, мы не можем быть слишком внимательными к действиям Фердинанда. Я счел нужным его предупредить, что если он будет интриговать с Австрией против Сербии, Россия окончательно лишит болгарский народ своей дружбы. Наш посланник в Софии, Савинский, очень умный человек, он исполнит поручение с надлежащим тактом.
– Этого недостаточно. Есть другие аргументы, к которым клика болгарских политиков очень чувствительна; нам следует прибегнуть к ним без промедления.
– Это также и мое мнение. Мы еще об этом поговорим.
Война, по-видимому, возбудила во всем русском народе удивительный порыв патриотизма.
Сведения, как официальные, так и частные, которые доходят до меня со всей России, одинаковы. В Москве, Ярославле, Казани, Симбирске, Туле, Киеве, Харькове, Одессе, Ростове, Самаре, Тифлисе, Оренбурге, Томске, Иркутске – везде одни и те же народные восклицания, одинаково сильное и благоговейное усердие, одно и то же единение вокруг царя, одинаковая вера в победу, одинаковое возбуждение национального сознания. Никакого противоречия, никакого разномыслия. Тяжелые дни 1905 года кажутся вычеркнутыми из памяти. Собирательная душа Святой Руси не выражалась с такой силой с 1812 года.
Вторник, 11 августа
Французские войска, которые с таким прекрасным порывом заняли Мюльхаузен, вынуждены уйти оттуда.
Вражда к немцам продолжает высказываться по всей России с силой и настойчивостью. Первенство, которое Германия завоевала во всех экономических областях русской жизни и которое чаще всего равнялось монополии, слишком оправдывает эту грубую реакцию национального чувства. Трудно точным образом определить число немецких подданных, живущих в России, но отнюдь не было бы преувеличенным определить его в 170 000 рядом с 120 000 австро-венгров, 10 000 французов и 8000 англичан. Список ввозимых товаров не менее красноречив. В течение последнего года товары, привезенные из Германии, стоили 643 миллиона рублей, в то время как английских товаров было ввезено на 170 миллионов, французских товаров – на 56 миллионов, а австро-венгерских – на 35 миллионов.
Среди элементов германского влияния в России надо учесть еще немецких колонистов, говорящих на немецком языке, хранящих немецкие традиции, – их насчитывают не менее 2 миллионов человек, живущих в балтийских провинциях, на Украине и в нижнем течении Волги.
Наконец – и прежде всего – прибалтийские бароны, которые постепенно захватили плацдармы в сфере назначений на все высокопоставленные должности при императорском дворе и на лучшие посты в армии и на административной и дипломатической службах. В течение ста пятидесяти лет феодальные касты балтийских провинций снабжали царизм наиболее преданными и реакционными слугами. Именно балтийская знать обеспечила триумф самодержавного абсолютизма, разгромив декабрьское восстание 1825 года. Именно балтийская знать всегда направляла деятельность репрессивных сил всякий раз, когда либеральный или революционный дух пробуждался от спячки. Именно балтийская знать, более чем что-либо еще, способствовала тому, чтобы превратить русское государство в огромный полицейский бюрократический аппарат, в котором механизм татарского деспотизма и методы прусского деспотизма слились в одно странное целое. Именно балтийская знать является основным стержнем структуры режима.
Для того чтобы понять всё отвращение, которое истинные русские испытывают к «балтийским баронам», мне достаточно выслушать речь Е., шефа протокольного отдела императорского двора, с которым я поддерживаю отношения, основанные на взаимном доверии, и чей бескомпромиссный национализм меня забавляет. Вчера он, посетив меня, чтобы решить некоторые наши повседневные служебные проблемы, с большей, чем обычно, страстью поносил немцев, заполонивших императорский двор, – министра императорского двора графа Фредерикса, главного церемониймейстера барона Корфа, главного конюшего генерала фон Грюневальдта, гофмаршала графа Бенкендорфа и всех этих Мейендорфов, Будбергов, Гейденов, Штакельбергов, Ниеротов, Кноррингов, Коцебу и т. д., которые толпятся в императорских дворцах. Придавая своим словам большую выразительность с помощью эмоциональной жестикуляции, он закончил свою тираду следующим обещанием:
– После войны мы свернем шеи балтийским баронам.
– Но когда вы свернете и им шеи, будете ли вы полностью уверены, что не станете сожалеть об этом?
– Что вы имеете в виду?.. Вы действительно думаете, что русские не в состоянии управлять собой?
– Я уверен, что русские вполне в состоянии управлять собой… Но опасно устранять анкерную балку в строительном сооружении без того, чтобы не иметь в запасе другую, для замены.
Среда, 12 августа
В то время как военные силы мобилизуются, все общественные организации примериваются к войне. Как всегда, сигнал дан Москвой, которая является настоящим центром народной жизни и в которой дух инициативы более возбужден и более изощрен, чем где бы то ни было в другом месте.
Там собирается съезд всех земств и всех русских городов (так называемый Земгор), чтобы согласовать многочисленные усилия общественной деятельности ввиду войны: помощь раненым, пособия неимущим классам, съестные припасы, лекарства, одежда и т. п. Основная мысль – прийти на помощь правительству в исполнении этих задач, которые бюрократия, слишком ленивая и продажная, слишком чуждая потребностям народа, неспособна выполнить одна. Только бы не стали чиновники препятствовать – по недоверию и по старой привычке – этому прекрасному побуждению к добровольной организации.
Каждый день на Невском проспекте, на Литейном и на Садовой я проезжаю мимо полков, направляющихся к Варшавскому вокзалу. Эти пышущие крепким здоровьем и снабженные всем необходимым солдаты производят на меня отличное впечатление своим серьезным, решительным выражением лица и твердой походкой. Когда я смотрю на них, меня одолевает мысль о том, что большинство из них уже помечено знаком смерти. Но каковы будут чувства тех, кто вернется? С какими убеждениями и требованиями, с каким новым душевным настроем и с какой новой душой они вернутся наконец к своим родным очагам?
Каждая большая война приносила русскому народу и его стране глубокий внутренний кризис. Отечественная война 1812 года подготовила ту подспудную работу по созданию освободительного движения, которое почти смело царизм в декабре 1825 года. Неудачная Крымская война привела к отмене крепостного права и вызвала необходимость великих реформ 1860-х годов. После Балканской войны 1877–1878 годов с ее победами, доставшимися дорогой ценой, последовал взрыв терроризма нигилистов. Обреченная на провал Маньчжурская война закончилась революционными выступлениями 1905 года. Что последует за нынешней войной?
Русская нация настолько неоднородна в этническом и нравственном отношении; она сформирована из настолько несовместимых и анахроничных элементов, она всегда развивалась в таком полном пренебрежении к логике, в такой путанице конфликтов, потрясений и противоречий, что ее историческая эволюция совершенно не поддается предсказанию.
Сегодня вечером я обедаю с госпожой П. и с графиней Р., мужья которых уехали в армию, а сами они готовятся ехать в качестве сестер Красного Креста в походный госпиталь на передовую линию галицийского фронта. На основании многочисленных писем, которые они получили из провинции и из деревни, они подтверждают, что мобилизация совершилась везде в животворной атмосфере национальной веры и героизма.
Мы говорим об ужасных испытаниях, на которые новые условия войны обрекают сражающихся; никогда еще человеческие нервы не подвергались подобному напряжению.
Госпожа П. говорит мне:
– В этом отношении я отвечаю вам за русского солдата. Он не имеет себе равных в том, что касается невозмутимости перед лицом смерти.
Однако графиня Р., у которой всегда такой живой ум и быстрая речь, остается молчаливой. Склонившись к краю своего кресла, охватив руками колени, нахмурив брови, она погружена в тяжелые думы.
Госпожа П. спрашивает ее:
– О чем ты задумалась, Дарья? У тебя вид сивиллы у треножника. Или ты будешь пророчествовать?
– Нет, я не думаю о будущем; я думаю о прошедшем или, вернее, о том, что могло бы быть. Скажите ваше мнение, господин посол… Вчера я была с визитом у госпожи Танеевой, вы знаете – это мать Анны Вырубовой. Там было пять или шесть человек, весь цвет распутинок. Там спорили очень серьезно, с очень разгоряченными лицами… Настоящий синод… Мое появление вызвало некоторую холодность, потому что я не принадлежу к этой стае, о нет! Совсем нет!.. После несколько стесненного молчания Анна Вырубова возобновила разговор. Решительным тоном и как бы давая мне урок, она утверждала, что, конечно, война бы не вспыхнула, если б Распутин находился в Петербурге, а не лежал больным в Покровском, когда наши отношения с Германией начали портиться[2 - 29 июня 1914 года Распутина, который только что приехал в Покровское, в свою родную деревню, ударила ножом в живот петербургская проститутка Хиония Гусева, бывшая его любовница. В течение двух недель Распутин находился на грани жизни и смерти. Его выздоровление заняло много времени. Царица ежедневно направляла ему телеграммы. Хионию Гусеву отправили в больницу для душевнобольных. Когда она ударила Распутина ножом, она воскликнула: «Я убила Антихриста!» Будучи довольно привлекательной женщиной двадцати шести лет, она являла собой наиболее характерный типаж русской проститутки, объединяя в себе истеричку, алкоголичку и мистически настроенную женщину. Ее легко представить в роли героини одного из романов Толстого или Достоевского. – Прим. авт.]. Она несколько раз повторила: «Если бы старец был здесь, у нас не было бы войны; не знаю, что бы он сделал, что бы он посоветовал, но Господь вдохновил бы его, а так министры не сумели ничего предвидеть, ничему помешать. Ах!.. Это большое несчастье, что его не было вблизи от нас, чтобы научить императора». Только посмотрите, от чего зависит судьба империй. Шлюха в силу личных мотивов мстит грязному мужику, и царь всея Руси сразу теряет голову. И вот, пожалуйста, весь мир охвачен огнем!
Госпожа П. раздраженно прервала ее:
– Дарья, вы не должны, даже в шутку, говорить подобное в присутствии посла. Сама мысль о том, что о таких вещах говорят в окружении их величеств, приводит меня в ужас!
Графиня Р., вновь приняв серьезное выражение лица, продолжала:
– Хорошо! Не буду шутить. Но я очень бы хотела знать ваше мнение, господин посол: думаете ли вы, что война была неизбежна и что никакие личные влияния не могли ее отвратить?
Я отвечаю:
– Учитывая, как поставила проблему Германия, война была неизбежна. В Петербурге, так же как в Париже и в Лондоне, сделали всё возможное, чтобы спасти мир. Нельзя было идти дальше по пути уступок: иначе пришлось бы только унизиться перед германскими государствами и капитулировать. Может быть, Распутин и посоветовал бы это императору.
– Будьте в этом уверены! – бросает мне госпожа П. с негодующим взглядом.
Четверг, 13 августа
Великий князь Николай Николаевич известил меня, что виленская и варшавская армии начнут наступление завтра утром, на рассвете; войска, назначенные действовать против Австрии, также вскоре последуют их примеру.
Великий князь покидает Петербург сегодня вечером. Он увозит с собой моего первого военного атташе генерала де Лагиша и английского военного атташе генерала Уильямса. Главная квартира находится в Барановичах между Минском и Брест-Литовском. Я сохраняю около себя моего второго военного атташе, майора Верлена, и морского атташе, капитана 2-го ранга Галланда.
Румынское правительство отклонило предложение русского правительства, ссылаясь на отношения старой близкой дружбы, которые связывают короля Кароля и императора Франца Иосифа; тем не менее оно принимает к сведению эти предложения, дружественный характер которых оно готово оценить; оно заключает, что в нынешней стадии конфликта, разделяющего Европу, оно должно ограничиться попытками сохранить равновесие на Балканах.
Предостережение, которое Сазонов неделю тому назад просил передать нашему флоту, оказалось тщетным. Двум большим немецким крейсерам, «Гебену» и «Бреслау», удалось укрыться в Мраморном море. В том, что турецкое правительство причастно к этому, никто не сомневается.
В Адмиралтействе царит большое волнение; там ожидают материальных убытков и опасаются морального впечатления от нападения, направленного на русские берега Черного моря.
Сазонов смотрит еще дальше:
– Этим неожиданным шагом, – говорит он мне, – немцы удесятерили свой престиж в Константинополе. Если мы не будем на это немедленно реагировать, Турция для нас потеряна… И она даже выступит против нас… В таком случае мы будем вынуждены рассеять наши силы по побережью Черного моря, на границах Армении и Персии.
– По-вашему, что следовало бы сделать?
– Мое мнение еще не определилось… На первый взгляд мне кажется, что нам следовало предложить Турции, в награду за ее нейтралитет, торжественную гарантию ее территориальной неприкосновенности; мы могли бы прибавить к этому обещание больших финансовых выгод в ущерб Германии.
Я побуждаю его искать на этом пути решение, которое срочно необходимо.
– Теперь, – говорит Сазонов, – я доверю вам тайну, большую тайну. Император решил восстановить Польшу и даровать ей широкую автономию… Его намерения будут возвещены полякам в манифесте, который в скором времени обнародует великий князь Николай и который его величество приказал мне приготовить.
– Браво!.. Это великолепный жест, который не только среди поляков, но и во Франции, в Англии, во всем мире произведет большое впечатление… Когда будет опубликован манифест?
– Через три или четыре дня… Я представил проект императору, который в целом его одобрил; я посылаю его сегодня вечером великому князю Николаю, который, может быть, потребует от меня некоторых изменений в деталях.
– Но почему император поручает обнародование манифеста великому князю? Почему он не обнародует его сам как непосредственный акт его монаршей воли? Моральное впечатление от этого было бы гораздо более сильным.
– Это было также моей первой мыслью. Но Горемыкин и Маклаков, которые враждебно относятся к восстановлению Польши, не без основания заметили, что поляки Галиции и Познани находятся еще под австрийским и прусским владычеством; что завоевание этих двух областей есть только еще предвидение, надежда; что поэтому император не может лично достойным образом обратиться к своим будущим подданным; что, напротив, великий князь Николай не превысил бы своей роли русского главнокомандующего, обратившись к славянскому населению, которое он идет освобождать… Император присоединился к этому мнению…
Затем мы философствуем об увеличении сил, которое Россия приобретет от соединения двух славянских народов под скипетром Романовых. Расширение германизма на восток будет, таким образом, решительно остановлено; все проблемы Восточной Европы примут, к выгоде славянства, новый вид; наконец, и главным образом, более широкий, более сочувственный, более либеральный дух проникнет в отношение царизма к инородческим группам империи.
Пятница, 14 августа
На основании не знаю каких слухов, дошедших из Константинополя, в Париже и Лондоне воображают, что Россия обдумывает нападение на Турцию и что она бережет часть своих сил для этого готовящегося нападения. Сазонов, который был одновременно об этом уведомлен Извольским и Бенкендорфом, с горечью выражает мне свою печаль по поводу того, что он навлек на себя со стороны союзников такое несправедливое подозрение.
– Как могут нам приписывать подобную мысль?.. Это не только ошибочно, это нелепо… Великий князь Николай Николаевич вам говорил, лично вам, что все наши силы, без исключения, сосредоточены на западной границе империи с единственной целью: сокрушить Германию… И не далее как сегодня утром, когда я делал доклад императору, его величество заявил мне буквально: «Я предписал великому князю Николаю Николаевичу очистить как можно скорее и во что бы то ни стало дорогу на Берлин. Мы должны добиться прежде всего уничтожения германской армии». Чего же еще хотят?
Я успокаиваю его как могу:
– Послушайте, не принимайте вещи слишком трагически… Нет ничего удивительного в том, что Германия пытается внушить туркам, будто вы готовитесь напасть на них. Отсюда некоторое волнение в Константинополе. Послы Франции и Англии дали отчет об этом своим правительствам. И это всё… Превосходные разъяснения, которые вы мне делаете, будут высоко оценены.
Суббота, 15 августа
Энергичное сопротивление бельгийцев в Хассельте. Поспеет ли французская армия вовремя к ним на помощь?
Великий князь извещает меня из Барановичей, что сосредоточение его войск продолжается с замечательной быстротой сравнительно с предусмотренным промедлением; следовательно, он сможет ускорить свои наступательные действия.
Русский авангард проник вчера в Галицию, в Сокаль-на-Буге, и отбросил неприятеля в направлении на Львов.
Я имею сегодня днем длинное совещание с генералом Сухомлиновым, военным министром, чтобы скорее разрешить большое число военных вопросов: транспорта, военных запасов, снабжения провиантом и т. д. После этого мы говорим об операциях, которые начинаются. Вот общий план:
1. Северо-западные армии. – Три армии, заключающие 12 корпусов, начали наступление. Две из этих армий действуют к северу от Вислы, третья действует на юге и уже отошла от Варшавы. Четвертая армия в составе трех корпусов движется на Позен и Бреславль, обеспечивая связь этих трех армий с силами, действующими против Австрии.
2. Юго-западные армии. – Три армии, составленные из 12 корпусов, имеют приказ завоевать Галицию.
Сомнительный человек этот генерал Сухомлинов… Шестьдесят шесть лет от роду; под башмаком у довольно красивой жены, которая на тридцать два года моложе его; умный, ловкий, хитрый; рабски почтительный перед императором; друг Распутина; окружен негодяями, которые служат ему посредниками для его интриг и уловок; утратил привычку к работе и сберегает все свои силы для супружеских утех; имеет угрюмый вид, все время подстерегающий взгляд под тяжелыми, собранными в складки веками; я знаю мало людей, которые с первого взгляда внушали бы большее недоверие.
Через три дня император уедет в Москву, чтобы там из Кремля обратиться к народу с торжественным воззванием. Он пригласил нас, Бьюкенена и меня, сопровождать его…
Воскресенье, 16 августа
Манифест великого князя Николая Николаевича польскому народу обнародован сегодня утром. Газеты единодушно радуются по этому поводу; большая их часть печатает даже восторженные статьи, торжествуя по поводу примирения поляков и русских в лоне великой славянской семьи.
Документ этот, прекрасно составленный, был написан по указаниям Сазонова вице-директором Министерства иностранных дел князем Григорием Трубецким. Перевод на польский язык был сделан графом Сигизмундом Велепольским, председателем польской группы в Государственном совете.
Третьего дня Сазонов просил Велепольского посетить его, не указывая на причину приглашения. В нескольких словах он сообщил ему обо всем, затем прочел манифест. Велепольский слушал его со стиснутыми руками, с затаенным дыханием. После волнующих заключительных слов: «Пусть в этой утренней заре загорится знамение Креста, символа страданий и воскресения народов…» – он разражается слезами и шепчет:
– Боже мой, Боже мой, слава тебе Господи…
Когда Сазонов рассказывает мне эти подробности, я привожу ему слова, которые Гратри произнес в 1863 году: «Со времени раздела Польши Европа находится в состоянии смертного греха».
– В таком случае, – отвечает он, – я хорошо работал для душевного спасения Европы.
От Польши мы переходим к Турции. Сазонов предлагает французскому и британскому правительствам присоединиться к нему, дабы заявить оттоманскому правительству: 1) если Турция сохранит строгий нейтралитет, то Россия, Франция и Англия гарантируют ей неприкосновенность ее территории; 2) при том же условии три союзные державы обязуются, в случае победы, включить в мирный договор статью, освобождающую Турцию от притеснительной опеки, которую Германия на нее наложила в экономическом и финансовом отношении; эта статья устанавливала бы, например, отмену договоров, относящихся к Багдадской железной дороге и другим германским предприятиям.
Я поздравляю Сазонова с этим двойным предложением, которое представляется мне самой мудростью; особенно я настаиваю на первом пункте:
– Итак, даже в случае нашей победы, Россия не выражает никакого притязания, территориального или политического порядка, по отношению к Турции… Вы понимаете значение, которое я придаю этому вопросу: вы ведь знаете, что полная самостоятельность Турции есть один из руководящих принципов французской дипломатии.
Сазонов мне отвечает:
– Даже если мы победим, мы будем уважать независимость и неприкосновенность Турции, только бы она осталась нейтральной. Мы потребуем, самое большее, чтобы был установлен новый режим для проливов, режим, который бы одинаково применялся для всех прибрежных государств Черного моря – для России, Турции, Болгарии и Румынии.
Понедельник, 17 августа
Французские войска успешно продвигаются на Верхних Вогезах и в Верхнем Эльзасе.
Русские войска переходят в энергичное наступление на границах Восточной Пруссии, на линии от Ковно к Кенигсбергу.
Манифест к полякам наполняет все разговоры. Общее впечатление остается превосходным. Более или менее строгая критика исходит только из крайних правых кругов, где согласие с прусской реакционностью всегда рассматривалось как жизненное условие для царизма, а подавление польской национальности есть главная основа этого согласия.
В восемь часов вечера я уезжаю в Москву с сэром Джорджем и леди Бьюкенен.
Вторник, 18 августа
Приехав сегодня утром в Москву, я отправляюсь в половине одиннадцатого с Бьюкененом в Большой дворец Кремля. Нас вводят в Георгиевский зал, где уже собрались высшие сановники империи, министры, делегации от дворян, от купечества, от торговцев, от благотворительных обществ и т. д. Целая толпа, густая и сосредоточенная.
Ровно в одиннадцать часов входят император, императрица и императорская фамилия. Так как все великие князья уехали в армию, то кроме монарха входят только четыре дочери государя, цесаревич Алексей, который вчера ушиб себе ногу, и поэтому его несет на руках казак, наконец, великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы, настоятельница Марфо-Мариинской общины.
Посередине зала они останавливаются. Звонким, твердым голосом император обращается к дворянству и народу Москвы. Он заявляет, что по обычаю своих предков пришел искать в Москве поддержки своим нравственным силам в молитве перед святынями Кремля; он свидетельствует, что прекрасный порыв охватил всю Россию, без различия племен и национальностей; в конце он говорит:
– Отсюда, из сердца русской земли, я посылаю моим храбрым войскам и доблестным союзникам мое горячее приветствие. С нами Бог…
Ему отвечают долгие крики «ура».
В то время как кортеж снова начинает двигаться, обер-церемониймейстер приглашает нас, Бьюкенена и меня, следовать за императорской семьей, непосредственно позади великих княжон.
Мы доходим до Красной лестницы, нижняя площадка которой продолжается мостками, затянутыми красным, до Успенского собора. В момент появления императора поднимается буря радостных криков по всему Кремлю, в котором на площадях теснится громадная толпа, с обнаженными головами. В то же время раздается звон колоколов Ивана Великого. Громовый звук громадного колокола, отлитого из металла, собранного из руин, оставшихся после 1812 года, царит над этим шумом. И вокруг святая Москва – со своими тысячами церквей, дворцов, монастырей с лазоревыми куполами, медными шпилями колоколен, золотыми главами – сверкает на солнце, как фантастический мираж. Буря народного энтузиазма почти заглушает звон колоколов.
Граф Бенкендорф, обер-гофмаршал двора, подойдя ко мне, говорит:
– Вот та революция, которую нам предсказывали в Берлине.
Он, вероятно, выражает общую мысль. У императора радостный вид. Лицо императрицы выражает исступленную радость. Бьюкенен шепчет мне на ухо:
– Мы теперь переживаем величественный момент… Подумайте об историческом будущем, которое подготовляется в эту минуту именно здесь.
– Да, я думаю также об историческом прошлом, которое здесь же совершалось… С того места, где мы находимся, Наполеон глядел на Москву, охваченную пламенем. И по этой дороге Великая армия начала свое знаменитое отступление.
Между тем мы доходим до собора. Московский митрополит, окруженный духовенством, подносит их величествам крест царя Михаила Федоровича, первого из Романовых, и освященную воду.
Мы входим в Успенский собор. Четырехугольное здание, над которым возвышается громадный купол, поддерживаемый четырьмя массивными столбами, полностью покрыто фресками на золотом фоне. Иконостас, высокая стена из позолоченного серебра, весь усеян драгоценными каменьями. Слабый свет, падающий из купола, и мерцание свечей делают всё в храме золотисто-рыжеватым.
Государь и государыня становятся перед амвоном с правой стороны у подножия столба, рядом с престолом патриархов. Слева придворные певчие в костюмах XVI века, серебряных и бледно-голубых, поют замечательные песнопения православной литургии, – может быть, самые прекрасные во всей церковной музыке.
В глубине храма против иконостаса стоят три русских митрополита и двенадцать архиепископов. Слева от них собрано сто десять архиереев, архимандритов и игуменов. Баснословное богатство, неслыханное изобилие алмазов, сапфиров, рубинов, аметистов сияют на парче митр и облачений.
Бьюкенен и я, мы оба стоим слева от государя, впереди двора.
В конце длинной службы митрополит подносит их величествам Распятие, содержащее частицу подлинного креста Господня, которое они благоговейно целуют. Затем сквозь облака ладана императорская семья проходит через собор, чтобы преклонить колени перед православными святынями и гробницами патриархов.
Во время этого обхода я любуюсь походкой, позами, коленопреклонением великой княгини Елизаветы Федоровны. Несмотря на то, что ей около пятидесяти лет, она сохранила всю свою былую грацию и гибкость. Под развевающимся покрывалом из белой шерстяной ткани она так же элегантна и прелестна, как прежде, до своего вдовства, в те времена, когда она внушала мирские страсти… Чтобы приложиться к иконе Владимирской Божьей Матери, она должна была поставить колено на мраморную скамью, довольно высокую. Императрица и молодые великие княжны, которые ей предшествовали, принимались за это дважды и не без некоторой неловкости дотягивались до знаменитой иконы. Она сделала это одним гибким, ловким, величественным движением.
Служба окончена. Кортеж перестраивается, во главе проходит духовенство. Последнее песнопение великолепным взлетом наполняет храм. Двери открываются.
Вся декорация Москвы внезапно развертывается при ослепительном солнце. В то время как процессия развертывается, я думаю, что только византийский двор в эпоху Константина Багрянородного, Никифора Фоки и Андроника Палеолога знал зрелища, исполненные такого пышного, такого величественного великолепия.
В конце мостков, затянутых красным, ожидают дворцовые экипажи. Прежде чем сесть в них, императорская фамилия остается некоторое время стоять посреди неистовых радостных криков толпы.
Император говорит нам, Бьюкенену и мне:
– Подойдите ко мне, господа. Эти приветствия относятся к вам так же, как и ко мне.
Под шум исступленных криков мы трое говорим о начавшейся войне. Император поздравляет меня с удивительным рвением, которое воодушевляет французские войска, и повторяет заявление о своей полной уверенности в окончательной победе. Государыня ищет любезные слова, чтобы сказать их мне. Я прихожу ей на помощь:
– Какое утешительное зрелище для вашего величества. Как прекрасно смотреть на народ в его патриотическом исступлении, в его усердии перед монархами.
Она едва отвечает, но ее судорожная улыбка и странный блеск взгляда, пристального, магнетического, блистающего, обнаруживают ее внутренний восторг.
Великая княгиня Елизавета Федоровна присоединяется к нашему разговору. Ее лицо, обрамленное длинным покрывалом из белой шерстяной материи, поражает своей одухотворенностью. Тонкость черт, бледность кожи, глубокая и далекая жизнь глаз, слабый звук голоса, отблеск какого-то сияния на ее лбу – всё обнаруживает в ней существо, которое имеет постоянную связь с неизреченным и божественным.
В то время как их величества возвращаются в Большой дворец, мы, Бьюкенен и я, выходим из Кремля, среди оваций, которые сопровождают нас до отеля.
Время после обеда я провел, осматривая Москву, отдавая предпочтение местам, отмеченных памятью о 1812 годе, которая по контрасту с нынешними временами значительно улучшила душевное состояние.
В Кремле призрак Наполеона является, казалось, на каждом шагу.
С Красного крыльца император наблюдал, как разгорался пожар в зловещую ночь с 16 на 17 сентября. Именно в этом месте он собрал совет в составе Мюрата, Евгения, Бертье и Нея в самом пекле вздымавшихся в разные стороны языков пламени и под ослеплявшим душем тлевшего пепла. Именно там к нему пришло ясное и безжалостное видение его неминуемого крушения: «Всё это, – повторял он, – предвещает нам великие катастрофы!» Именно с Красного крыльца он поспешно спускался вниз по дороге к Москве-реке в сопровождении нескольких офицеров и солдат своей гвардии. Именно там он вошел в петлявшие улицы горевшего города. «Мы шли, – рассказывает Сегюр, – по огненной земле под огненным небом, между стен из огня». Увы! Не обещает ли нам нынешняя война второе издание Дантовой сцены? И сколько экземпляров этого издания?
К северу от Кремля, между собором Василия Блаженного и Иверскими воротами, лежит Красная площадь, место прекрасных и трагических воспоминаний. Если бы мне пришлось составить список мест, где наиболее ярко перед моим мысленным взором прошли картины прошлого, вызывающие благоговейные чувства, то я бы включил в этот список итальянскую провинцию Кампанию, Акрополь в Афинах, кладбище Эйюп в Стамбуле, дворец Альгамбра в Гранаде, Запретный город в Пекине, Градчаны в Праге и Московский Кремль. Этот странный конгломерат дворцов, башен, церквей, монастырей, часовен, казарм, арсеналов и бастионов; этот беспорядочный ряд не связанных друг с другом церковных и светских зданий; эта совокупность построек, выполняющих функции крепости, убежища, сераля, гарема, некрополя и тюрьмы; эта смесь прогрессивной цивилизации и архаичного варварства; этот жестокий контраст между самым грубым материализмом и самой величественной духовностью – разве всё это не является прообразом самой истории России, всей эпопеи русской нации, всей внутренней драмы русской души?
Возвышаясь над берегами Москвы-реки к югу от Красной площади, собор Василия Блаженного вздымает к небу свою изумительную и парадоксальную архитектуру царства грез. Создается впечатление, что при строительстве собора были объединены наиболее противоречащие друг другу архитектурные стили: византийский, готический, ломбардский, персидский и русский. Тем не менее из всего этого стройного, устремленного вверх, вьющегося многоцветия форм, из всего этого буйства фантазии рождается потрясающая гармония.
Я с удовольствием вспоминаю о том, что итальянский ренессанс был представлен в Кремле Софьей Палеолог, племянницей последнего императора Константинополя, сбежавшего в Рим. В 1472 году она вышла замуж за московского царя Ивана III, известного в истории как Иван Великий. Благодаря ей он с того времени стал считать себя наследником византийской империи. В качестве русского герба он взял изображение двуглавого орла. Софья Палеолог окружила себя итальянскими художниками, архитекторами и инженерами. Некоторое время при ее правлении нежное дыхание эллинизма и классической культуры смягчило суровость московского варварства.
Ближе к вечеру я завершил прогулку, посетив Воробьевы горы, с которых открывается вид на всю Москву и на всю долину Москвы-реки. Это место обычно называли Поклонной горой, потому что русские путники, достигнув его и бросив первый взгляд на священный город, обычно останавливались, чтобы перекреститься и помолиться, отбивая поклоны. Таким образом, Воробьевы горы пробуждают у славян, жителей Третьего Рима, такие же чувства, как гора Марио у итальянцев, жителей Первого Рима. Такие же чувства удивления, смешанного с восторгом, и набожного восхищения заставляли средневековых пилигримов пасть ниц, когда они созерцали Город Мучеников с высот, венчавших берега Тибра.
В два часа дня 14 сентября 1812 года авангард французской армии под искрящимися лучами солнца взошел разомкнутым строем на Воробьевы горы. На самом верху французы остановились, словно остолбенев от величия раскрывшегося перед ними вида. Захлопав в ладоши, они вскричали, ликуя: «Москва! Москва!..» Прибыл Наполеон.
Движимый восторгом, он воскликнул: «Так вот он, этот знаменитый город!» Но тут же добавил: «Наконец-то!»
Шатобриан подытожил эту сцену броской метафорой, полной живописного романтизма: «Москва, эта европейская принцесса на границе своей империи, облаченная во всё великолепие Азии, казалось, была приведена сюда, чтобы ее выдали замуж за Наполеона».
Промелькнул ли в голове императора подобный образ? Сомневаюсь. Им уже овладели гораздо более серьезные мысли, более тревожные предчувствия.
В десять часов вечера я уезжаю в Петербург.
С политической точки зрения сегодня на меня произвели сильное впечатление два события. Первое из них связано с императором, за которым я наблюдал, когда он стоял перед иконостасом в Успенском соборе. Его особа, его окружение и вся обстановка, в которой проходила церемония в соборе, казались красноречивой интерпретацией самого того принципа царизма, как он был определен в императорском манифесте от 16 июня 1907 года, объявившем о роспуске Первой Думы: «Так как сам Бог вручил Нам нашу верховную власть, то именно только перед Его алтарем Мы несем ответственность за судьбы России».
Другое сильное впечатление на меня сегодня произвел тот неистовый энтузиазм, который проявило население Москвы по отношению к своему царю. Я никогда не думал, что монархическая иллюзия и имперский фетишизм столь глубоко запали в сердце мужика. Существует множество русских пословиц, которые выражают непоколебимую веру бедноты и простого народа к своему хозяину: «Царь – хороший, это слуги у него плохие… Царь не виновен в страданиях народа: чиновники скрывают от него правду!» Но существует также и другая пословица, которую следует помнить, поскольку она объясняет, с другой стороны, отчаяние и протест народного духа: «До Бога высоко, до царя далеко!»
И для того, чтобы установить истинную цену пылкого приема, оказанного царю в это утро на Красной площади, не следует забывать, что именно на этом месте 22 декабря 1905 года было признано необходимым стрелять в толпу народа, распевавшую «Марсельезу».
Среда, 19 августа
Сегодня утром я вернулся в Петербург.
Французские войска продвигаются в долинах Вогезов, в сторону Эльзаса. Форты Льежа еще оказывают сопротивление, но немецкая армия, не задерживаясь перед ними, движется прямо на Брюссель.
Русские войска поспешно сосредоточиваются на границе Восточной Пруссии.
Четверг, 20 августа
Сазонов приезжает завтракать со мной.
Мы беседуем о тех результатах, которых надо постараться достичь в час мира и которых мы добьемся только силою оружия. Действительно, нельзя сомневаться, что Германия не преклонится ни перед одним из наших требований, пока у нее не будут отняты средства к защите. Нынешняя война не из тех, которые оканчиваются политическим договором, как после сражения при Сольферино или при Садовой; это – война насмерть, в которой каждая группа воюющих рискует своим национальным существованием.
– Моя формула проста, – говорит Сазонов, – мы должны уничтожить германский империализм. Мы достигнем этого только рядом военных побед; перед нами длинная и очень тяжелая война. Император не имеет никаких иллюзий в этом отношении… Но чтобы кайзерство не восстановилось снова из своих развалин, чтобы Гогенцоллерны никогда больше не могли претендовать на всемирную монархию, должны произойти большие политические перемены. Не считая возвращения Эльзас-Лотарингии Франции, необходимо будет восстановить Польшу, увеличить Бельгию, восстановить Ганновер, отдать Шлезвиг Дании, освободить Богемию, разделить между Францией, Англией и Бельгией все немецкие колонии и т. д.
– Это гигантская программа. Но я думаю, как и вы, что именно так далеко мы должны будем простирать наши усилия, если хотим, чтобы наше дело было прочно.
Затем мы взвешиваем взаимные силы воюющих, их людские резервы, их ресурсы – финансовые, промышленные, земледельческие и т. д. Обсуждение благоприятных шансов, которые нам предоставляют внутренние разногласия Австрии и Венгрии, заставляет меня сказать:
– Есть еще фактор, которым мы не должны пренебрегать: мнение народных масс в Германии. Очень важно, чтобы мы были хорошо осведомлены о том, что там происходит. Вы должны были бы организовать осведомительную службу во всех больших очагах социализма, которые ближе всего к вашей территории, – в Берлине, Дрездене, Лейпциге, Хемнице, Бреславле…
– Это очень трудно организовать.
– Да, но это необходимо. Подумайте, что на следующий день после военного поражения немецкие социалисты, без сомнения, принудят касту дворянства заключить мир. И если мы можем этому помочь…
Сазонов вздрагивает. Отрывисто и сухо он заявляет:
– О, нет, нет… Революция никогда не будет нашим орудием.
– Будьте уверены, что она есть орудие наших врагов против нас… И Германия не ждет возможного поражения ваших войск, она не ждала войны, чтобы создать себе соумышленников среди ваших рабочих. Вы не можете оспаривать, что забастовки, которые вспыхнули в Петербурге во время визита президента Республики, были вызваны германскими агентами.
– Я это слишком хорошо знаю. Но, повторяю, революция никогда не будет нашим оружием, даже против Германии.
Наш разговор останавливается на этом. Сазонов более не в настроении откровенничать. Появление революционного призрака внезапно заставило его застыть.
Чтобы дать ему отдохнуть, я увожу его в моем экипаже на Крестовский остров. Там мы гуляем пешком под прекрасной тенью деревьев, которая простирается до сверкающего устья Невы.
Мы разговариваем об императоре, я говорю Сазонову:
– Какое прекрасное впечатление я вынес о нем на этих днях в Москве. Он дышал решимостью, уверенностью и силой.
– У меня было такое же впечатление, и я извлек из него хорошее предзнаменование… но предзнаменование необходимое, потому что…
Он внезапно останавливается, как если бы он не решался окончить свою мысль.
Я убеждаю его продолжить. Тогда, беря меня за руку, он говорит тоном сердечного доверия:
– Не забывайте, что основная черта характера государя это мистическая покорность судьбе.
Затем он передает мне рассказ, который слышал от своего шурина Столыпина, бывшего премьер-министра, убитого 18 сентября 1911 года.
Это было в 1909 году, когда Россия начинала забывать кошмар японской войны и последовавших за ней мятежей. Однажды Столыпин предложил государю важную меру внутренней политики. Задумчиво выслушав его, Николай II делает скептически-равнодушное движение, которое как бы говорит: «Это или что-нибудь другое – не все ли равно…» Потом он заявляет грустным голосом: «Мне не удается ничего из того, что я предпринимаю, Петр Аркадьевич. Мне не везет… К тому же человеческая воля так бессильна…»
Мужественный и решительный по натуре, Столыпин энергично протестует. Тогда царь у него спрашивает:
– Читали вы Жития святых?
– Да… по крайней мере частью, так как, если не ошибаюсь, этот труд содержит около 20 томов.
– Знаете ли вы также, когда день моего рождения?
– Разве я мог бы его не знать? Шестого мая.
– А какого святого праздник в этот день?
– Простите, государь, не помню.
– Иова Многострадального.
– Слава Богу. Значит, царствование вашего величества завершится со славой, так как Иов, смиренно претерпев самые ужасные испытания, был вознагражден благословением Божиим и благополучием.
– Нет, поверьте мне, Петр Аркадьевич, у меня более чем предчувствие, у меня в этом глубокая уверенность: я обречен на страшные испытания; но я не получу моей награды здесь, на земле… Сколько раз применял я к себе слова Иова: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне».
Несомненно, что эта война обязывает все воюющие стороны мобилизовать до конца имеющиеся нравственную энергию и организационные силы. История, только что рассказанная мне Сазоновым, привела меня к наблюдению, к которому я часто приходил с тех пор, когда стал жить среди русских, к наблюдению, которое в известном смысле суммирует их национальный облик.
Если слово «мистицизм» использовать в его широком смысле, то русский человек является исключительно мистиком. Он – мистик не только в своей религиозной жизни, но также и в социальной, политической и эмоциональной.
За всеми доводами, которые диктуют его поведение, всегда видна приверженность к определенной вере. Он рассуждает и действует, словно верит в то, что развитие человечества вызвано тайными, сверхъестественными силами, оккультной, деспотической и диктаторской властью. Этот его настрой, более или менее общепризнанный и осознанный, связан с его воображением, которое, естественно, неуправляемо и не ограничено какими-либо рамками. Этот настрой является также результатом его атавизма, географического положения, климата и истории.
Предоставленный самому себе, он не испытывает необходимости в том, чтобы выяснять, каков процесс происхождения вещей или каковы их практические и определяющие факторы, а также благодаря каким рациональным и удачным средствам они могут появиться на свет и состояться. Равнодушный к логической определенности, он лишен вкуса к продуманному и тщательному наблюдению или к аналитическому и дедуктивному исследованию. Он в меньшей степени полагается на свой рассудок, чем на свое воображение и на способность отдаваться эмоциям; его менее заботит способность понимать, чем способность «чувствовать» и «прорицать». Обычно он действует по интуиции или в соответствии с шаблоном и с природной беспомощностью.
С религиозной точки зрения его вере присуща созерцательность, склонность к фантазированию, она насыщена смутными надеждами, суеверными страхами и мессианскими ожиданиями; он всегда в поиске прямой связи с незримым и божественным.
С политической точки зрения концепция действенной мотивации крайне чужда ему. Царизм представляется ему в виде метафизической реальности. Он приписывает царю и его министрам истинную добродетель, соответствующую динамическую силу и некую магическую власть править империей, исправлять злоупотребления, осуществлять реформы, устанавливать господство справедливости и т. д.
Какими законодательными мерами, с помощью какого административного механизма они могут эффективно осуществлять это? Это не его, а их дело, их секрет.
Также и в своей эмоциональной жизни русский человек постоянно ощущает на себе подчиняющее воздействие инородных сил, которые руководят им против его же воли. Дабы оправдать свои грехи, личные недостатки, причуды и поражения, он обычно ссылается на невезение, судьбу, мистическое влияние «Потустороннего» и зачастую даже на колдовство и магию сатаны.
Подобная концепция подхода к решению проблем не вполне адекватно содействует личным, ответственным усилиям и постоянным мужественным поступкам. Именно поэтому русский человек так часто удивляет нас своей беззаботностью, своей позицией, выражаемой фразой «подождем и увидим», и своим пассивным безропотным бездействием.
И наоборот: хотя почти невозможно взывать к его душе, он способен на самые вдохновенные порывы и на самые героические жертвы. И вся история русского народа доказывает, что русский человек всегда отдает себя без остатка, когда он чувствует, что он действительно нужен…
Прошлой ночью скончался папа римский Пий Х. Соберется ли когда-либо совет кардиналов для выбора нового папы римского при более мрачных обстоятельствах или при свершении более грандиозного переворота в жизни человечества? Найдет ли коллегия кардиналов в своих рядах папу римского с достаточным человеколюбием, с достаточно глубоким благочестием, с достаточной силой характера и с достаточной политической проницательностью, чтобы играть важнейшую и беспрецедентную роль, которую Ватикану предлагает война?
Пятница, 21 августа
На бельгийском и французском фронтах наши действия принимают плохой оборот. Я получаю приказание выступить посредником перед императорским правительством с целью ускорить, насколько возможно, наступление русских войск. Я тотчас же отправляюсь к военному министру и энергично излагаю ему просьбу французского правительства. Он призывает офицера и немедленно диктует ему, под мою собственную диктовку, телеграмму великому князю Николаю Николаевичу.
Затем я спрашиваю генерала Сухомлинова по поводу военных операций, происходящих на русском фронте.
Я записываю его сообщения в таких словах:
1. Великий князь Николай Николаевич решил с возможной быстротой продвигаться вперед к Берлину и Вене, главным образом на Берлин, проходя между крепостями Торном, Позеном и Бреслау.
2. Русские армии перешли в наступление по всей линии.
3. Войска, нападающие на Восточную Пруссию, продвинулись вперед на неприятельской территории от 20 до 45 километров; их линия определяется приблизительно Сольдау, Нейденбургом, Лыком, Ангенбургом и Инстербургом.
4. В Галиции русские войска, продвигающиеся на Львов, достигли Буга и Серета.
5. Войска, действующие на левом берегу Вислы, пойдут прямо к Берлину, как только северо-западным армиям удастся зацепить германскую армию.
6. 28 корпусов, выставленные теперь против Германии и Австрии, состоят приблизительно из 1 120 000 человек.
Вчера германцы вошли в Брюссель. Бельгийская армия отступает на Антверпен. Между Мецем и Вогезами французская армия принуждена отступить после того, как она понесла тяжелые потери.
Суббота, 22 августа
Немцы у Намюра. В то время как один из их корпусов бомбардирует город, большая часть войск продолжает движение к истокам Самбры и Уазы. План германского наступления через Бельгию вырисовывается теперь во всей своей полноте.
Воскресенье, 23 августа
Наши союзники с того берега Ла-Манша начинают появляться на бельгийском фронте. Одна дивизия английской кавалерии рассеяла уже немецкую колонну… в Ватерлоо! Веллингтон и Блюхер должны были от этого проснуться в своих могилах. Большое сражение завязывается между Монсом и Шарлеруа.
Русские продвигаются в Восточной Пруссии, они заняли Инстербург.
Понедельник, 24 августа
Мне телеграфируют из Парижа:
«Сведения, полученные из самого верного источника, сообщают нам, что два действующих корпуса, находившихся раньше против русской армии, переведены теперь на французскую границу и заменены на восточной границе Германии полками, составленными из ландвера[3 - Войска, состоящие из уволенных в запас и призываемых на службу по первому требованию. – Прим. ред.]. План войны германского генерального штаба слишком ясен, чтобы было нужно до крайности настаивать на необходимости наступления русских армий на Берлин. Предупредите неотложно правительство и настаивайте».
Я обращаюсь немедленно к великому князю Николаю Николаевичу и генералу Сухомлинову. В то же время я уведомляю государя.
В тот же вечер я имею возможность уверить французское правительство, что русская армия продолжает свое движение на Кенигсберг и Торн со всей возможной энергией и быстротой. Значительное сражение подготовляется между Наревом и Вкрой.
Сегодня привезли во французский госпиталь в Петербурге адъютанта великого князя Николая Николаевича князя Кантакузина, раненного вблизи Гумбинена пулей в грудь. Доктор Крессон, главный врач, разговаривал с ним несколько минут: раненый еще весь полон наступательного пыла, который увлекает русские войска; он с горячностью утверждает, что великий князь Николай Николаевич решил какой угодно ценой открыть себе дорогу на Берлин.
Вторник, 25 августа
Немцы победили при Шарлеруа; кроме того, они нанесли нам сильный удар на юге Бельгийских Арденн, вблизи от Невшато. Все французские и английские войска отступают к Уазе и к Семуа.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/moris-zhorzh-paleolog/dnevnik-posla/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Господи, спаси Республику! Господи, спаси императора Николая! Господи, спаси короля Британии! (лат.) – Прим. пер.
2
29 июня 1914 года Распутина, который только что приехал в Покровское, в свою родную деревню, ударила ножом в живот петербургская проститутка Хиония Гусева, бывшая его любовница. В течение двух недель Распутин находился на грани жизни и смерти. Его выздоровление заняло много времени. Царица ежедневно направляла ему телеграммы. Хионию Гусеву отправили в больницу для душевнобольных. Когда она ударила Распутина ножом, она воскликнула: «Я убила Антихриста!» Будучи довольно привлекательной женщиной двадцати шести лет, она являла собой наиболее характерный типаж русской проститутки, объединяя в себе истеричку, алкоголичку и мистически настроенную женщину. Ее легко представить в роли героини одного из романов Толстого или Достоевского. – Прим. авт.
3
Войска, состоящие из уволенных в запас и призываемых на службу по первому требованию. – Прим. ред.
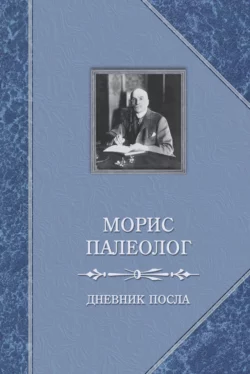
Морис Палеолог
Тип: электронная книга
Жанр: Документальная литература
Язык: на русском языке
Издательство: Издательство Захаров
Дата публикации: 31.05.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Дневник француза Мориса Палеолога (1859—1944) – обязательное чтение для всех, кто интересуется историей России начала ХХ века.