Дело о сорока разбойниках
Дело о сорока разбойниках
Юлия Нелидова
Губернский детективИван Иноземцев #4
1892 год. Земского врача Ивана Иноземцева направляют в столицу Туркестанского генерал-губернаторства – Ташкент. Но добраться до нового места службы Иноземцеву не удается: его похищает шайка разбойников во главе с коварным басмачом Юлбарсом, приручившим настоящего тигра. По всему краю ходят слухи и легенды о набегах банды Юлбарса. Он жесток и безжалостен, умен и необычайно хитер, так зачем же ему среди оазисов и миражей пустыни понадобился обычный земский врач Иван Иноземцев? И как теперь ему справиться с новой напастью – эпидемией холеры, которая преследует местных жителей?..
Юлия Нелидова
Дело о сорока разбойниках
© Нелидова Ю., 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018
Глава I. Призраки пустыни
1890 г.
Иван Несторович Иноземцев ступил на пирс. Но вдруг закачало.
«Нет, нет, не сейчас. Молчи, совесть, уймись. Несколько шагов и – палуба…»
Большие надежды он возлагал, большие чаяния, что совесть голоса не подаст, молчать будет хотя бы еще день-другой, думал, поспеет на пароход трансатлантической компании «Гамбург – Америка – Лайн». Переболел бы тогда посреди океана, пережил угрызения совести вместе с качкой, похоронил бы невзгоды и неудачи в пене морской. Началась бы тогда жизнь новая на неведомых землях, заокеанских, в Нью-Йорке, с чистого листа бы началась. Но эйфория торжества прошла, подобно действию наркотика. Мысль «что же я делаю?» пронзила голову, а горькое чувство стыда – сердце.
«Каким же я монстром стал! – подумал доктор, побелев. – Неужто эта ведьма, Ульянка, над моими помыслами столь сильной властью обладала, что я, лишившись рассудка, таким же, как она, сделался: позволил себе едва ль не убийство, кражу, подлог, ложь, а теперь и бегство. Позорное бегство? От имени своего отрекусь, от суда скрываться стану? Нет, нет и нет! Иван Несторович честным на свет родился, честным жил и честным помрет. Пусть же справедливое наказание, а не побег за океан изгонит из моей души дьявола и от помутнения излечит разум»[1 - Читайте об этом в романе Ю. Нелидовой «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).].
Смял билет и зашвырнул его в воду, совершенно не заметив, что тотчас же за клочком бумаги бросились несколько охотников переплыть океан зайцем. Туда же полетел саквояж с семью миллионами франков, что он получил с продажи поместья в Берри, жалованный ему Лессепсами и который, как он считал, никогда ему не принадлежал и принадлежать не мог. Замки в воздухе щелкнули, саквояж хлопнул аки крыльями птица, и поплыли над синими просторами французские франки, точно листья осенние. Толпа ахнула, тотчас обступила странного господина, вдруг решившего не покидать берега столь оригинальным способом, а следом разомкнулась – к нему подошли двое полицейских, осведомиться, в чем дело.
– Проводите меня в русское консульство.
Третьего февраля 1890 года должен был отчалить Иван Несторович Иноземцев от берегов Европы на белом гиганте «Фюрст Бисмарк», но вместо этого Иван Несторович Иноземцев предпочел Голгофу. И начался крестный путь непутевого русского доктора по полицейским участкам, судебным инстанциям, тюрьмам и прочим богом заброшенным местам, сначала германским, потом и российским. Весь мир сотрясся от ужасных сенсационных подробностей похождений Элен Бюлов и влюбленного в нее доктора. Бюловское дело вновь подняли из архивов, оно было пополнено удивительными и неожиданными подробностями[2 - Читайте об этом в романах Ю. Нелидовой «Дело о Бюловском звере», «Тайна железной дамы» и «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).]. Иноземцев не жалел ни себя, ни ее, всю правду как есть поведал, всю суть изворотливой аферистки внутреннюю непостижимую простому человеку выдал.
В историю эту было трудно поверить.
Иные прочили Иноземцеву расстрел, другие жалели, третьи обещали, что снова все обойдется желтым домом, четвертые рвались разжиться скандальными нюансами – всяческие журналисты да модные биографы брали приступом тюремный экипаж, в котором с конвоем передвигался горе-бретер, толпились на широких ступенях здания суда в Берлине, следовали за ним длинной хвостатой змеей из тюрьмы в тюрьму, все щелкали, щелкали на свои фотографические аппараты.
Были у Иноземцева и защитники, были и обвинители. Горячо спорили: героем величали, и идиотом, и пешкой чьей-то, тех же масонов, и даже политическим аферистом, устроившим столь масштабный скандал ради какой-то тайной революционной цели.
И ни тюремное заключение Иноземцева не пугало, ни сроки, что суда прочили, ни даже казнь. Воцарились отныне в душе его покой и полное безразличие – все, чего ему столь сердечно желалось, сбылось – наконец об Элен Бюлов заговорили всерьез и поисками авантюристки занялись крепко, бросили на ее поимку самые передовые сыскные силы Европы. Закрывать глаза на шкодницу теперь представлялось совершенно невозможным, уж слишком громко заявила она о себе в последний раз. Шантажировать русского посла в Париже, мелькнуть в числе революционеров, змеей вползти в редакцию газеты нещадного блюстителя порядка германского канцлера – это вам не водяного изображать в бюловском болоте.
С фармацевтическими компаниями тоже все вышло гораздо благополучнее, нежели ожидалось, подверглись господа барменские предприниматели тщательной ревизии, выпускаемые лекарства – тщательной проверке. Да и патент на новоизобретенные медикаменты получить теперь было не столь легко – образовались специальные надзорные комитеты по контролю над выпускаемой продукцией фармацевтической промышленностью. Иноземцев не смог доказать свою причастность к изобретению «ахиллинина», но «Фабену» пришлось отложить выпуск «средства от кашля» на самую дальнюю полку. Репутацию русский доктор им сильно подпортил.
Следом еще одна добрая весть донеслась – вышла первая, долгожданная статья о поимке Элен Бюлов. Иноземцев в манере Герши газетный лист вырезал с ее фотографией, где вели ее двое парижских полицейских, в нагрудном кармане хранил, любовался ее недовольной гримаской. А схватили ее во Франции, когда она, воспользовавшись фальшивым паспортом, прибыла в Париж. Герр Кёлер, фальшивомонетчик благодаря Иноземцеву тоже был все-таки взят, и информацией обо всех именах, что располагала Ульяна, полиция владела. Но девушка ускользнула, взобравшись на трехсотметровую башню Эйфеля, а потом смешалась, видать, с толпой. Об этом сообщил следующий номер «Петербургских ведомостей». Тогда уже Иван Несторович в Россию вернулся.
Спустя несколько месяцев газеты разродились сенсацией о том, что неуловимая мадемуазель Бюлов поймана в Бармене. Но неделей позже появилась еще одна заметка об Ульяне – она бежала, когда ее перевозили из тюрьмы Дюссельдорфа в Берлин, – воспользовалась дымовой гранатой. Авантюристке помог кто-то из тюремных чиновников, которому она наобещала несметных сокровищ. В третий раз ее в Т-ской губернии выследили – то был уже конец августа – во время сделки с американским миллионщиком, она пыталась продать ему бюловскую усадьбу. Но поймать ее не удалось, исчезла, по своему обыкновению, будто растворившись в воздухе.
Иноземцев без капли сострадания следил за ходом ее приключений, неизменно красовавшихся на первых полосах всевозможных газетных изданий, вырезал статьи, ими камеру свою обклеивал. А потом сорвал со стен все листы, смял, выкинул и больше газет у милостивых своих тюремщиков не выпрашивал. И радовался внутренне, что Элен Бюлов самого его теперь не достанет, ибо хранили доктора надежно решетки и замки Александровской центральной пересыльной тюрьмы, где он провел в качестве ссыльнопоселенца целый год под ярлыком «бессрочник» в ожидании отправки в Иркутскую губернию, на каменноугольные копи. В одиночной камере, где его не потревожил бы и сам дьявол. Только никто здесь не стерег с такой строгостью, как в больнице Святого Николая, разрешалось гулять по коридорам и даже во дворе, разговаривать с чиновниками, охраной, с другими заключенными, среди коих было много людей большого ума, талантливых ученых и писателей, словом и делом ненароком нарушивших букву закона.
Ни с кем бесед доктор не вел, ни с кем не знался. С тех пор как статьи об Ульяне в клочья разорвал, спал сутками напролет, с утра до ночи, в обнимку с бутыльком бромкамфары, выписанной ему тюремным врачом. До того крепко, что порой его принимали за мертвеца. Было дело, добудиться не могли, приходилось бить тревогу на весь централ, нашатырем отхаживать. Но тот, с десятого раза учуяв запах аммиаката, сонно отмахивался, на другой бок поворачивал и снова засыпал. Вот что с человеком нервное напряжение сделало. Никому неведомо было, что бедный Иван Несторович мечтал о такой жизни несколько лет кряду, о полном и абсолютном беспамятстве мечтал. С сочувственным придыханием о нем шептались, мол, постигла его самая из страшных напастей во всем свете, какие могут случиться с мужчиной – испортила ему жизнь женщина.
Так и прожил до начала 1892 года.
Вскоре бромкамфара спасать перестала, сном забываться, как прежде, не удавалось больше. Выспался Иван Несторович на всю жизнь. Со сладкой истомой вспоминалось об Обуховской больнице, о парижской лаборатории. Стали мысли посещать о том, как замечательно было бы опять вернуться к врачебной практике, экспериментам, к неисследованному в Бармене ахиллинину. Интересовался у начальника тюрьмы, нет ли для него какого дела.
Нежданно-негаданно ранней весной вдруг пришло письмо из Петербурга. Много раз пересматривали дело Иноземцева, много споров было. Его императорское величество царь Александр лично бюловским происшествием интересовался, уж больно шумное оно было. Долго думал, в чем вина Ивана Несторовича. Не отчаяние ли толкнуло его на погибельный путь, не напутали ли чего в очередной раз чиновники? Взвесил все заслуги заключенного. А был Иноземцев не только хирургом, фармацевтом, но и ценным специалистом по вакцинации от бешенства. Вспомнил государь и то, что с повинной доктор сам явился да и следствию оказал колоссальную помощь – столько жуликов, Ульянке пособлявших, поймано было. Распорядился государь-император в итоге судьбой бедового доктора с царским великодушием, заменив место ссылки с морозных сибирских краев на жаркие пустынные каракумы, где доктора в большом спросе были.
Но какую-то уж больно фантастическую форму приняло его помилование. Иноземцева ждала каторга. Но вдруг вернули свободу, обещали жаловать мундир военного врача, посулили назначение старшим врачом хирургического отделения в военном госпитале Ташкента – столицы Туркестанского генерал-губернаторства, ежели спешно и по доброй воле подпишет согласие на сие назначение.
– Будете от оспы прививать, да гигиене местное население обучать, поможете организовать городскому врачу пастеровскую станцию, – заявили петербургские чиновники.
Отчего не подписать? Иноземцев с радостью согласился, по самой что ни на есть доброй воле, как было прошено господами прибывшими за ним полицейскими чиновниками. Старшим ординатором прочили, в столичном госпитале, да еще и военном.
Оказалось, не многие доктора, окончившие Императорскую военно-медицинскую академию да получившие военно-врачебное образование, желали в Туркестанское генерал-губернаторство ехать. Мол, климат там не из самых приятных, да и туземцы нрава бойкого. Как Иноземцеву разъяснили, был во всем городе Ташкенте на стотысячное население один-единственный врач, который и тюремным врачом числился, и городским, и аптекарем, и судебным экспертом и аж прозектором. Не справлялся благородных уфимских кровей шестидесятилетний статский советник Батыршин Мухаммад-Ханафия Алюкович, устал от службы, просил прислать молодого врача, достойную себе замену. А тут еще приступили к строительству новой городской больницы на семьсот пятьдесят коек, как ему все успеть, ежели персоналом у него одна повивальная бабка значилась да два фельдшера.
Иноземцеву такой поворот судьбы был, что манна небесная – да хоть на самый край света пусть отправляют, лишь не забыть, как бистури да скальпели в руках держать и чтоб лаборатория была, и подальше от госпожи Бюлов. Все! Ничего более не надобно. Рай, да и только.
Но ждал Ивана Несторовича нехороший сюрприз – прибыл он в Ташкент в самый разгар холерной эпидемии. Опять обманули чиновники подлые, на верную смерть отправили, каторжные работы казнью подменили, о чем он с простодушной доверчивостью не посмел и помыслить. Только отправил главный врач Ташкента депешу об очередном случае холеры, так стали господа чиновники искать незадачливых простачков, которых можно было направить с этой болезнью разбираться. А тут им Иноземцев подвернулся.
Прибыть-то он прибыл, да только припоздал на несколько месяцев, ибо случилось с ним по дороге самое настоящее восточное приключение.
Все, как, впрочем, и всегда, замечательно начиналось.
В новенькой форме военного врача Русской императорской армии, которая удивительно была ему к лицу: белый китель с докторскими погонами и форменная фуражка с кокардой на околыше, черные шаровары с алой выпушкой и начищенные до блеска сапоги, покинул Иноземцев Петербург. Отправился до берегов Каспия, пересек море яликом – парохода ждать пришлось бы трое суток, не хотел опоздать ко дню отправки поезда, который лишь дважды в неделю отходил от станции. Меж путешествием по морю и ожиданием в Узун-Аде, первое выбрал по совету бывалых путешественников из Красноводска – дни стояли солнечные, море было спокойное.
Обошлось без шторма, причалил в Михайловском заливе, в бухте Узун-Ада.
Вокруг тишина, не в пример Баку и Красноводску, которые были изуродованы, по мнению Иноземцева, европейской суетностью. На всю станцию, совершенно не в восточном стиле построенную, со зданием, больше походящим на пряничную избушку с сахарными ставенками, правда, сильно на солнце выгоревшую, один начальник, который своих покоев не покидал без особой надобности, контролер, сонно зевнувший в ответ на протянутый билет Иноземцевым, да сторож с ружьем тоже сонный. Быть может, был здесь какой-никакой гарнизон, может, и народу в иные дни набиралось поболее, но в день приезда Иноземцева, на его удачу, никого из попутчиков да и вокруг тоже не оказалось – лишь желтый песок, крытые навесами тюки с прошлогодним хлопком, пирамиды ящиков, паутина железнодорожных путей, вой ветра, точно кто в пустой бочонок дудел, шум волн, на волнах покачиваются рыбацкие суденышки, да сухие доски причалов поскрипывают – сказка после иркутского заключения – тогда ведь все только и норовили, что под кожу залезть. А тут – и поговорить-то не с кем. Умиротворяющее безлюдье.
Иноземцев повел взглядом вокруг, глубоко вдохнул. О этот дивный запах пустыни!
Потом, правда, появились двое купцов-бакинцев с десятком чернорабочих, которых они величали «персюками». Бакинцы были одеты в сюртуки и немного изъяснялись по-русски, стрекотали без умолку. Только речь их оказалась мало понятной. Знай себе, кивай, да нет-нет порадуй собеседников полуулыбкой.
«Ничего, – успокаивал себя Иноземцев, поглаживая саквояж, где хоронились несколько томиков Омара Хайяма, Навои и очень редкий перевод Васифи, – чем дальше в пустыню, тем меньше людей будет встречать».
Да и слова здесь точно в воздухе растворялись. Сквозь уши слушал последние новости здешних краев: о торговле, о разбойных набегах басмачей, которые распугали всех путешествующих, о прекрасном городе Асхабаде, где ткут самые лучшие ковры во всем Закаспие, а сам глядел вдаль, на то, как ветер песчаными барханами играет, и улыбался внутренней безмятежности. Словно попал в родные края, давным-давно им покинутые, словно шел сюда всю свою жизнь и наконец вернулся. Взыграли в Иване Несторовиче персидские корни, зов предков стал оглушающей песней, ласкающей душу и сердце…
Наконец дождался отправки поезда: товаро-пассажирского, чай, не барин, устроился в вагоне третьего класса – спартанского, без буфета и кровати, зато один на весь вагон, ибо людей отчаянных, готовых отдаться пескам во власть, не столь много нашлось в тот день – ни одного. Лишь в товарных вагонах ехали по три бравых солдатика в белых кителях и малиновых шароварах, с ружьями, как полагается. Ибо товара было из Баку, из Асхабада довольно – до потолка всяких ящиков, тюков да свертков: возили сахар, хлеб, консервы, вяленое мясо, да и ткани, ковры, посуду.
Хоть поезд и стоял полдня в ожидании, но к урочному часу так к Иноземцеву из пассажиров никто и не присоединился. Купцы же с помощью команды туземцев в грязных халатах и с черными лицами приступили к погрузке своего ялика хлопком, уже полгода здесь отчего-то хранившимся, помахав на прощание русскому доктору.
– Храни вас бог от коварного Юлбарса, – сказал один из них.
Иван Несторович и не расслышал поначалу этих предостерегающих слов, да и сказанных с чудовищным акцентом, откинулся на спинку деревянной скамьи, приготовившись к знакомству с таинственным Востоком, владениями легендарного Чингисхана да Тамерлана, где бравые джигиты в мохнатых шапках машут кривыми саблями да по пескам-барханам под жарким солнцем скачут на длинноногих текинских жеребцах, покрытых богатой попоной и в богатой упряжи, где обитают загадочные, прекрасные пери[3 - Пери – добрый дух в образе прекрасной крылатой женщины (перс.).] и грозные дивы-великаны[4 - Дивы – чудовища (перс.)] в таинственных пещерах, полных несметных сокровищ, открывающихся заветным заклинанием «сим-сим».
Тайно лелеял надежду Иван Несторович, по ребячьей наивности до сих пор не изжившей себя, попасть в сказку «Тысячи и одной ночи», повстречать Али-Бабу с Синбадом, во дворцах великих падишахов побывать, повстречать мудрецов под стать Омару Хайяму, увидеть пери, волшебную птицу Симург[5 - Симург – волшебная птица (перс.)].
Мечтал попасть в сказку, а прибыл на станцию Кызыл-Арват и понял, что из всего, что навоображал себе, пока солнце да песок его встречают и глинобитные квадратные домишки в окружении причудливо изогнутых саксаулов. Эти странные невысокие деревца, точно злые духи пустыни, которых застало солнце врасплох и испепелило в минуту смертельной агонии, росли повсюду вдоль железнодорожной насыпи, корнями поддерживая платформу. Порой проезжали и караулки-казармы, казалось необитаемые, – без окон и дверей: квадратные песчаные коробки с плоскими кровлями. Строить здесь что-либо было попросту невозможно – песок норовил просочиться во все щели, и от него старательно прятались, как могли.
Иноземцев с ужасом заметил это через час пути, когда с его фуражки стали стекать струйки неведомо откуда взявшегося песка, слой его покрывал пол в вагоне и наличники окон, а потом песок стал хрустеть и на зубах. Поезд с шумным грохотом катился по рельсам, поднимая целое облако пыли, так что в окне ничего было не разглядеть.
Не ведал Иван Несторович, что сия печальная и однообразная картина всего лишь прелюдия, всего лишь карикатура, пародия на те страшные приключения, что его ждали впереди. Даже на мгновение приуныл от неясного предчувствия. Песок, песок, песок, желто-серый цвет – будто сон без сновидений.
«Ничего, – принимался он себя успокаивать, – скоро будут и оазисы». Доставал «Жемчужные истории» Васифи, погружался в мир прошлого, мир чудесного, сказочного Востока, другого Востока – с журчащими фонтанами, голубыми куполами, белыми дворцами и прекрасными пери…
А потом и вправду пустыня оживилась, местами милостивая природа окропила ее зеленым невысоким кустарником, стали появляться признаки жизни – аулы с крытыми войлоком кибитками, похожими на шатры или юрты, развалины крепостей, русла речушек или каналов, а станции выглядели поприглядней – иной раз фонтан бил перед зданием, и сады росли, если не сады, то виноградники, если не виноградники, то темные пятна-борозды привезенного чернозема возрождали надежду на будущие насаждения.
И сердце Иноземцева вновь принималось биться от предвкушения знакомства с восточной сказкой, такой манящей, как мираж, и такой же непредсказуемой…
После Геок-Тепе пошли поля, покрытые красным ковром отцветающего мака и тюльпанов красоты неземной, пашни, повеяло свежестью с предгорий – железная дорога пересекала Ахал-Текинский оазис. Здесь весна была коротка, как молния, Иноземцев прибыл в самый благостный и привлекательный сезон, когда еще можно было застать цветение пустыни, когда верблюжатник еще не сгорел под нещадными лучами, когда цвели алый мак и рыжие ноготки, когда бушевали живописные грозы, и нередко шел дождь. Но чем дальше на восток, тем жарче становилось, конец апреля стоял за окном вагона, а пекло, словно в самой середине июля. Сначала Иван Несторович фуражкой обмахивался, а потом ворот кителя расширил, не выдержал и вовсе его снял. Странная иллюзия, когда в порту был – один песок кругом, никакой растительности, хоть воздух полон влаги, пусть и душно, но привычно, как в Выборге летом, две станции проехали – стали кустики верблюжьей колючки появляться, потом и скалистые горы, кое-где поросшие бурьяном, и стада не то осликов, не то тонконогих коз проносились, фазаний крик оглушал просторы – живность какая-никакая, а воздух пыльный, сухой, звенящий, совершенно непривычный для северного человека.
На станции Арчман забрался в вагон одинокий старичок в полосатом чапане, сел напротив доктора, буркнул: «Ассаляму алейкум», руки в рукава чапана спрятал, подбородок на грудь опустил и уснул. На голове – тюрбан поверх тюбетейки намотан, на ногах – сапоги толстой кожи, а чапан сей, точно стеганое одеяло, да еще и кушаком обмотанный. Как ему зной эдакий не страшен? Знай себе, посапывает сладко. И чтобы хоть лоб его был испариной увлажнен, да ничуть, наверное, дело привычки. Раз приоткрыл одно веко лениво, глянул на Ивана Несторовича изучающе и снова спать. А глаз старичка этого был, как вода в озере, как небо – прозрачной голубизной отливал, что Иноземцева немало поразило. Ведь всюду сновали разодетые в папахи текинцы, чернявые и темноглазые, загорелые и коренастые. Не весь тюркский народ одинаков был, и светлоликие попадались, немало было рыжеволосых и голубоглазых из тех, что ближе к горам жили.
– Зря, ви, касподин кароший, от чай горячий отказиваецес, – проговорил он как-то ближе к асхабадскому вокзалу, устал, видимо, на мучения доктора глядеть. – Сейчас на привоксальний чай-хоне будем, пробуйте глоток сделат, сразу облекчений наступит.
Но мечтал Иноземцев не о чае, а о простом русском квасе, о целом бочонке мечтал, ледяном. Лишь в беседе с попутчиком чуть позабылась всепоглощающая, лишающая разума жажда. А говорил сей почтенный сарт, родом из Ферганы, на русском, хоть и с мягким восточным акцентом, заставив доктора в удивлении брови вскинуть. Выяснилось, что с самого завоевания города Ташкента генералом Михаилом Григорьевичем Черняевым, он жил среди русских солдат, был до того местным табибом, бежал в Чимкент от преследования обозленных джигитов кокандского хана, а потом следовал за армией в качестве одного из лекарей и видел собственными глазами, как глава города преподнес генералу двенадцать золотых ключей от двенадцати ворот Ташкента. Ибо разглядел тот в приходе русских Аллаха провидение, а в них самих – свет спасения.
В Асхабаде – шумном, ярком, в совершенно европейского образца городе, утопающем в прохладных садах, омываемом множеством арыков – узких канавок, идущих вдоль всех улиц по обеим сторонам обочин, но с грунтовыми дорогами, – они расстались, было у сарта одно важное дело: в горах Копетдага расцвела календула, которая хорошо помогала лечить болезни глаз. А здесь все трахомой мучились из-за обилия песка.
– Да хранит вас бог от коварного Юлбарса, – сказал табиб на прощание.
Было уже не первым случаем, когда Иван Несторович имя этого разбойника слышал. Верно, таков здешний обычай, аллегорически сравнивать этого басмача с самим дьяволом. Может, слов иных подобрать не могут на русском, может, какая легенда имеется на сей счет.
На асхабадском вокзале в вагон доктора ввалились несколько текинцев в дорогих халатах и в лохматых шапках, опущенных по самые черные бороды, с оружием за поясами – сабли, пистолеты, кинжалы. Верно, из отряда туркменской конной милиции, а, может, и купцы какие, кто их знает, – тут все туземцы, несмотря на солнце, шапки носили и при оружии были. Стало Иноземцеву не по себе от близости представителей огненно-горской породы, от их громогласных голосов и жаркой жестикуляции. Но текинцы тоже недурно изъяснялись по-русски, веселыми оказались попутчиками. Заметив испуганный взгляд русского доктора, пожурили, мол, мы ведь не с тигром на привези в вагон вошли, чего краска с лица сошла, мил господин?
– Нет, ни один смельчак на всей свет белый, кроме Юлбарс, кто мог бы настоящий королевский тигр подчинить своей воли, – многозначительно подняв палец, молвил один из них, озарив черное пятно бороды белоснежной восточной, несколько кровожадной улыбкой от одного до другого края папахи.
Тут Иноземцева любопытство и разобрало, страх мгновенно улетучился, и он аж вперед подался.
– Уже который день в пути, от самого Узун-Ада слышу это имя. Кто это такой – ваш Юлбарс?
– Ваш! – вскипел второй, хватаясь за кинжал, заставив Иноземцева вздрогнуть. – Почему сразу наш? Никакой он не наш!
– Остерегайтесь его, – сказал третий, загадочно сверкнув глазами. – Ночами по пустыне и от вагона к вагону не ходите, если случится поезду стоянка сделать.
– Возите с собой кинжаль, – добавил четвертый. – Но не вздумайте оказивать сопротивление, если повстречать случиться Юлбарса. А сразу себя – чик, по горлю, чтоби не мучиться.
Иван Несторович сначала побледнел, всерьез испугавшись, отпрянул, в спинку скамьи вжался, уже успев представить чуть ли не воочию грозную физиономию туземного разбойника, потом нашел в себе силы улыбнуться – господа джигиты, верно, шутить изволят?
– Что ти, какой шютка? Аллах Акбар! Место здесь страшний, нехороший – самый жюткий в песках Каракуми. Барсакельмес называется, что означает – попадешь, не вернешься. С самих незапамятних времен били здесь роскошние сади, оазиси, реки да озери, и обитали здесь барсакельмесские пери, которые красоту эту волшебними чарами создали. Но только караван какой пройдет мимо, сади и озери солончаками сменялись. Бросались люди на вода, так чудесно блестевший на солнце, а это не вода, это – сол, бежали к деревьям и виноградным лозам, а это мираш. И умирали.
– От горя, – добавил четвертый, с не меньшим вниманием, чем доктор, слушавший рассказ товарища и с театральным драматизмом кивающий, поддакивая каждому произнесенному слову.
– А потом прах этих несчастних смешивалься с песком, и оттого песка здесь так много, – поспешил вставить последнее слово самый словоохотливый текинец, в котором явно угадывалась поэтическая натура. Или им просто доставало немало удовольствия фраппировать европейских путешественников сказками о каракумах и кызылкумах и внутренне потешаться, глядючи, как те лицом бледнели и как испуганно расширялись их глаза.
– А что Юлбарс? – спросил Иван Несторович.
– Юлбарс – бандит, но очень лёвкий.
– Потому что ему сама барсакельмесская пери пособляет.
– И тигра он смог приручить благодаря ее чарам.
– Да, не благодаря ее чарам, – отмахнулся четвертый. – Силач Юлбарс, выше меня, говорят, на три голови, тигра своего одной рукой за загривок, что котенка таскает.
– Не-ет, – возразил первый, – сила его – в его учености, родом он из персидских шейхов, син одного правителя – белая кость. Говорят, знает тисячу языков и прочел тисячу книг.
Это все, что удалось выяснить от почтенных джигитов, возвращавшихся из Асхабада в Артык. На прощание и они пожелали доктору хорониться подальше от мифичного Юлбарса, даже кинжал жаловали взамен на стетоскоп, уж очень он диковинным им показался. Правда, без особого желания самого Иноземцева, но делать было нечего – текинцы возражений бы не потерпели.
После шумного и грязного Мерва и чудесных садов Байрам-Али – прекрасного оазиса, принадлежащего некогда чарджуйскому хану, Ахалтекинский оазис заканчивался, и вновь начинались сплошные пески. Ветер поднимал их в воздух, и казалось, что стоит непроходимый туман. Пустыня меняла очертания на глазах, словно бескрайний океан, волнуясь. Глядишь, здесь возвышается песчаный холм с редкой рябью, а там низина, усеянная верблюжьей колючкой, наполовину в песке утопленной, а через четверть часа нет холма, нет колючек, а стоит на месте холма сухой саксаул с обнаженными корнями. Песок съедал железнодорожную платформу, видно было, как рельсы то исчезали под желтым покрывалом, то чуть выглядывали из него.
На скромной, маленькой станции без названия, без фонтана, без умирающего виноградника, но зато с буфетом, Иван Несторович имел несколько часов передышки от длительной тряски и оглушающего грохота колес – от Артыка до Мерва шли почти без остановок. Как ему велел здешний аксакал, отправился пить чай и, на счастье, повстречал у самовара русского – инженера, средних лет, в ермолке и восточном халате, мол, так удобней жару переносить. Даже объяснил почему. Этот халат здесь, в Туркестане, сказал он, как контейнер для хранения сжиженных газов, изобретенный недавно одним немцем, Вейнхольдом, он хранит температуру тела и не допускает перегревания. А чтобы организм не думал, что ему холодно, надобно горячий чай пить, он тотчас же все поры, что ставенки, раскрывает и дышит себе. Иноземцев был поражен мудростью здешних туземцев, которые, как ему казалось, лишь из страсти к роскошествам увешивали себя теплой одеждой. Ан нет, оказывается, имелся в этой странной для европейца привычке вот такой восточный секрет.
– Вам еще много секретов таких восточных здесь раскрыть предстоит, – усмехнулся инженер.
А занимался почтенный ученый исследованием подземных ирригационных каналов, именуемых «кяризы», что строили когда-то в стародревние времена персы. Тоже сооружение хитромудрое, способное из-под земли много воды достать в бескрайней и кажущейся совершенно безжизненной пустыне. Стал Иван Несторович о персах этих расспрашивать, чьи кяризы да калы – грозные укрепления – брошенными всюду стояли, к коим, если не приглядеться, то примешь за обыкновенные холмы, так их время и ветра изменили.
Десятка лет не прошло, как текинцы погнали соседей за гребень горы в земли персидские, бывало, те возвращались, дабы отвоевать назад свои калы, но безуспешно. Текинцы – народ грозный, отчаянный, на расправу короткий, персы нежными были созданиями, ремеслами никакими особо не промышляли, хотя их ирригационные изыски довольно изобретательны, ручки в глине и крови пачкать зело не рвались, больше наука их занимала, вот и пришлось немного подвинуться. Иван Несторович с интересом выслушал рассказ инженера, а потом уже и о басмаче с тигром заговорил, мол, ведь говорят, что он перс, отчего не отловите негодяя?
– Ах, вы об этом, – улыбнулся инженер. – Здесь много легенд на его счет ходит. Да только, сдается мне, это всего лишь легенды, местные байки. Нападения басмачей – случаются, да. Бывало, и поезд остановят. Пустыня ведь одна кругом! Трудно такие просторы в порядке идеальном содержать. И тигры водятся всюду, и шакалы, и гиены, и змеи, медведи, туры, барсы, волки. Это из-за близости реки. Любому охотнику – раздолье.
– А вовсе нет, – оторвав от самовара полотенце, вмешался буфетчик с окладистой бородой. – Когда это вы видели, чтобы в составе на станцию один пассажир прибыл! Если так дальше дело пойдет, оставлю я эту лачугу. Вон, лучше в Уч-Аджи служить, что за тридцать верст отсюда. Там целый батальон недавно осел, и казарма позначительней отстроена, и артиллерию привезли. Уже год, как этот Юлбарс проходу никому не дает. И повадки у него, все равно, что кошачьи, никогда не знаешь, когда и как он налет совершит. И здесь шалит, и у Хивы его ловили, аж к Ташкенту, не боясь русских полков, нет-нет подбирался. Юлбарс, по-ихнему, по-тюркски, означает «бродячий тигр». Организовал шайку, тигра здешнего, что у реки Теджен водятся, изловил, на цепь посадил и с ним города и аулы грабит, поезда грабит, караваны тоже грабит. Басмач проклятый! А ведь, говорят, совсем мальчишка. Сам маленького роста, щуплый, с жиденькой бороденкой, а глазенки, что у волка – холодные, злючие-колючие. Вот уж воистину, шайтан.
– Мальчишка? – воскликнул в недоумении доктор. – Но я слышал, будто он богатырского сложения и одной рукой тигру горло сжимает.
– Да, все разное говорят. Не слушайте, – махнул рукой инженер и зевнул, прикрыв рукой усы. – Одни говорят, что он из Бухары. Другие, что беглый еврей-дрессировщик. Третьи, что сын поверженного персидского правителя. А четвертые такие совсем уж сказки рассказывают: будто Юлбарс – это английский шпион, нарочно засланный британцами страху нагонять на русских, накрепко в Закаспие и Туркестане осевших, мол, чтобы помешать нам дорогу проложить до Ташкента. Много англичан здесь бывает, они туда-сюда до Индии болтаются, ну и Туркестан исследуют. А по мне так: нет никакого Юлбарса, все это набеги разных шаек местных беков, одному герою приписанные, чтобы удобней было эти набеги совершать. Беков, известно, бухарский куш-беги покрывает, за мзду определенную, а тот, в свою очередь, перед эмиром отчет держит. А уж какие между нашими начальниками и эмиром беседы бывают – то знать нам не положено. Могут баранами откупиться, могут женой, а могут и с десяток мальчиков-бачей отрядят.
– Выходит… – проронил Иноземцев, удивленный странной иерархической восточной структурой. – Выходит, здесь вовсе не столь безопасно, как мне в Петербурге рассказывали.
– Ну почему? – всполошился инженер и, сдвинув ермолку набекрень, почесал затылок. – Хм, то Петербург, а то Бухарский эмират. Да спокойно тут, не тревожьтесь. Привыкнуть просто надобно к здешним обычаям. К чему человеческая натура только не привыкает! Да и у нас вдоль платформы через каждые двадцать-тридцать верст казармы стоят. Боятся они нападать на здешние земли. Своих токмо грабят. Русские для них пострашнее шайтана. В год не более двенадцати смертей – тишь, гладь да божья благодать. Вот протянут до Ташкента железную дорогу, тогда совсем цивилизация настанет.
Иноземцев было успокоился, но изменился лицом, услышав последние слова инженера.
– А что? До Ташкента нет дороги?
– Только до Самарканда пока проложили. Дальше уже тарантасом придется добираться.
Иван Несторович поспешил достать свой билет и, к изумлению своему, увидел надпись: «Узун-Ада – Самарканд», по рассеяности своей обыкновенной, не заметив кою прежде. Думал, к самому Ташкенту его железная дорога прикатит, ан нет…
– Тарантасом? – с ужасом проронил он, представив, что полпути ему придется пройти по жарким Каракумам не быстрым поездом, который никакой басмач остановить не посмеет, а кибиткой на колесах, запряженной в лучшем случае одной-единственной лошадью, а в худшем – неспешным осликом. Размечтался! Думал только со стороны, из вагонного окошка песками любоваться будет.
Вышел он из вокзального буфета на перрон. Простерлась пред его взором желтая, неумолимая пустыня во всей своей истинной красе и очевидности: потрескавшийся к началу лета лёсс, что проступал сквозь песок, давно сменился нескончаемыми барханами, кучугурами да развалинами кое-где иранских укреплений в виде не то насыпи, не то невысоких крепостей вдалеке, называемых «кала». Верблюжатник без близкого источника воды, уже пожелтевший, недобро колыхался на ветру. И никого. Теперь такое безлюдье не радовало доктора. Ведь чего доброго, за этой умиротворяющей безмятежностью, под толстым одеялом из песка спит огромное чудище по имени Юлбарс, обняв гриву гигантского королевского тигра – лохматого, полосатого. А коварные барсакельмесские пери сыплют сверху кристаллами соли.
Обернулся Иноземцев – снежные вершины, оставшиеся позади, прощально выглядывали сквозь плотную занавесь пустынного марева. И небо имело белесый оттенок, точно саван. До того тоскливо стало Ивану Несторовичу, что сел он прямо на перроне по-турецки, как здесь на топчанах в чайханах сидеть было принято, и замер, зачарованно вглядываясь в колебания воздуха на горизонте, в надежде увидеть хоть слабые признаки земной жизни.
Буфетчик раз выходил к нему, советовал не сидеть на солнце.
– Голову напечет, – вздыхал он. – До отправки еще цельный час. Идите под крышу, в прохладцу. Здешние дома из специального кирпича строят, чтоб в таку жару завсегда воздух был.
– Нет уж, – отвечал Иноземцев. – Мне теперь здесь жить. Придется привыкать.
Со станции доктор снова один в вагоне ехал.
Но до Уч-Аджи, по словам буфетчика, надежно укрепленного, добраться ему было не суждено этой ночью.
Солнце медленно закатилось за тонкую линию горизонта, за белые клубы облаков, погасли последние его лучи.
Вдруг, завизжав колесами по рельсам, локомотив резко стал. Иноземцев кубарем полетел на соседнюю скамью. Пространство южной ночи с яркой луной над барханами прорезал гортанный вопль, недобро оборвавшийся на самой высокой ноте каким-то булькающим звуком.
Точно под самым окном его вагона это случилось – не иначе кому горло перерезали. Не во сне ли послышалось?
Иноземцев, до того успевший задремать, насилу поднялся, потер ушибленное плечо и еще сонный и напуганный бросился в грузовой вагон, где ехали охранявшие товар солдаты. Сморила тех вечерняя дрема, как и самого Ивана Несторовича. Едва доктор с дверцей справился, в проход меж вагонами протиснулся, в потемках едва не провалившись на шпалы, а те только очнулись, только за ружья схватились и в недоумении повскакивали. Один ползал на четвереньках – искал фуражку.
В соседнем вагоне раздался грохот, распахнулась дверца напротив, яркий свет озарил стройные ряды товарных ящико-тюков на три коротких мгновения. Три короткие вспышки и тотчас будто заложило уши.
Не сразу Иноземцев понял, что это ружейные выстрелы, до того ошарашен был, до того оглушен молниеносностью происходящего. На пол вагона один за другим рухнули все три белых кителя. А на другом конце вагона застыли в потемках, точно духи ада, семь или даже десять пар светящихся глаз. И понял Иноземцев, что к трем кителям сейчас четвертый ляжет – его самого.
Глава II. Иноземцев и сорок разбойников
Говорил буфетчик, не сиди на солнце, голову напечет. Вот, пожалуйста, теперь, видно, в бреду все это и наблюдает. Стоит, чуть дыша, за ручку дверцы схватившись, и пытается высмотреть сквозь темноту вагона действительно ли в его ногах мертвые солдаты лежат, а над ними возвышаются несколько высоких черных фигур, увенчанных причудливыми чалмами. Вспыхнуло пламя, Иноземцев дернулся назад, тотчас заслонившись от вспышки, но, когда осознал, что это был всего лишь факел, больно обожгло затылок: получил удар по голове и вывалился из двери за поручни наружу. Падая, краем глаза успел заприметить, как с крыши вагона спустился еще один разбойник.
– Йy?, мумкин эмас![6 - Нет, нельзя. (Здесь и далее перевод с узбекского.)] – донеслось следом точно из пустого бочонка. – Овсар! Эшак! Нима учун? Йyловчини тегма, деб айтгандимку![7 - Ты бестолочь! Ишак! Зачем? Я же сказал, не трогать пассажира.]
Иван Несторович ощутил, как, обхватив за ноги, его вытащили из-под колес, потянули нещадно по шпалам и бросили на песок.
– Кечарасиз, илтимос[8 - Извините, пожалуйста.], – шуршали вокруг тени. Потом у самого уха кто-то как гаркнет:
– Юлбарс, йy?! Йy?! Мумкин эмас. ?оч![9 - Юлбарс, нет! Нет! Нельзя! Прочь!]
Уж очень тревожным показался Ивану Несторовичу этот пронзительный визг. Замер, стонать от боли перестал, открыл глаза, оторвав голову от горячего песка, продолжая сжимать затылок рукой. Из раны хлестала кровь. Вокруг столпились бандиты в халатах, некоторые держали зажженные факелы, били копытами нетерпеливые кони.
Вдруг ударил в нос бедного Ивана Несторовича звериный дух – в самой близости от лица, точно сквозь дымку, на него глядело нечто живое, ярко-оранжевое, оно было усато, горячо пыхтело, тыкало в подбородок чем-то липким и мокрым. Низенький сарт бесстрашно вцепился сему чудищу в загривок и пытался оттащить, все твердя свое: «Юлбарс, йy?». И осознал доктор, что Юлбарсом был тигр, а не человек. Мысль сия сразила наповал, отобрав остатки чувств и сознания.
Очнулся Иноземцев от тряски и неприятного ощущения, что вот-вот упадет: оказалось, ехал верхом на лошади. Сидел без седла, на одной попоне, вернее, не сидел, а повис на шее, распластавшись, невыносимо смердящего навозом животного. По обеим сторонам ехали всадники – милостиво придерживали пленника прикладами ружей.
В глазах темно, голова трещала, как телеграфный аппарат, страшно мутило и хотелось пить. Поднявшись, кое-как уселся, оглянулся, увидел позади большой желтый шар, чуть выглядывающий из-за края пустыни, отливающей червонным золотом. Утро, тотчас решил Иноземцев, рассвет, стало быть, шли на запад. Кругом кучугуры, нет-нет саксаул вставал на пути темной изогнутой тенью, копыта тонули в песке едва ли не по колено бедных животных. Его окружало человек сорок всадников, в грязных, неопределенного цвета халатах, серых чалмах, лица по глаза прикрыты платками, за поясами – пистолеты, за плечами – ружья, сабли стучали о бока тонконогих быстрых их лошадок в дорогой сбруе, с расписными седлами. Все, как один, были устремлены взглядом в горизонт, молча неслись легким галопом против солнца.
«Сорок разбойников», – подумалось Иноземцеву с горькой иронией.
Невольно потянувшись к ушибленному затылку, Иноземцев нащупал нечто вроде повязки, спустился пальцами по шее к плечу – обнаружил, что весь был сплошь липким от крови. Правая рука оказалась без рукава – им, видимо, перевязали рану. Медленно, кряхтя, попробовал покачать головой, наклонить ее вперед-назад. Тотчас будто кто чем-то тяжелым рубанул по затылку, и горячее потекло по шее, к плечу, по голой руке. Закапала густая алая кровь на песок.
– Черт, – проронил Иноземцев и снова бухнулся на шею лошади.
Когда солнце окончательно взошло и начало припекать, караван встал у развалин персидской крепости. Иноземцева сняли с лошади и усадили в тени поодаль от всей станицы. От неловкого движения вдруг все закачалось, завертелось, тяжелый спазм схватил внутренности. Стало доктора выворачивать наизнанку. А сил нет остановить приступ. Сил нет даже руки поднять, прикрыть рот, утереть лицо.
Один из разбойников наклонился к нему, заглянул в глаза, выругался по-басурмански. Развернулся, хотел уйти, но отчего-то остался, продолжая браниться, махая растопыренными пальцами во все стороны, словно должен был выполнить не совсем ему приятное поручение.
Вынул из ножен кинжал, поднял лезвие к солнцу, стал разглядывать с какой-то зловещей внимательностью, долго тер о грязный рукав халата, при этом бросая на доктора какие-то не то грозные, не то торжественные взгляды, пока лезвие не заблистало в лучах, как зеркало. Иван Несторович от страха вжался в глиняную стену калы, предположив, что его сейчас прирежут. Но басурманин вдруг протянул нож рукоятью вперед и проронил снисходительно что-то на своем, басурманском.
Совсем звери – хотят, чтобы Иноземцев сам себя порешил. Да с радостью, но только сил не хватит нанести один хороший удар, чтобы покончить с собой без мучений, еще больше изранит и все.
– Нет, не могу, – прошептал доктор, зажмурился, задержав дыхание – сейчас взъяриться, прибьет. Поскорее бы! А то вот вновь подкатил к горлу неприятный спазм.
– Э-эх, ?yр?о?… Кучинг етмидими? ?андай сен табиб? Сен табиб эмас![10 - Трус… Духу не хватает? Какой ты доктор? Ты не доктор!] – презрительно бросил тот, присел рядом и дернул ворот, понуждая его снять китель. И принялся вспарывать швы. – Хохламасанг – унда узим[11 - Не хочешь, тогда я сам.]..
Только тогда Иноземцев уразумел, что разбойник предлагал ему всего-навсего разрезать китель на бинты. Точно камень с души слетел – он встрепенулся, поднял руку, замахал что есть мочи.
– Я сам! Сам… Не беспокойтесь! Сам… Я понял…
Дрожащими пальцами почти выхватил из рук сарта нож, стал спешно рвать со второй руки рукав давно не белого кителя. Ни мыслей, ни боли не чувствовал, до того жить хотелось на самом низком уровне инстинктов, автоматически, без драматизма и высоких слов. Просто хотелось жить. Давясь рвотными позывами, утирая хлынувшую носом кровь, он кое-как обмотал голову, сел и откинулся на стену калы. Нож выпал из его пальцев. Сарт подобрал, обтер лезвие о край халата, пробормотал что-то на своем, тюркском, гортанном, развернулся и пошел к своим. Едва скрылся за поворотом калы, Иноземцев со вздохом закрыл глаза. Слабость брала свое, Иван Несторович начал проваливаться сознанием в спасительную дрему. Как вдруг вновь у самого уха:
– Юлбарс, ?оч! Мумкин эмас. ?оч!
Доктор вздрогнул, мгновенно открыв глаза. Перед ним стоял уже другой бандит – низенький, щуплый до того, что полосатый халат его болтался на худых плечах, с небольшой чалмой на голове, какие носили здесь ремесленники – из грязно-серого хлопка, лицо тщательно обмотано концом сей чалмы. Он был очень сердит, топнул ногой, зарычал, взмахнул обнаженной саблей. Иноземцев зажмурился, думал, его бранят за какую-то неведомую ему оплошность.
Справа вдруг мелькнула рыжая тень. Головой двигать не мог, как будто даже парализовало, но боковым зрением успел заметить черно-оранжевый хвост, исчезнувший за поворотом стены. Через мгновение там же показались две массивные лапы и невероятных размеров любопытная кошачья морда. Верно, в беспамятство провалился, не заметив приближение хищника, которого привлекал запах крови, запах поверженной жертвы.
– Менинг ?ам, Юлбарс! ?оч! Бу ов?ат эмас[12 - Горе мое, Юлбарс! Уйди! Это не еда!].
И топнул ногой с такой небывалой энергией, так грозно махнул кулаком, что тигра точно ветром сдуло.
«Хозяин зверя, атаман собственной персоной», – решил Иноземцев. Он еще тогда понял, с кем имеет дело, когда у поезда лежал на шпалах и услышал этот мальчишеский фальцет, хозяин которого из кожи вон лез, чтобы прибавить голосу немного мужественности.
И как же этот кисейный юноша, прообраз маленького Мука, умудрился приручить тигра и собрать вокруг себя целую шайку отчаянных головорезов? Надо обладать такими талантами, таким непревзойденным даром внушения, такой мощью духа в столь юном возрасте, чтобы добиться послушания от строптивых подопечных и не стать их жертвой. Воистину Восток полон неразрешимых загадок. Разгадывать кои у Иноземцева охота уже отпала, равно как и знакомиться с его просторами. Подобно зыбучим пескам, подобно болоту безжалостно утянут, и поминай как звали. Все вокруг здесь словно в тридевятом царстве было, словно в сказочных краях таинственной Шахерезады.
Атаман подошел ближе к Иноземцеву, нагнулся, осмотрел затылок.
– Вай-вае, – недовольно покачал головой он, а потом выпрямился. В руках его сверкнул странный предмет. Иноземцев только и разглядел мелькнувший огонек сквозь туманную дымку. И затылок пронзила острая боль, в нос ударил запах паленого мяса и волос. Он сжался пружиной и, даже не вскрикнул, повалился ниц.
Очнулся вновь на лошади, ближе к ночи. Небо было синим с парой тройкой первых звезд, песок золотили лучи заходящего солнца. Куда они едут? На кой им сдался бедный измученный доктор? Любопытно, остались ли еще в туркестанских краях невольничьи рынки? В рабство, вестимо, продать хотят. Али на что обменяют… Ведь Иноземцев у них за табиба считался, носил китель военного врача, стало быть, умелец, знаток своего дела, да еще и европеец. А у них с европейцами, поди, туго. Уколы их лекари делать не умели, носы перекраивать – тоже.
Шли всю ночь, не сделав ни единого привала. Наступило утро. Только тогда остановились, когда безжалостное солнце принялось печь, как угли в камине. Вдали Иван Несторович заметил сияющую полосу воды – мираж, не иначе. Но воздух стал влажным.
Дышать стало еще тяжелее, капли испарины катились по вискам. А как голова от солнца нещадно болела, это ни словом сказать ни пером описать. Тела своего не чувствовал, до того дурно было. Всю дорогу лица от шеи своего скакуна не отрывал, вцепившись в гриву, чтоб не скатиться с попоны. А земля проплывала мимо, тянулась полосой, будто нескончаемая желтая лента. И находило на Иноземцева помрачение, начинало вновь страшно выворачивать. Но никто караван не остановил, все двигались вперед и вперед, внимания на мучения пленника не обращая.
К первым звездам и вправду дошли до воды, доктор глазам своим не поверил – огромное море, сверкающее в лучах заката. А, может, река то была, а, может, и озеро, вообразить трудно – такое диво среди песков и барханов, конца и края его не видать. И не привиделось ли во сне? Но вокруг весьма правдоподобно носились чайки, отчаянно вопя, по берегам рос высокий камыш, пахло тиной.
Бандиты молча спешились, пустили лошадок камыш щипать. Столь же молча, неспешно, деловито погрузили на большой ялик тюки, что из вагонов товарно-пассажирского поезда были изъяты. Несколько сартов взобрались на борт, и, конечно же, сокровище свое, талисман – Юлбарса – чудище полосатое – тоже взяли. Сарт в полосатом халате, как заправский дрессировщик, щелкал хлыстом по сапогам, зверь послушно, даже как-то по-детски вскочил на суденышко.
Мутным взглядом наблюдал Иноземцев, как тот уселся на носу. Доктору помогли перебраться и милостиво спустили в узкий трюм, где только лежа можно было расположиться. И слышал он сквозь лихорадочный бред рев тигриный, хлюпанье, чавканье, царапался зверь сверху, скребся, а сверх того еще и бесконечное это: «Юлбарс, йy?, йy?! Юлбарс, мумкин эмас. Ўтир! Юлбарс, ёт. Юлбарс, ёнбошга», – так атаман, видать, упражнял своего питомца.
Вскоре голос этот стал убаюкивать Ивана Несторовича, потом знакомым показался. В конце концов, в бреду и уснул.
Продрал глаза – вокруг темнота, сырость, холод. Ну все, отмучился, не трюм это ялика, а самая настоящая могила. Лежал Иван Несторович на спине, точно звезда морская, раскинув руки-ноги, всем телом ощущая, как вдалеке капля за каплей куда-то стекала вода, и эхом отдавался сей монотонный звук, ударяя по гудящим вискам. Осторожно ладонь перевернул, пальцами нащупал землю – мокрая, склизкая соль. Болью пульсировал затылок – стало быть, жив пока.
Вдруг вспыхнул невыносимо яркий свет, сначала справа, следом слева, потом с потолка. Иноземцев зажмурился. А когда чуть веки приоткрыл, с трудом разглядел сквозь побитые стекла очков серо-зеленый с изумрудным переливом потолок и стены пещеры со свисающими конусами белесых сталактитов и бурых сталагмитов. Где-то над головой виднелся кусочек неба, видать, глубоко под землей залегал сей сказочный грот. Поднялся – кругом залитый светом интерьер настоящей пещеры с замысловатыми, поросшими сквозь соль и известняк буграми мха.
А посреди – кристальной чистоты круглое, точно блюдце, озерцо. Совсем как в Бюловке, только маленькое. А на другом берегу его в беспорядке лежали груды начищенной золотой и серебряной посуды, монеты, восточные украшения с каменьями и кружевной резьбой, оружие – сабли, кольчуги, шлемы с островерхими пиками, статуэтки с большими страшными головами – и все сплошь сверкало мириадами искорок, как в книжке с картинками из далекого детства.
– Господи боже, – проронил Иван Несторович, – навоображал себе невесть что, вот и привиделось. Уже четверть века давно минуло, как ребенком был, а сказок начитался… Неужто пещера Али-Бабы… Где же это я?
– Здравствуй, – раздался раскатистый женский голос. Эхом прокатившись по всем закоулкам, проходам пещеры, несколько долгих мгновений он мячиком отскакивал от изъеденных солью стен, черной птицей кружа над головой Иноземцева. Тот аж подпрыгнул, задрав голову вверх.
– Где я? – одними губами проронил он.
– В Барсакельмесской пещере, посреди Аральского моря, – ответил услужливый голос. «Моря, моря, моря…» – повторило эхо – точно некто в мегафон Эдисона говорил.
– Кто вы?
– А я – Барсакельмесская пери.
«Пери, пери, пери…» – Иноземцев изо всех сил принялся крутиться, стараясь понять, откуда идет голос, откуда льется свет и где спрятался человек с рупором. Но всюду были только грозные копья сталактитов, так недобро напоминающие решетки тюрьмы. Он сжал рукой пылающую болью голову.
– Не может же так сильно напечь, что… – вырвалось у доктора в отчаянии.
– Смотри, сколько здесь золота! Бери, сколько хочешь, – вновь заговорила таинственная хозяйка пещеры, – и уходи. Уходи немедля и никогда сюда не возвращайся.
«Возвращайся, вращайся, щайся…»
– Я бы рад уйти… Да и не нужно мне ничего… А нет, вспомнил, мне в Ташкент нужно.
– В Ташкент нельзя, – голос дрогнул тревожной ноткой. – Возвращайся откуда пришел.
– Как – нельзя?.. Господи, с кем же я говорю? Почему нельзя? Бред какой-то… – обессилев от изумления, Иван Несторович присел на соляной пол пещеры. Голову уронил на руку, вновь свело желудок – сейчас опять начнется приступ рвоты. Крепко же его огрели басмачи по затылку. Кажется, сотрясение имеется…
– А где Юлбарс? Где этот лохматый тигр? Где шайка? И были ли они? Или уже лихорадка завладела моей головой?.. И почему мне понятна твоя речь? Ведь басмачи говорили по-тюркски. Я даже теперь знаю значение нескольких слов… А ты, пери, по-русски говоришь. Как-то это странно все. Разве пери говорят… – Иноземцев не заметил, как, бормоча, улегся, прижавшись горячей щекой к холодной скользкой соли, дотянулся рукой до края озера – ледяная вода тотчас остудила дрожь в теле. – …по-русски. И все же, кто ты? Покажись!.. Не могу поверить, что все это со мной происходит на самом деле.
Вдруг неслышная белая тень скользнула за спиной, присела рядом, коснувшись чем-то мягким лба.
Он обернулся – закутанная в шелковые невесомые покрывала, склонившись, на коленях стояла подле него сама барсакельмесская пери. Легким движением рук с нанизанными на запястья браслетами откинула с лица шелка. Обнаружив, к изумлению доктора, под ними – ласковое, улыбающееся лицо Ульянушки, обрамленное тесным восточным украшением из серебра: множество сверкающих монеток и камушек спускалось на лоб, щеки, перехваченных у подбородка большим желтым янтарем.
– Яснее-ясного – брежу, – проронил тот.
– Не ходи, Ванечка, в Ташкент. Там холера. Поезжай обратно, отсидись месяцок-другой в Асхабаде или в Баку. Пусть минует свирепая болезнь, потом приедешь.
– Наверное, никогда мне не забыть этого лица. Всю жизнь преследовать будет. Даже сюда, в Каракумы, забралась.
На что видение вновь спрятало лицо под покрывалом.
– Я принимаю облик того, чего мой гость больше всего боится. Была я семиглавым львом, и горящей птицей Симург, и котелком с раскаленным свинцом. Но чтобы красавицей-девицей – это впервые. Бери из этой пещеры золота сколько сможешь унести и возвращайся в родные края. Скажешь, был в плену на барсакельмесских островах… – заговорила она обиженно, а потом вдруг всхлипнула и добавила. – Оставила бы я тебя здесь, но к людям, видно, нужно поспеть – горишь весь. Ладно, Юлбарс проводит.
«Горю, – прошептал Иноземцев, потрогав лоб, – и вправду горю…»
Открыл глаза – кругом солнце, горячий песок и бело-голубое небо без единого облачка. Ни воды, ни озера с осокой по берегам, ни ялика, и самое удивительное – ни единой души из шайки бродячего тигра. Кряхтя, поднялся, снял очки – те сплошь побитые, одно из стекол на ладан дышит, вот-вот из оправы выпадет. Вспомнил про удар в затылок, дернул подбородком – замутило, но желудок был пуст – свело спазмом, и все на том. Потянулся рукой сначала к плечу – рукав оторван, глянул на руки – оба рукава оторваны, потянулся к голове – та перевязана грязной, насквозь пропитанной кровью тряпицей. Под прожженными волосами – сухая корка засохшей крови. Вспомнил и то, как затылок прижигали. И когда это было? Сегодня? Вчера? Неделю назад?
Повращал глазами, покрутился волчком – солнце в зените. А где юг, где запад, где восток, нипочем не разберешь. И стоял так, замерев, едва не с четверть часа, воспоминая-соображая. Горячий ветер обдувал лицо. Мысли все вперемешку – то пери вспомнит с лицом Ульянушки, то тигриную морду, то голос из мегафона Эдисона, эхом отдававшийся в стенах пещеры, то резкие, гортанные команды на тюркском.
Ну что дивиться да руками разводить – бросили помирать среди пустыни, надоело возиться, поняли, что живым не доедет до невольничьего рынка. А пери с лицом Ульянушки – приснилась, как и пещера Али-Бабы, и сокровища, и сталактиты, и озеро… Такое только в сказках бывает да во снах бредовых.
Надо идти. Быть может, где-то рядом то самое озеро с яликом, или море, или река, или мираж…
Но словно в подтверждение мыслей доктора или в насмешку над его надеждами вдалеке блестела полоска воды. Давеча озеро-то доктор принял за мираж, а мираж взял да целым морем обернулся, отчего сейчас не принять мираж за озеро, идти ведь все равно некуда. Снял остатки кителя, повязал им голову и двинулся в путь.
Сделал пару верст, вдруг видит впереди, на бархане, человек спиной сидит, весь с головы до пят в белом, только на макушке ярко выделяется круглый черный венец.
– Эй! – протянув руку, прокричал Иван Несторович.
Человек поднялся, покрывала его красиво на ветру развеваются, точно у Спасителя в Аравийской пустыне. Иноземцев припустился бегом, а Спаситель шагнул вниз и исчез, словно сквозь землю ушел, прямо под жаркие пески.
Эх, показалось!
Иван Несторович до холма дошел, на самый верх взобрался, чуть ли не по колено утопая в песке, глянул вниз – дюны и барханы справа, барханы и дюны слева, чуть тронутые тонкой извилистой рябью, а меж ними и небом лента горизонта сверкает, маня голубизной реки. Нарочно Господь Бог эти миражи придумал, чтобы духом не падать.
Еще версту осилил и ниц повалился без сил. Солнце спину обжигало, песок во рту, в глазах, в нос забился, ни вдоха, ни выдоха не сделать… Вдруг слышит сквозь дрему голоса – не иначе как брань басурманская вперемешку с тигриным рыком. Глаза открыл – глядь, а он снова верхом, да только лошадь его не едет, а на месте стоит, копытами перебирает.
Что это такое происходит? Что за шуточки! Минуту назад никого не было. Голову поднял: песка нет. Кругом опять лёсс и верблюжьи колючки, как у станции подле Артыка. Разбойники переругиваются, один даже саблю достал, тигр телом к земле прижался, будто перед прыжком оскалился, кончиком хвоста бьет по земле. Иноземцев поискал глазами полосатый халат атамана. Тот восседал верхом, важно скрестив руки на груди, глаза его – светло-золотистые, как два янтаря, грозно посверкивали на загорелом лице, по-прежнему наполовину замотанном платком.
Он зорко следил за развивающейся ссорой, но молчал, никоим образом не проявляя ни тревоги, ни беспокойства.
Поправив очки на носу, Иван Несторович наконец заметил, из-за чего склока: один из басмачей лежал в пыли, руки-ноги раскинув, и не двигался. Что могло с ним произойти – лишь бог ведал, но едва в Иноземцеве проснулся врач, готовый оказать помощь, атаман направил свою лошадь к его, и одним мощным ударом в плечо едва не сшиб с попоны.
– Давола уни![13 - Лечи его!] – гаркнул он.
Иван Несторович сполз на землю, но до недвижимого басмача так и не дополз. Ну что за дикари? Зачем было так больно бить в плечо, опять спазм подкатил к горлу, звезды заплясали пред взором, кругом закружилась голова, и пространство почернело.
Иноземцев зажмурился, одной рукой зажав рот, чтобы предупредить очередной приступ рвоты. И все померкло.
Открыл глаза – лежит на спине. Его все еще продолжало качать, но обдувало свежестью, пахло тиной. Притянул к лицу руку, вернул съехавшие набок очки, перед глазами простерлось черное полотно ночного неба с россыпью звезд. И были эти звезды так низко и так живописно мерцали, что непременно захотелось поднять руку. Всецело полагая, что видит сон, поднялся на локте и потянулся к самому яркому из небесных бриллиантов. Вдруг основание под ним дернулось, будто живое, стало ходить ходуном вправо-влево, будто то было огромное тело дива-великана. Доктор быстро пришел в себя, с глаз слетел сон, он успел заметить, что находится на длинной лодке, которую здесь именовали «каюк», две фигуры на носу, одну – с веслом, другую – восседавшую на мешках. И повалился в воду. Все тело прожгла судорога. Плыть он не смог, даже если бы умел.
– ?ой, ?арагин! – донеслось сверху. – У сувга йи?илди[14 - Эй, смотри! Он упал в воду.].
Раздался всплеск совсем рядом, кто-то подхватил Иноземцева за воротник, больно дернув гудевшую болью голову.
– Кyтар![15 - Поднимай!] – оглушительно проорали в ухо. Иноземцев не хотел утонуть, лицо заливала вода, тело было точно свинцом налито.
Он собрался с духом и попытался ухватиться за низкий борт плоскодонки. Зажмурился от усилий.
А когда вновь глаза открыл, пригляделся – оказалось, судорожно сжимает корявый корень саксаула, все ладони об нее изодрал. Завертел головой – снова в пустыне один. Сумерки. Через минуту-другую солнце совсем закатится за горизонт, только ветер шелестит в шапках иссохших кустов.
Как же так?! То желто-бурое одеяло кругом, то эти шапки да кривые деревца, корни которых порой выглядывали из песка причудливым змеиным клубком, то вода. Чудеса!
Иноземцев поднялся на колени, принялся ощупывать себя, одежда сухая, воды вокруг ни капли. Приснилось, что ли?
– Ванечка… Ванечка! – завыл ветер.
Слышал Иноземцев, какие правдоподобные миражи рисует пустыня, что даже опытные путешественники порой становятся жертвами ее проказ, но чтобы до таких степеней, чтобы глаза открыл – в одном месте, глаза закрыл, снова открыл – в другом оказался, кто рассказал бы – ни за что б не поверил. Хотел встать да пойти, но голову на песок склонил, внутренне смирившись, что тщетны его усилия. Тут опять ветер в кустах, дразнясь, зашуршал:
– Ванечка, вставай, идем!..
Ванечка послушно встал, покачался и опять лицом вниз. Думал, в песок мягко упадет или хотя бы в прохладные воды канет, но грохнулся на пересушенный лёсс. Вот опять двадцать пять – лежит, удивляется: только ведь на песке лежал, теперь жесткая почва лёсса.
– Вези меня, ковер-самолет, до Ташкента, – проронил он.
Вдруг по щучьему велению, по Ивана Несторовича хотению, лёсс закачался и взмыл ввысь. Ветер волосы трепет, лицо обдувает. Глаза открыл – медленно перед взором проплывает пустыня, меняя очертания пейзажа, точно картинки ручного кинетоскопа. Отрезвленный столь странным видением, кое-как поднялся, но, закачавшись, повалился за край ковра-самолета. Казалось, сейчас взовьется ввысь, словно птица, но лицом ухнул в песок. Взгляд его скользнул вправо, потом влево. Не на ковре-самолете он летел, то была арба с огромными колесами, запряженная осликом, которым погонял человек в белом, что впереди него маячил. Человек почувствовал, что за спиной повозка дернулась, обернулся, а это и не человек вовсе, а пери барсакельмесская с лицом Ульяны. Поспешно оставив вожжи, волшебница бросилась помогать доктору, подняла его, на арбу усадила.
– Держись за край, не вставай больше. Нельзя на песке лежать – тарантул за нос тяпнет или скорпион. Сейчас до аула довезу, там люди.
– Зачем люди? – улыбнулся Иван Несторович глупой опьяненной улыбкой. – Ты же пери, оберни пустыню оазисом, пусть сейчас на этом самом месте фонтан чистой воды из-под земли забьет.
– Шутите, Иван Несторович? Видно, сильно вас Обид стукнул. Вай-вае.
– Нет, что ты, какой шютка, – с напускной серьезностью ответил Иноземцев, закрыл глаза и в сон провалился.
Глава III. Обещание
– А потом я у вас очутился, – закончил Иван Несторович.
Маленький текинец повернулся к остальной ребятне и стал поспешно переводить на тюркский последние слова русского доктора, жарко жестикулируя и прерывая рассказ восхищенными междометиями. Десятилетний сын лейтенанта туркменской конной милиции уже два года учился в чарджуйской русско-туземной школе, хорошо владел русской грамотой, был прилежным учеником и готовился занять место подле отца и старших братьев в полку.
По правде сказать, Иноземцев сам не знал, что из рассказанного им же самим было, а чего не было, он даже не знал, который сегодня день и какое число. И теперь, лежа в кибитке гончара на коврах среди вышитых узорами текинских подушек, с перебинтованной чистыми полотняными бинтами головой, внезапно обнаружил в себе дар сказочника. Ежедневно он тешил любопытство местных ребятишек байками захватывающего содержания о гостеприимстве таинственного Юлбарса, никому не открыв, однако, что на самом деле это было не атамана имя, а тигра, чтобы не портить легенды. Так, поди, рождаются все мифы и предания на земле. Ни за какие богатства бы не признался доктор в своем приключении, если бы проницательные жители аула Кара-Кудук не догадались, что пассажир товарно-пассажирского поезда, несколькими днями ранее ограбленного бандой Бродячего Тигра в нескольких верстах от Уч-Аджи, и есть спасенный ими русский табиб.
Вот как история спасения Иноземцева звучала из уст туземцев.
Вдалеке, на самом высоком песчаном холме, в час заката вдруг показалась арба, запряженная осликом, украденная накануне ночью у гончарных дел мастера, – раз в неделю на сей прекрасной колеснице тот свозил горшки в Чарджуй. Под уздцы ослика вела воздушная фигура в белом, одежды ее развевались на ветру, пронизанные лучами заходящего солнца. Бросились люди к холму, а фигура рассеялась в предзакатном мареве, оставив арбу с Иноземцевым. Все тотчас же поняли, что пред ними сама барсакельмесская пери являлась, которую, по древней легенде, коварный сын персидского шаха – Юлбарс – запер на барсакельмесском острове посреди Аральского моря и ныне, завладев ее душой и сердцем, мучает шантажом и заставляет пособлять в своих набегах.
Уже год минул, как она впервые появилась в здешних краях, а увидеть пери не чаяли текинцы с самых незапамятных времен. С весенним цветением пустыни явилась. Давно уже ни пери, ни дивы, ни гуль-джинны не спускались на землю, не показывались простым смертным. А тут вдруг повадился восточный ангел по пескам шнырять, да не просто так усталому путнику он являлся, готовому любое движение нагретого воздуха принять за спасительный оазис, а возникал он в белых, летящих одеждах на платформе железной дороги перед едущим поездом, перед караванами появлялся, у аулов. Машинистам приходилось состав останавливать, караванщикам замедлять ход вереницы верблюдов, в аулах люди из шатров выскакивали – поглядеть на чудо-деву. А в ту минуту Юлбарс нападал, грабил молниеносно и уходил. И слова поперек сказать не могли, потому как с ним завсегда тигр был, готовый растерзать на части любого, кто хоть движением неловким обратит на себя звериное внимание.
Разное люди говорили о разбойниках этой таинственной шайки. Но то были не аламаны, текинские разбойники – с приходом русских все почтенные аламаны поспешили записаться в конный полк и больше не грабили почтенных аульцев, а напротив, защищали их хозяйство от вторжения персов. То были не персы, ибо хоть и ходил слух, что Юлбарс – персидского правителя сын, а сами басмачи порой в кандурах щеголяли, закаспийское правительство его опровергло, ибо у Насреддин-шаха, кроме сорокалетнего Мозафереддина, генерал-губернатора Азербайджана, живущего в Тебризе, больше сыновей не было.
Запросы делали в Мервский, Самаркандский, Кокандский и Ташкентский уезды, где Юлбарс тоже пошаливал, но бухарцы, хивинцы и кокандцы клялись-божились, что Юлбарс – туркмен, ибо носит тельпек и машет кривой саблей.
Хитрецом еще тем был Бродячий Тигр. В одном месте что-нибудь натворит и исчезает, появляется за тридевять верст от него, меняет костюмы своим разбойникам и под личиной соседа творит произвол. У реки Теджен они бухарцами прикидывались, в горах Чимгана – текинцами, а у Каспия в тюбетейках щеголяли или в островерхих киргизских шапках. Оттого и было у Юлбарса сто легенд и сто личин, одной лишь неизменной чертой оставался – дрессированный тигр.
А тигр этот тоже был аки призрак. По всему побережью Амударьи, где обитали туранские тигры, победным маршем прошлись русские солдаты, отстреляв почти все особи полосатых кошек весом аж до пятнадцати пудов, но Юлбарс все равно всюду являлся со своим неизменным хвостато-усатым спутником.
Поймать его было абсолютно невозможно, степи да пустыни столь широки в этих краях, что слухи о нападениях быстро таяли, из были тотчас превращаясь в легенду. И никто не мог разобрать, чьих рук грабеж – действительно ли Юлбарса или какая другая шайка басмачей заявила о себе, а таковых ведь было тоже немало.
Потому Иноземцев, явившийся в аул едва не под руку с барсакельмесской феей, тотчас стал объектом для расспросов. Счастливый гончар Максуд, которому вернулась его арба, тотчас умирающего, с повязанной головой спасенного, проявив верх восточного радушия, обустроил в собственной кибитке. И отправился в железнодорожное управление, в штаб-квартиру начальника Чарджуйского уезда, ротмистру Полякову, чтобы заявить о находке. Ротмистр, из уральских казаков, отдыхал тем временем в Асхабаде, а, может, по обыкновению своему стрелял джейранов в Байрам-Али, еще не воротился на свой участок. Потому Ивану Несторовичу и пришлось коротать время, потчевать сказками текинских детишек. Он даже пробовал лечить их от трахомы, когда немного оправился.
Его очки были совсем разбиты, но кое-как их наладив, где бечевкой, где просто остатки стекол соединив и, как следует, их к оправе прижав, он смог осмотреть местную детвору.
Все поголовно ходили с красными, гноящимися и опухшими глазами, у иных веки были вывернуты едва ли не наизнанку, ресницы росли внутрь, раздражая и без того измученную слизистую роговицы. Иноземцев сам очень страдал без зрения, и страдал воспалениями, когда пробовал использовать роговичные протезы.
Малые дети были почти слепы, все в язвах и страшных нарывах. А инструменты, мази, порошки, которые Иван Несторович заготовил перед поездкой в Петербурге, – все осталось в поезде или было украдено басмачами. Даже дезинфицирующего раствора он не смог изготовить, находясь в кибитке гончара. До города Чарджуй сотня верст, не меньше. Потому он обходился настоями растущей в горах календулы, что собирали местные женщины, и обычной водой из Амударьи, которую по его наказанию отстаивали и тщательно кипятили. Да и пробовал внушать ребятне любовь к чистым рукам и лицу, заставляя их умываться по несколько раз на дню.
Что спасенный русский путешественник – умелец врачевать, стало известно всей округе. Местное население облепило кибитку гончара, и днями и ночами не давало Иноземцеву покоя. То с нарывами приходили, то с вывихами, которые неправильно до того вправляли, то с себореей, то с рожей, то с лишаем. Иноземцев как мог старался помочь больным, но в полном отсутствии условий это было не только невозможно, но и чревато. Он рисковал в несколько дней получить с десяток кожных заболеваний, лечить которые не взялись бы и самые маститые врачи Европы, иные ведь заканчивались смертельным исходом. Не говоря о том, что он едва не выл от всесторонней оккупации вшей, блох и клопов.
Работы здесь было на несколько жизней вперед хватит. А не послушать ли барсакельмесскую пери и не повременить с отъездом в Ташкент в пользу здешних ребятишек? Кроме того, от трахомы у Ивана Несторовича имелось если не лекарство, то идея сотворить такое средство, которое бы позволило снять воспаление с роговицы.
Дело в том, что пока Иван Несторович готовился к сражению с концерном «Фабен»[16 - Читайте об этом в романе Ю. Нелидовой «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).], он долго размышлял о том, отчего немцам пришло в голову изготовлять лекарства на основе красителя анилина, и он решил сотворить с анилином то, что он сотворил с даурицином. Он ацетилировал его. А следом нитрировал, гидрировал, соединял с бромом, соляной кислотой, хлорной известью. Надышался парами и едва не заработал токсическую желтуху! Полученные вещества испытывал на кроликах. Оказалось, что один из порошков производной анилина хорошо справлялся с воспалительными процессами.
Теперь же, вспомнив о своем опыте, он решил попробовать лечить ацетилированным анилином трахому, а, быть может, и иные инфекционные заболевания. Тем более что текинцы нескончаемым потоком шли к нему, уже даже с бухарской границы – сарты, которые называли себя узбеками и таджиками – стали являться к нему на прием. Бедное туркестанское население погибало от всяческих неизведанных бактерий, которым жилось вольготно среди песков под жарким солнцем.
В несколько дней он обрел популярность волшебника. В конце концов, туземцы потребовали от него неосуществимого. Привели семилетнего мальчика, который, видимо, с рождения не имел левой руки – осталась лишь небольшая культя чуть ниже плеча. Он был сиротой, как и трое его братьев и две сестры. По невнятным объяснениям туземцев доктор понял, что он приходился племянником тому самому гончару, что его приютил.
– Надо новую руку, – перевел сын лейтенанта конной милиции. – Спрашивают, сможете ли вы пришить ее?
Иван Несторович взглянул на ребенка – маленький, круглощекий, с большими черными глазами и курчавыми волосами так жалобно и с таким ожиданием смотрел на него. Небось поспешные, бойкие туземцы уже успели расписать с три короба о чудесном выздоровлении – когда еще им выпадет удача побывать на приеме настоящего доктора.
Доктор же не смог найти слов, дабы объяснить, что ничем не сможет помочь. Ошеломленный просьбой, он замер, глядя на мальчика. Но гораздый на фантазии разум Иноземцева, всегда бегущий впереди паровоза, тотчас забурлил, перемалывая возможные вероятности сотворить новую конечность.
– Да… почему бы и нет… протезирование… возможно, механическими приспособлениями, например, лебедки, крючки, струны, каучук… – перечислял он вслух, без зазрения совести вспомнив, как однажды обещал вылечить паралич гипнозом и что сей эксперимент, если отбросить непривлекательные нюансы, весьма удался. – Может, попробовать… поймать электромагнитные волны мышц сгибателей… Вот если бы научиться выращивать кожу, как растят фузарий в чашах Петри, если бы можно было выковать из стали костный состав, а мышцы… сухожилия… нервы сработать из… Или вовсе трансплантировать конечность.
Иноземцев замолчал, вновь замерев. Уставился в одну точку, даже стянул с лица очки. Явилось доктору удивительное воспоминание, как рассказывал Ульяне свою теорию об электромагнитном поле, остающемся после смерти человека, которое невежды принимают за привидение. Машинально он провел ладонью под культей, словно надеясь, что сможет поймать эти неуловимые простому глазу человека излучения. Ведь давно известно, что человек, лишившийся конечности, продолжает чувствовать ее фантомно.
– Электричество, – проронил он. – Животное электричество.
Туземцы окружили доктора, они смотрели на него, затаив дыхание, словно чувствуя или заметив по его восторженно-удивленному выражению лица, что, возможно, сейчас, сию минуту, он на грани гениального открытия, а, значит, сможет подарить малышу новую жизнь и будущее. Ведь как без руки-то жить? Ни коня оседлать, ни подковать, ни арбой править, и уж тем более никогда не сесть за гончарный круг. Да и кто за однорукого-то замуж пойдет, бравому джигиту как минимум двух жен положено иметь. А русские, это ведь почти англичане, они все могут, все знают.
Иноземцев мотнул головой, придя в себя.
– Опять очередная безумная идея. Это неосуществимо! – воскликнул он и с безнадежным вздохом добавил: – Трансплантировать!.. Сколько раз с Трояновым пальцы пытались пришивать, не приживаются…
– Так у вас не выйдет? – осторожно спросил сынишка лейтенанта. – Посмотрите на ящерицу, она умеет новый хвост отрастить. Помогите Дауду, вы же настоящий доктор. Дауд гончаром стать хочет, как его дядя Максуд, но без второй руки никак не получится даже кривой пиалы слепить.
Иноземцев вернул очки на нос.
– Пиалы? – в наивном недоумении пробормотал он. – Ящерица? Так то ящерица… Это ведь типичная репаративная регенерация в отличие от физиологической, присущей человеку. Да, такое бывает у ящериц, головастиков, креветки умеют отрастить себе новые антенны…
Но запнулся, оглядев толпу сквозь побитые окуляры, хотел было продолжить, объяснить, что человек еще не научился отращивать себе конечности, что способности его регенерации очень скудны, что можно в крайнем случае сконструировать протез, но понял – его не поймут. Туземцы ждали однозначного ответа: либо да, либо нет.
«Нет» он сказать не хотел.
«Да» он сказать не мог.
– Я подумаю об этом… – нашелся наконец Иноземцев, а туземцы расценили это как «да».
Кибитка сотряслась от радостных восклицаний, мохнатые бараньи шапки полетели к потолку.
На прощание для доктора устроили самый настоящий пир с песнями и плясками в обширном жилище старейшины аула. Позвали именитого бахши, четырех музыкантов. Хотя Иван Несторович умирал от усталости, ведь был еще очень слаб после сотрясения, но отказать не мог, когда его повели на самое почетное место у дастархана в шатре аксакала. Пришлось Иноземцеву, привалившись спиной к ковру на стене, чтобы не упасть, смотреть, как феерично пляшут под куполом лихие текинские джигиты, потрясая мохнатыми папахами и звеня стальными шпорами, как бойко кружатся их жены и сестры – темнобровые текинские дамы, слушать, как плачут струны гиджака под смычком совсем юного певца-бахши, обладателя звонкого сильного голоса, до того пронзительного, что первые два часа Иноземцев едва не оглох и мучился вновь охватившей его головной болью. Но к полуночи доктор смирился и даже нашел в этой заунывной, жалобной музыке особое очарование. Бахши по обычаю начинал свою песню с заходом солнца, а заканчивал к восходу, иногда отдыхая, подносил к губам пиалу, которую в соответствии со строгими правилами всюду носил с собой на поясе в специальном чехле.
Слушал Иноземцев, а мыслями был далеко. Взглядом искал среди толпы однорукого малыша. Видел он, как старшая сестра на радостях тогда подняла его на руки и что-то восторженно застрекотала по-тюркски, гладила по плечу, заставляя ребенка сиять от счастья. Сердце доктора сжималось все больнее и больнее. Весь вечер, всю ночь и все следующее утро, пока за ним не приехали солдаты из Чарджуя, он пытался вспомнить, какие новые труды выходили в последнее время в мире науки, какие открытия сделали намедни в областях физики, механики и медицины. И пожалел, что сейчас не в Париже, пожалел, что не свободен, пожалел, что швырнул в море миллионы франков, которые можно было обменять на книги, инструменты, реактивы.
Мало-помалу Иноземцев стал возвращаться из прострации в прежнее состояние ученого, живущего научными идеями, который питается ими аки воздухом. Новая, внезапная и любопытная идея на мгновение оживила его, одновременно подействовав как ледяной душ. Ведь до того безумие овладело его разумом, что луноверин свой отстоять не смог, потерял лабораторию в Париже, общество ученых в Институте Пастера. И все-то его несдержанность, порывистость, необдуманность, склонность к фантазиям и непомерно богатое воображение. До чего докатился! Жил в Европе, был уважаемым человеком, доктором с двумя сотнями пациентов, статьи в журналы научные писал, прививками занимался. Опозорил месье Пастера этой своей ребяческой выходкой с кроликами[17 - Читайте об этом в романе Ю. Нелидовой «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).], стыд да позор. Как он теперь посмотрит в глаза почтенному французу, открывшему прививку не для баловства ради, а во имя жизни?
Чудака Герши под угрозу ареста подставил, Ромэна едва не убил… Откуда в нем столько жестокосердия, столько ненависти набралось? Стрелять в человека!
А Ульяна? Погубил ее… Да пусть трижды, сотню, тысячу раз она заслуживала смерти, но как мог он безжалостно натравить на нее полицию, на сиротку без воспитания, оборвыша в душе, ребенка!
С ужасом вспомнил Иван Несторович, какую она заботу к нему проявляла, как из тюрьмы барменской помогла выбраться, как под руку держала, пока он во власти анилиновых паров боролся с приступами головокружения, будто сиделка за ним смотрела, пока он, позабыв обо всем на свете, погрузился в спешное изучение анилина. Быть может, она была готова исправиться, быть может, впервые в жизни правду говорила, обещание давая, что послушной станет. А он не поверил!
Стыдно стало Иноземцеву, что поступил с девушкой непростительно жестоко, возложил на себя права правосудие вершить, наказать хотел, чтоб неповадно стало. А что теперь с нею? Где она?
Уж дай бог, сумела избежать тюрьмы, укатила куда-нибудь в свой Техас. Ульянка смышленая, что-нибудь да придумала. Лишь бы больше мышьяк не пила и жила счастливо.
С болью в сердце Иноземцев понял, что больше ему не увидеть свою неудавшуюся супругу, да и на ком другом жениться он зарекся. Что до него – негодяя и чудовища – не зря сослан в пустыню, где и помрет. И если удастся, то займется исследованием трахомы и отыщет способ, как изготовить новую руку бедному Дауду. Пусть даже всю жизнь искать придется. Раз обещал, обещание надо сдерживать.
И потому, когда пришлось с текинцами прощаться, он дал слово приехать вскоре. Покинул аул с надеждой, что начальник Чарджуйского уезда разрешит вернуться с инструментами и необходимыми медикаментами. Тем более что солдаты оговорились, мол, багаж его нетронутым в пассажирском вагоне того злополучного поезда остался. А там были редкие инструменты и парижский микроскоп его личной сборки с пятилинзовым объективом, что немало обрадовало Ивана Несторовича.
Господин Поляков принял Иноземцева в собственном доме с радушием, ничем не уступающим текинскому. Лучшую комнату выделил, личную прислугу приставил. Выкупали, накормили и спать уложили, за чем строго проследила супруга – бойкая казачка Евгения Петровна. А сам за доктором из железнодорожного управления в соседнее селение отправился, дабы тот осмотрел голову, хотя Иноземцев отнекивался и заверял, что уже все почти зажило.
Домочадцы ротмистра ахали и охали, когда увидели несчастного Ивана Несторовича в разорванной рубашке, всего перепачканного в крови и грязи, с перевязанной головой. Величали счастливчиком. Ведь был доктор единственным, кто Юлбарса самолично видел и живым от него воротился. Хотя не все железнодорожное общество в чудную легенду его спасения верило. Доктор Корбутт, пока голову Ивана Несторовича осматривал, всего вопросами измучил, мол, и как выглядит этот «бродячий тигр», и сколько у него народу басмачей подручных, и был ли зверь, и какой он из себя?
Иван Несторович не успевал отвечать на расспросы врача, тот не дожидался ответов, сам их давал, строя собственные предположения и делясь догадками, весьма, как ему казалось, аргументированными. В конце концов, ушел с абсолютной уверенностью, что текинцы опять впали во власть легенд собственного сочинения, а спасенный Иноземцев не мог в таком состоянии что-либо осознать и запомнить. Даже обещал поговорить с начальником управления, чтобы Александр Минаевич не слишком терзал допросами, мол, ничего не попишешь, и показания вновь не приведут ни к чему, кроме трат и тщетных попыток сыскать в поле ветра.
– Слава богу, не было никакого Юлбарса, – утешал доктор Корбутт, складывая свои инструменты в сумку. – Обыкновенные басмачи. Хорошо, что поспели прижечь задетую артерию. Вы, Иван Несторович, на волосок от смерти были. Это чем же они таким вас огрели-то? Не иначе прикладом. Вас головокружения не мучают уже? Тошнотой не страдаете?
– Нет, – соврал Иноземцев.
– Ну, стало быть, серое вещество на месте, – сыронизировал Корбутт.
Иван Несторович равнодушно пожал плечами, не стал доктору жаловаться на здоровье. Лишь, когда тот уходил, остановил и спросил, как долго до Туркестана доходит корреспонденция и выписывают ли они из России и Европы какие-нибудь научные журналы. На что получил весьма неутешительный ответ:
– По три, а то и по четыре месяца ждать приходится.
Глава IV. Призрак Элен Бюлов
Ротмистра Полякова Александра Минаевича очень разбирало любопытство, как, впрочем, и все остальное железнодорожное общество, да и протокол-то надо было составить и начальнику Закаспийской области, Алексею Николаевичу, генерал-лейтенанту Куропаткину отправить о подвергнутом нападению поезде. Но не хотелось ему – от природы человеку сочувствующему и добродушному – терзать душу и сердце господина Иноземцева сухими уставными речами и допросами. Поэтому он решил сначала расспросить доктора за ужином в веселой компании, созвав своих коллег на помощь. За столом собрались: шумный казак капитан Чечелев, батюшка отец Иордан, геодезист Максимович, инженеры Пузына и Бенцелевич и доктор Корбутт, а супруга Полякова то на стол накрывала, то на фортепьяно наигрывала, вставляя бойкие свои комментарии в общий разговор. Ей это было простительно, ибо она с сотни метров в туза попадала, а уж что там острое словцо – можно было и простить.
Но Иноземцев молчал весь вечер и едва ли пару раз рот раскрыл, как честная компания уездного начальника того ни пытала.
– Это, конечно, большое несчастье, – говорил Бенцелевич, взявший на себя смелость первым начать разговор в нужном, всеми ожидаемом русле, – приехать в такой край исключительный, дивный и сразу ознакомиться не с самой приятной его стороной.
Иноземцев, получивший свой багаж и оттого почувствовавший себя несколько лучше в зеленом форменном сюртуке, надетом заместо своего белого кителя, искромсанного на бинты и потерянного в песках Каракумов, глядевший на мир через новую оправу, едва услышав, что зашла речь о его приключении, опустил глаза и покраснел. Ведь откуда этим почтенным господам было ведомо, что особенность у него была такая, проклятье, наверное, – попадать во всякого рода переделки. Не был бы он доктором Иноземцевым, если бы не познакомился с разбойничьей шайкой и тигром Юлбарсом. И смех и грех.
– Но вы еще успеете полюбить Туркестан, – утешал инженер. – Люди здесь добрые, сердечные, работящие, каких во всем свете белом не сыщешь, последнюю кроху отдадут ближнему, и оттого им чуждо воровство, стяжательство. Восток! Верите, нет, но я дверей своего дома на ночь не запираю. Собака есть, и все. Хоть раз кто б пожаловал! А весна… Весна здесь какая красивая, в предгорьях такие фазенды. Уж чего стоят угодья госпожи Польджи, жены бывшего мервского хана. А сколько здесь дичи: гуси, лебеди, утки; пернатые сюда на зимовку со всей России слетаются.
Иноземцев растянул губы в подобии улыбки, отчего-то вдруг ощутив себя весьма не в своей тарелке. Сидел как неживой, оттого что головой двигать не мог, только взгляд переводил от лица одного собеседника на другого. А все на него в ответ смотрели глазами жадными, пронзительными. Уж лучше бы оставался на коврах кибитки гончара, ребятне сказки рассказывать куда приятней было, чем праздное людское любопытство удовлетворять. Ох до чего люди жадны до чужого горя, до зрелищ.
Хотел доктор ответить вежливо, но получилось сухо: «мол, я против того, чтобы птицу отстреливали, и сам давно дичи в пищу не употребляю».
Брови от удивления поползли вверх у всех, даже у отца Иордана, но тот вовремя себя одернул и принялся за длинный хвалебный панегирик. Пришлось Иноземцеву рассказать и то, что, будучи в гостях в ауле Кара-Кудук, питался исключительно чуреками и зеленым чаем, что даже знаменитый текинский рис с бараниной не отведал. Господин Пузына и капитан Чечелев стали иронизировать, ставить под сомнения слова доктора, мол, не верим, текинцы нрава бойкого и очень не любят, когда их традициями пренебрегают. Отказаться от «пилова» – да где это видано!
Если и ранее железнодорожное общество опасалось не разговорить господина Иноземцева, то после такого заявления с его стороны и вовсе все потеряли всякую надежду узнать хоть что-то про Юлбарса. Если уж у текинцев баранины не отведал! Суровым, должно быть, человеком был.
Господин уездный начальник не отчаялся, взял инициативу в свои руки, стал давить на жалость, думал, доктор сам догадается, что пролить свет на совершенное посреди железной дороги преступление будет с его стороны большим вспоможением.
– Хоть народ здесь и добродушный, но не без происшествий, – со вздохом начал он. – Хорошо вам, господа, живется, вы двери на ночь не запираете. А вот знали бы, сколько знает уездный начальник, должный полицейские обязанности по всей железнодорожной платформе исполнять на цельные двести восемьдесят шесть верст, тогда б не то что запирались на три замка, тогда железными оковами двери одели, навроде кованых бронзой ворот Оханин в Самарканде, которые, по легенде, ни один враг не мог сломать. И сон всякий бы потеряли.
– Да ладно, Александр Минаевич, говорить уж. За сколько лет впервые поезд басмачами остановлен, – не стерпел Чечелев. Капитан всегда говорил много и громко, но сегодня в обществе таинственной фигуры врача, сидящего с отрешенным видом, все на него шикали и грозно поглядывали, мол, не пугай нам гостя, и без того он неулыбчивый и серьезный. Еще чего, покинет дом неловким словом задетый, и поминай как звали, так о Юлбарсе ничего и не узнаем.
– Ну, этот… – протянул Александр Минаевич, – в Чарджуе, может, и не останавливали, а в других уездах – сплошь и рядом. Сколько жуликов развелось… Не Туркестан, а прямо Дикий Запад какой-то!
Поляков не без удовольствия заметил, как доктор вскинул глаза на него при слове «жулик» и судорожно дернул подбородком.
– Был у меня случай, – поспешил закрепить полученный результат Александр Минаевич. – Аж восемнадцать арестованных! Напрасно арестованных. Столько слез, столько плача… Но это не моя вина, а господина подполковника Иванова. А жулики попались изворотливые, так их и не поймали. Двое работали. Чисто, я вам доложу.
Иноземцев впился взглядом в начальника уезда. И сердце его зашлось барабанной дробью. Ведь понимал он умом, что не добраться до песков каракумов-кызылкумов ни Ульянке, ни Ромэну. Да и что они бы здесь делали? Такой климат, такая грязь и нищета, но отчего-то неспокойно ему стало. Надеялся, что хозяин не станет дальше продолжать, но тот был решительно настроен сегодня помучить доктора полицейскими байками.
– Собирали они деньги в пользу вдов и сирот разгромленных аулов, причем воспользовались документом, якобы мною лично подписанным… Это ж надо, какова наглость! Где-то на границе бухарского эмирата сие происходило, на тысячной версте. Насобирали тысячи на три и не успокоились, дальше по кибиткам ходили, а когда их ловить начали, забрались ко мне в дом, унесли все подчистую: казенные деньги, серебро столовое, оружие текинское, которого у меня была огромная коллекция. А потом испарились, будто мираж. Я даже шороха не услышал, хоть всегда и держу под подушкой заряженный «смит-энд-вессон». Ночью! Вот какие мастера бесшумного дела.
– Вы их так и не поймали! – проронил Иноземцев не в вопросительной даже, а в какой-то отчаянно-восклицательной интонации.
– Нет, но были это – что уж я доподлинно знаю – проклятые социалисты-революционеры, которые не только деньги с доверчивых простачков собирали, но и партию свою пополняли новобранцами. Не знаю уж, как в столицах государства нашего дела обстоят, так ли, как газеты пишут, как слухами доносится, но чует мое сердце, все неспокойней и неспокойней там, раз уж революционеры и до Туркестана добрались, местных басмачей вербуют, чтобы перевороты учинять. А ведь покорные ныне беки – весьма непостоянные господа, они то аглицкое оружие скупают, то с персами беседы ведут. Вон из Джизака донесся недавно слух о восстаниях. Окажется партия революционеров сильнее и богаче, все – конец порядку. А мы здесь худо-бедно дорогу проложили, селения, школы строим, детей грамоте учим, ирригацию налаживать пытаемся. Ведь какой дивный край, какая почва плодородная! Не зря ж от индуса до японца, от француза до американца – хоть краем глаза, но на Закаспий все заглядываются. Думаете, здесь все – кругом одни пески да солончаки? Лёсс, если его питать правильно, многие тысячи прокормить способен. И хлопок, и фрукты-овощи… Цельные поля, версты, версты полей. Арбузы, дыни! Эх, что и говорить. Досадно будет, ежели какой-нибудь Юлбарс испортит такой благородный замысел.
Иноземцев внимательно слушал Полякова и внутренне, конечно же, ему и всему туркестанскому краю сочувствовал. Но сочувственные речи остались глубоко внутри самого Иноземцева и выхода наружу не нашли. Он молчал, продолжая смотреть на смолкшего хозяина, и даже не заметил той неловкой паузы, возникшей вследствие его отчужденности и крайнего, да еще за многие года окрепшего, человеконелюбия.
В мыслях вдруг стали совершенно некстати восставать образы, порожденные больным воображением брошенного среди пустыни умирающего. Чего только не привидится в таком состоянии под палящим солнцем! Но до того видения были яркие, запомнились ведь, как назло, заразой засев в мозгу. Ни дня не проходило, чтобы доктор не вспоминал пещеру посреди Аральского моря и лицо Ульянки-негодницы. А потом сразу же начинал хулить себя за безжалостность, вспоминая Дюссельдорф. Все равно, что родную дочь из дому выгнать! До чего его совесть теперь мучила. С каждым днем все сильней. Не лучше бы дал умереть от мышьяка… Где же она теперь? Где? Бесконечно глупо полагать, что как-то связано ее появление в пещере с Юлбарсом. А может, это происки этих самых социалистов-революционеров? Может, она примкнула к банде новомодного течения? Ведь в ее это духе, ведь жизни она спокойной не разумеет. Или она прознала, что Ивана Несторовича в Ташкент откомандировали, и за ним следом увязалась, месть замыслив. Какие последние слова она произнесла? Что принимает вызов и теперь из-под земли Иноземцева достанет, чтобы нож в самое сердце всадить.
«А ну и пусть, – мысленно махнул рукой Иван Несторович. – Пусть, уже ничего не страшно. Да и страх этот необоснованный. Юлбарс-то уже с год как просторы туркестанские набегами будоражит, и пери с острова Барсакельмес тоже давно являться стала, давно маячит в белом на железнодорожных путях… Но все же до чего это в духе Ульяны, ее почерк». С содроганием сердца тотчас припомнил Иноземцев выходки девушки в его квартире на Введенке у старухи Шуберт.
И подписки в пользу сирот – ее почерк, и облапошенный чиновник – ее рук дело. Если так продолжать размышлять, то все преступления мира она сфабриковала.
«Нет, нет ее здесь. Сказки все. Текинские туземные сказки».
– А что ж вы про гелиографы молчите? Расскажите про гелиографы, Александр Минаевич, – пришел на помощь инженер Пузына, видя, что гость сидит, совершенно не поднимая головы, и на Поляковы искусные поползновения никакого внимания не обращает. – Три штуки стащили, подлые разбойники. Так и не сыскали инструментов. А ведь пока новые выписали, пока их из-за Каспия прислали, несколько дней жили без сообщения с железнодорожным управлением, пришлось прервать экспедицию.
Иноземцев вновь дрогнул.
– Гелиографы? – проронил он, вспомнив, как с потолка пещеры на него вспыхнул свет каких-то замысловатых круглых прожекторов. Он ведь и не подумал сначала, что это могло оказаться зеркало гелиографа. Да и подозрительно число пропавших приборов совпадало с числом осветивших озеро лучей. Двое по бокам светили, один сверху.
– Мы ведь тогда в Кызыл-Кум отправились, меж Юз-Кудуком и Кара-Батыром подземные воды искали, и наши гелиографы были нам весьма необходимы, – продолжал инженер, обрадованный было всколыхнувшимся интересом доктора, но тот едва проронил слово, уткнулся взором в вышитые цветы на скатерти и уже о том, как в экспедицию ходили господа инженеры, он не слушал. Опять думал о своем.
Поляков поспешил подхватить рассказ господина Пузыны, в очередной раз предприняв попытку повернуть разговор в сторону Юлбарса.
– Вестимо, чьих рук дело, – безапелляционно заявил он.
– Бродячий Тигр! – выдохнула взволнованная Евгения Петровна, проявив удивительную догадливость. Сидела она за фортепьяно и, как и все, сверлила Ивана Несторовича ожидающим взглядом.
– Да, все они, разбойники здешние – бродячие, да и тигры – тоже все. Зверье оно и есть зверье, – загадками начал рассказывать начальник управления, видя, что страсти туркестанские Иноземцева нисколько не тешат, решил поведать ему диковинок из областей более занимательных, нежели политика и революционеры, а тут, глядишь, и выведем разговор на его загадочное пребывание у Юлбарса. Начальник железнодорожного управления, между прочим, не из простачков каких-нибудь, а с большим стажем работы в оренбургском жандармском корпусе, откуда переведен два года назад во владения текинцев, и не таких, поди, раскалывал, молчунов.
– У нас здесь нынче все с ума посходили, возвели этого призрачного мальчишку в ранг настоящего чудовища. И что о нем говорят? Фи! Мол, тигра приручил.
– Так разве это сказки? – отозвался геодезист. – Сами рассказывали, один из товарных вагонов поезда, что остановили у Уч-Аджи эти разбойники проклятые, весь в тигриных следах был. Зверь мешок с мукой вспорол, так и тянулся след белый от платформы по пескам на две сажени и след кровавый – тотчас же решили, что это вас, Иван Несторович, сей зверь и утащил в пустыню. И лапы, всюду лапы были. Рассказывали же, Александр Минаевич?
– Да прям уж лапы, – отмахнулся Поляков, хитро прищурил глаза и, поглядев на Иноземцева, с довольством отметил, что тот вновь встрепенулся. – У страха глаза велики. Сами сарты небось и натоптали. Я другое расскажу! Жил, говорят, лет эдак десять-пятнадцать назад сначала в Бухаре, а потом в Джизаке один удалец, коммерсант, некто Михайло Алексеевич Хлудов. Слыхали о таком, Иван Несторович?
Тот чуть повел головой справа налево, глядя на рассказчика в немом ожидании продолжения истории.
– Вот он был, царствие ему небесное, мастак со зверьем обращаться. Силен был, как Аттила, как Илья Муромец. Медведя держал в подвале, нет-нет устраивая с ним состязания. Потом ходил с изодранным лицом. По дому его запросто так волки бегали, как псы. Он мог их одной рукой за загривок приподнять, в глаза раз взглянуть – и все, волк поджимал хвост и скулил жалобно. У него и тигры водились. А точнее, тигр и тигрица. Не помню, как он любимицу-то свою величал. Сильва, кажись…
– Не Сильва, а Мирабель, – отозвался доктор Корбутт. – Пристрелил он ее – взбесилась. А тут еще один заклинатель змей давеча объявился. Не слышали?
Господа железнодорожники еще продолжали спорить об имени тигрицы господина Хлудова, других оригиналов поминать стали, наперебой друг другу что-то рассказывая, а коварный разум Иноземцева тем временем уже подливал масла в огонь, в три ручья подливал.
«Еще и тигр дрессированный, – не унимался внутренний страх Ивана Несторовича, – разве не Ульянкина способность приручать животных, точно индийский факир кобру? Она и гиену вырастила, и собаку, Грифона его увела, и с крысой явилась в немецкий отель. Что ей тигра приручить – как раз плюнуть. Неужто и вправду Ульянка – и есть хозяин Юлбарса? А что? Вполне и по росту, и по худощавости сходство они оба имеют, и глаза светлые. Сам ведь наблюдал, какие у сартов глаза, как у того почтенного старичка, что в горы Копетдага ехал и у Асхабада сошел. Чистой голубизны, только узкие и раскосые. Да, лицо чуть скуластее. Эх, жаль тогда совсем не разглядел, черт, этого неуловимого басмача. Да, Ульянка за два года изменилась, поди…»
«Нет, нет, – возразило благоразумие, – уж очень нелегко пребывать в вечных бегах по пустыне. На что ей такие трудности, коли можно в Америке жить себе припеваючи? Там она среди своих, таких же шарлатанов и авантюристов. Всю жизнь сознательную мечтала через океан махнуть».
«Но зачем же тогда басмачи со мной возились, рану прижигали?» – подало голос сомнение.
«А, известно зачем, – отмахнулась грусть-тоска, – чтоб подальше в пустыню завести и помирать бросить. Вот такая манера избавления от лишних свидетелей. Восточная.
«Нет, не восточная, а какая-то глупая манера, – фыркнуло сомнение. – Стукнуть по голове, не убить, увезти в пески и бросить».
«Значит, все-таки Ульянка это была с тигром. Отомстила небось, теперь радуется», – потирал руки страх.
«Какой же вы, Иван Несторович, батенька, фантазер, самому не смешно? – ярилось благоразумие. – А ежели да, то откуда тогда знать ей про холеру в Ташкенте?»
«Позвольте, но какая, к лешему, холера? – внутренне возмутился Иван Несторович. – С чего я вообще решил, что в Ташкенте холера, не направили же меня помирать в такую даль? Ведь гораздо было проще у стены расстрелом обойтись. Придумал холеру, вестимо, придумал, краем уха где услышал или, опять же, в памяти всплыло, ведь умирающая от мышьяка Ульяна во снах с тех пор неустанно является и постоянно про холеру твердит. Придумал холеру, смешно».
– А правду говорят… – сам того не понимая, как срывается с языка, начал Иноземцев, – что в Ташкенте эпидемия… холеры?
Его вопрос нарушил всеобщее молчание и повис в сухом знойном воздухе. Хоть солнце закатилось за степь и окна были раскрыты настежь, но в гостиной стояла тишина последние четверть часа, как в могиле, даже Евгения Петровна перестала перебирать клавиши. Все, вволю наболтавшись, обсудив тигров господина Хлудова, притомились, умолкли на время, лишь краем глаза наблюдая за опустившим голову Иноземцевым, ни разу не прикоснувшимся к своему прибору и о чем-то с усилием размышлявшим с белым, напряженным лицом.
Поляков вздохнул, нахмуренные брови медленно поползли вверх, придав лицу прежнее добродушное, милосердное выражение, но с оттенком смущения.
– К несчастью, да. Даже был приказ из Военного министерства приостановить строительство дороги, чтобы не потерять ценных специалистов.
И пожалел, что пришлось поведать доктору в такой неловкой, даже резкой, форме, ведь знал – командирован тот в Ташкент, на верную гибель ехал. В лапах Юлбарса не погиб, чтоб быть убитым болезнью, настоящей туркестанской чумой.
Иноземцев лишь изобразил кривую улыбку, поднялся и, извинившись, вышел. Оставил Иван Несторович железнодорожное общество Чарджуйского уезда ни с чем.
Пришлось Полякову на следующий день его вести в свою штаб-квартиру, чтобы уж какой-никакой протокол составить. Иноземцев честно отвечал на все вопросы, безучастно крутя пальцем большой глобус, стоявший в углу. Следом послушал отчеты помощника о том, как его спасли двое мальчишек-текинцев, которые и украли у гончарных дел мастера арбу. Чтобы не признаваться в краже, выдумали появление призрака пустыни – пери в белых одеждах.
– Это они сами так сказали? – спросил доктор. – Сами мальчишки?
– А их к стенке прижали, они и сознались, – махнул рукой Поляков.
Обрадованный Иноземцев встал, оставил глобус, подошел к карте Туркестана и части русских владений в Средней Азии, висевшей справа от стола начальника, и, измерив расстояние от Уч-Аджи до берегов Аральского моря, пришел к утешительному мнению, что за все время, которое он провел в пустыне, – почти две недели, ему, наверное, было не добраться до острова Барсакельмес, что удивительно – реально существовавшего, и уж тем более не вернуться обратно, лошадьми, песками, без чугунки. Видимо, Иноземцева бросили, и он чудом повернул назад и ведомый миражами да оптическими иллюзиями дополз до Чарджуя.
А так как господин уездный начальник не спросил про море, то Иноземцев о нем и не стал говорить. И слава богу. Лишь рассмешил бы Александра Минаевича. Не на ковре ж самолете в самом деле он до него долетел.
Хотя во снах ковер-самолет тоже был.
Новость же о холере в Ташкенте Ивана Несторовича крайне расстроила. Он уже смирился с тем, что слышал, видать, об эпидемии от пассажиров, но не придал тому значения, по обыкновению своему витая в облаках. Однако это меняло его планы. Ведь доктор намеревался ходатайствовать у Полякова разрешение вернуться в Кара-Кудук, но не мог же он этого сделать, зная и о том, что командирован в Ташкент с большой и важной миссией, о которой чиновники из Петербурга, однако, не сказали ни слова. Прослыл бы по меньшей мере трусом, да и в ходатайстве ему б, конечно же, отказали. Потому Иноземцев отложил посещение радушных текинцев. Но внутренне поклялся вернуться и смастерить протез малышу.
Чарджуй был последним текинским городом. Дальше шли загадочные территории Бухарского эмирата. Дабы увидеть знаменитую бухарскую крепостную стену, именуемую Арк, Иноземцеву с чугунки пришлось пересесть на тарантас. Он сошел с вагона, не совладав с любопытством, – ехать мимо жемчужины Востока и не взглянуть хоть краем глаза! Не ведал Иноземцев, что краем глаза не получится.
От железнодорожной станции до старогородской части этого легендарного города десять верст было. А крепость Арк, оказалось, вместо эмира министр оприходовал, по-тюркски «куш-беги». Почему – не ясно. Было в сем эмирате как-то все шиворот-навыворот. Эмир чаем и каракулем торговал в Ташкенте, а министр страной правил. Конечно же, бухарский эмир имел красивый загородный дворец Кермине. Как раз железная дорога пересекала сие, как оазис в пустыне, имение, но скромное, обособленное. В Бухаре эмир бывал редко, в основном жил в своем загородном поместье, под псевдонимом писал диваны – сборники стихов. Или вовсе уезжал в Карши или Шахрисабз. И остался для Иноземцева непостижимой загадкой такой странный неуловимый образ жизни августейшего правителя, ведь должен был тот непременно знаменитую крепость Арк занимать, в центре столицы, вершить закон, держать народ в крепком кулаке. А он отменил все казни и пытки, учредил несколько орденов, сыновей отправил учиться в Петербург.
В крепости – небывалых размахов и размеров – кроме куш-беги проживало множество разных восточных баев, беков, визирей, их жен, родственников, имелись лавки, мастерские именитых умельцев, которые прямо на глазах мастерят свой товар, расписывают его. Это была не крепость, а целый город! Даже когда-то жил здесь и сам Авиценна, с которым сравнивала в шутку Натали Жановна Иноземцева. Оставил древний мыслитель после себя богатую библиотеку. Но, увы, Иноземцев ее не нашел. Все, кого спрашивал, где же собрание книг знаменитого ученого, удивленно пожимали плечами. Видать, давно разграбили. Чем плох был восточный горячий нрав, уничтожали завоеватели все, что встречали на своем пути и тем тщательней, чем встречаемое было величественней.
С европейцами эмир и куш-беги охотно ладили, встречали радушно и давали себя сфотографировать на память, иным лошадей жаловали, ковры, как два года назад путешественнику месье Надару, бывшему проездом из Стамбула в Ташкент. Знаменитый француз прибыл с визитом на Туркестанскую выставку, что проходила в одно время со Всемирной, парижской. На Востоке к приезжим весьма уважительно относились, едва ль не на руках носили. То ли действительно в традициях был почет большой гостю, то ли понимали проницательные тюрки, что турист, все равно что жила золотая, с ним бережно и обходительно надобно обращаться, и тогда он принесет много пользы.
Почти все туркестанские города были одинаковы на первый взгляд. Но стоит лишь начать приглядываться: точно под дудочку факира любого зеваку утянут в свои пестрые лабиринты – сказочное переплетение тесных улочек, обсаженных тополями и урюком, вымощенных узким кирпичом или просто грунтовых, высоких развалин, шумных базаров, пестрых площадей.
Приезжих здесь было немало. Влекли европейцев мощнейшим магнитом невероятной величины рынки, торговые ряды, именуемые базарами, а точнее, базарными улицами или даже базарными кварталами. По правде сказать, лавки с бакалеей, фруктами, сладостями, коврами и изделиями из глины, дерева и кожи можно было встретить повсюду, даже у ворот дворца министра и под дверьми духовных школ. Но такого нескончаемого обилия куполообразных павильонов и улиц, крытых камышовыми циновками, где торговали всем на свете, Иван Несторович не видел никогда.
Он ненавидел и боялся людского гомона. Но едва попал на восточный базар в Бухаре, оказался поглощенным им будто музыкой. Шум стоял неимоверный! Колокольчики на шеях верблюдов, крики ослов, песни под длинногрифный дутар, прижатый к груди слепого дервиша, гортанная ругань или жаркие приветствия, уличные музыканты с дойрами – все сливалось в нечто столь гармоничное и безыскусное. Вот хоть век стой, замри и слушай.
Меж лавками тянулись вереницы повозок с размашистыми колесами, которые влекли, схватившись за две длинные оглобли. Торговцы, завидев европейца, бросались на него всей толпой, каждый наперебой предлагал свой товар – лепешки, ножи, бусы, засахаренные фрукты, орехи, расписанные глазурью глиняные блюда, медные кувшины, щербет, даже мороженое.
Иноземцев шел, совершенно забывшись, не боясь заблудиться, он шел поглощенный шумом, шел сквозь толпу, попадал на улицы, выходил к площадям, удивленно разглядывал двухэтажные медресе с рядом стрельчатых оконных сводов – духовные школы, надолго замирал под высокими круглыми башнями – минаретами, задрав голову, глядя на ажурный балкон, с которого муэдзин сзывает на молитву, и мечтая взобраться на самую макушку какой-нибудь из них. Стоял бы где-нибудь на площади в Европе, толпа бы неслась мимо. Никто б не обратил внимания на чудака, завороженно глядевшего вверх. Но здесь тотчас же нашелся паренек в чалме, готовый за пару копеек показать город с высоты одного из недействующих минаретов. Никаких тебе важных господ, все на «ты», все улыбаются, протягивают руку.
И Иноземцев полез на минарет Калон. Иноземцев – боявшийся высоты более всего на свете. Высоты – в двадцать саженей, а, быть может, и того больше! Не побоялся ни истертых, корявых высоких в аршин ступеней, ни темноты, ни тесноты. Винтовая лестница вилась в небо по узкой, как подзорная труба, башне, нет-нет освещаемая светом, пробивавшимся снаружи через крошечные отверстия в два пальца меж кирпичной кладкой. Он истерзал ладони в кровь, сбил колени, но шагал и шагал вверх. И какое небо раскинулось над Бухарой, когда он выполз наконец из этой подзорной трубы, какая красота распростерлась внизу, будто на ладони. Какое разнообразие красок с высоты птичьего полета открылось! Красочными и живыми были восточные города, точно картинки со страниц «Тысячи и одной ночи». Казалось, художники, что ткали свои ковры, расписывали посуду, взбирались прежде на крыши, взирали на базары сверху, спускались вниз и смешивали шелк нитей и краски в соответствии с виденным.
От серо-желтого цвета кирпича и глинобитных домиков без окон до зелени садов и виноградников во дворе какого-нибудь восточного господина. От блестевшего на солнце изразца куполов всех цветов поднебесья до развешанных на стенах, иных на продажу, иных в качестве украшения или даже брошенных на камни улиц, ковров. Ковры здесь были повсюду. Прямо на грунтовые дорожки были брошены шелковые, из хлопка и ковры из верблюжьей шерсти: мол, оттого, что их топчут люди, они только лучше становятся. Толпы пестрых халатов и головных уборов на площадях с вышины походили на гигантский движущейся цветник.
А как загадочны и прекрасны были развалины старинных, опустевших дворцов. Песчаными громадами они возвышались то тут, то там, напоминая о былом величии империи тюрков. Но теперь эта рукотворная невидаль, одна выше другой, одна шире и размашистей предыдущей, покрывалась пылью веков, кое-где прямо меж кирпичной кладкой прорастала трава, знойные пустынные ветра придавали куполам мечетей вид обычных холмов. Хоть и потрепало восточные громады время, хоть и склоняли порой они высокие стволы минаретов, хоть осыпался где-то кирпич и мозаика, истерлись ступени, и порушились от частых землетрясений стены, но веяло от них небывалой крепостью и мощью.
Свысока можно было заглянуть во дворы медресе и мечетей. И каким умиротворением веяло от квадратного мощеного, чистого и ухоженного двора с виноградниками, с рядком тутовых деревьев и непременным хаосом. Хаосом здесь называли небольшой круглый пруд, куда вода стекала не из реки, и даже не из арыков, а старательно собиралась из-под земли, из-под фундаментов строений, вытягивалась из глубинных слоев песка, чтобы высокие башни не получили от подземной влажности крен.
В каждом дворе, в каждом медресе, в каждом караван-сарае имелся такой.
Ах, если бы не Ташкент, если бы не холера, если бы не текинская трахома и если бы не китель военного врача, он осел бы где-нибудь здесь, снял бы дворик, купил бы гончарный круг и остался бы до самой смерти под виноградными лозами, под солнцем Туркестана. Мастерил бы горшки, расписывал их всеми цветами радуги. Вечера просиживал бы во дворе широкого караван-сарая под уютным айваном за пиалой с ароматным чаем.
И до чего полюбились нелюдиму Иноземцеву караван-сараи! Он мог, казалось, просидеть под айваном целую вечность. Здесь встречалась самая разношерстная восточная публика – от индусов, евреев до персов и афганцев за кальяном, чаем, чинной беседой. Он слушал их торопливую и пылкую речь и чувствовал, что должен был родиться здесь, среди этой восточной простоты, непритворной пылкости, в которой так легко раствориться, почти исчезнуть. Ни осуждения во взглядах, ни пристальных разглядываний, ни тебе назойливого любопытства.
В Самарканде Иван Несторович и вовсе осмелел – полез на не менее высокий минарет развалин медресе Улугбека, башня которого была сильно накренена. Никто не рисковал, не то чтобы заходить внутрь. Ее обходили стороной, и лавок в ее тени не располагали. Но Иноземцева уже было не остановить. Он Париж не разглядывал с таким тщанием и любовью, как готов был глядеть на переплетение улочек этих родных сердцу, душе и крови краев. А потом спустился под город. Едва узнав, что от Гур-Эмира простирались многие версты подземных ходов, подобные парижским катакомбам, тотчас нашел проводника. Вели тоннели от темно-изумрудного надгробного камня великого Тамерлана к Шахрисабзу и Джизаку. Сейчас те пришли в запустение, местами обвалилась, а обитали в них разве что только летучие мыши и другая ночная живность. И выглядели куда опасней парижских.
Вот и доигрался, досмотрелся, долазался. Недоглядел, формалином руки не протер и подхватил проклятую желтую лихорадку – малярию, весьма здесь распространенную.
В здешних местах содержать в чистоте одежду и тело составляло довольно трудную задачу. Сухой воздух, полный пыли, зной, отсутствие сточных канав, вместо коих нещадно использовались арыки с чистой водой, – идеальные условия для размножения всяческих разносортных палочек, бактерий и бацилл.
Сколько себя ни три, сколько рубашек в день ни меняй, через пару часов кожа покрывалась неприятной грязной пленкой, от пыли першило в горле, и слезились глаза, сапоги и черные шаровары к концу дня становились серыми. И хоть европейская часть с презрением относилась к туземной: де, они халаты носят годами, чалмы с голов не снимают даже во сне, и рук своих никогда не моют, и живут в помоях, оттого черные, как арапы, сами выглядели не менее печально.
Много Иноземцев встречал в Бухаре и Самарканде, по большей части в европейских частях городов, путешествующих немцев, французов, англичан и морщился – все сплошь в серой, застиранной одежде, с потемневшими лицами и черными ногтями. Иноземцев продолжал стойко сопротивляться этакому местному явлению, преследовавшему всех поголовно, точно демон. Но при взгляде на себя в зеркало поздним вечером, вернувшись из лабиринта улиц, испытывал крайнюю степень негодования: что мылся, что нет. Опрятный с утра Иноземцев превращался в лохматого неряху и грязнулю, словно по мановению какого-то злого джинна-шутника. Руки черные, щеки в разводах, волосы в пыли, китель цвета шкуры осла. Как так?!
И десяти ведер воды не хватало, чтобы смыть с себя этот слой грязи. Даже шутки и байки ходили, мол, грязь лучше у цирюльника бритвой срезать, мыть бесполезно.
Не спасал ни формалин, ни карболовая кислота, ни хлор, а платки, которых Иван Несторович носил с собой дюжину, только размазывали грязь по рукам, лицу и шее. И с горечью думалось доктору, что даже, если в городах будет проведена сеть оросительных каналов, построено множество фонтанов, будет проведен водопровод в каждый из домов, какой был в его парижской лаборатории на Ферроннри, от пыли им не избавиться никогда. Хоть стеклянный купол над городом сооружай, ей-богу! Ветра будут гнать пыль с каракумской и кызылкумской пустынь. Да и воды мало, из кяризов – персидских приспособлений – подземные источники били не везде, а в хаосах вода быстро застаивалась. Иван Несторович еще не видел пыльных бурь, которые случаются в чиллю – сорок самых жарких дней лета, когда термометр, бывало, показывает и пятьдесят, и шестьдесят градусов по Цельсию. Он бродил по Бухаре и Самарканду в самую чистую пору – весной. Летом здесь невозможно было существовать – многие старались подняться в горы, где строили летние дачи.
Уже будучи в Самарканде, Иноземцев почувствовал себя дурно. Но упорно не замечал лихорадки и продолжал таскаться по развалинам и катакомбам. Пока малярия окончательно не свалила его с ног, застав на одной из площадей. И пока Иноземцев не потерял сознания, пока его прилюдно не стало вновь, как среди песков, выворачивать наизнанку, не понял, что подхватил желтую лихорадку. Сам виноват, ибо с самого Чарджуя тянуло его во все злачные места, на сартовские базары, в кишлаки, поглядеть на гончарных мастеров, на прядильщиц ковров, да и запустил болезнь, отчасти на ногах, под солнцем ее перенес.
Его привели к русским. Но Иноземцев никому из докторов к себе подходить не позволил. Заявил, что имеет с собой хинин, заперся в гостинице – русской гостинице с русскими горничными и русской меблировкой, расположенной недалеко от здания штаба войск, на бульваре Абрамова. И провел в Самарканде почти месяц, медленно из-за такой жары поправляясь.
То днями напролет беспробудно спал, в надежде очнуться без озноба, то, едва становилось лучше, опять за свое: проводил несколько часов, бродя по улочкам, базарам и площадям под ярким весенним, но коварным туркестанским солнцем, пока лихорадка не начиналась сызнова.
Лихорадило, а упорно ходил в город. Когда совсем становилось худо, брал чичероне за пару целковых, чтобы тот, едва начнется приступ, помог найти дорогу к Абрамовскому бульвару. Одному бродить, конечно, больше было по вкусу, но приходилось прибегать к услугам чичероне из соображений собственной безопасности.
Лихорадка стала рождать всполохи воспоминаний. Вспомнился остров Барсакельмес, пещера, Ульянкино лицо под тонким покрывалом. Иван Несторович стал исходить муками совести. Как не бежать в город? Как не занять себя восточной невидалью? Гул города хоть как-то уводил от мыслей. Если Иноземцев не застывал на площади, чтобы послушать бродячих музыкантов, то принимался думать.
И всегда действовало на Иноземцева гипнотически появление девушки в мыслях – Иван Несторович моментально забывал, кто он и где он. А того делать было категорически нельзя в такой толчее. Тонул вдруг ни с того ни с сего в обычных треволнениях и переживаниях – де, и чего ж от нее ждать не сегодня завтра, чем занята ее сумасбродная голова, не погибла ли и где пропадает? Находила на глаза пелена, он мог усесться где-нибудь в углу караван-сарая под айваном и просидеть в думах до утренних звезд. И уже не наблюдая за суетой, а потонув в проклятых воспоминаниях.
Сам не ведал, что время теряет, не считал ни часов, ни дней. Мысли только вокруг нее и крутились. А от лихорадки в голове все смешивалось в цветной восточный ералаш: узоры лазури перед глазами, яркие пятна ковров на песчаных дорожках.
Доктора видели усевшимся на выступ у арыка, с тетрадью на коленях. На полях он бессознательно выводил виноградную лозу с арки старого медресе, но тут же рядом вдруг штрих за штрихом появлялась тоненькая фигурка в восточном халате и с чалмою, лихо заломленной за ухо, за спиною – закатное солнце, барханы. А рядом с фигуркой бок о бок покорной поступью нес свою огромную тушу тигр…
Иван Несторович просыпался от наваждения, листок из тетради тотчас летел к ногам прохожих. Сам же поднимался, бежал прочь. Доктора догоняли, возвращали рисунок, будто им оброненный случайно. Он сквозь туман лихорадки благодарил, брал листок обратно и брел уже медленным, тяжелым шагом дальше, будто вместе с возвращенным рисунком ему взвалили на плечи два огромных тюка с хлопком. Брел, брел бездумно меж кирпичными стенами, тесно нависавшими над ним, пока вновь от усталости не присаживался у арыка. С навернувшимися слезами на глазах он сворачивал из помятого листка кораблик, сквозь слезы улыбаясь, отпускал на воды быстрого ручейка. И клялся, что больше один бродить без чичероне не станет…
Возвращаясь из грез в реальность, с песчаных улиц в гостиничный номер, ругал себя, что не использует свободное время с пользой – все пытался возбудителем малярии заниматься, хотел дополнить парижские исследования доктора Лаверана в сим вопросе. Сосредоточенно нависнув над микроскопом, он надолго замирал над ним, а под линзами видел лишь лицо Ульянки, разодетой пери. Отгонял образ, садился за записи, но и тут мысли голову заполоняли отнюдь не научные. Вдруг сдвигал локтем в сторону микроскоп, стекляшки и прямо против формул, вычислений, схем принимался слагать восточные рифмы, все равно как Ромэн когда-то в его парижской лаборатории. Смех и только!
Потом перечитывал, хмурился, с негодованием выдирал лист.
– Не хватало, чтобы я еще стихи писал! Ей-богу, смешно… Надо идти, подышать воздухом.
И шел опять дышать воздухом, в надежде развеять в этом самом воздухе узких улочек сартских городов, базаров и площадей беспрестанное беспокойство и какое-то уже совершенно ненормальное меланхоличное настроение. Тоже мне! Стихотворцем себя возомнил. А может, просто здешний воздух дурманил мозг? Ведь эмир бухарский тоже диванами себя развлекал…
Однажды один халвачи – продавец халвы, взглянув на унылое, вытянутое и посиневшее лицо Иноземцева, со свойственной тюркам самоуверенностью и наигранным бахвальством заявил, что у него болотная лихорадка.
Иноземцев хмыкнул – тоже мне диагност, а что еще, если не болотная лихорадка.
– Говорит, вам нужно покинуть город как можно скорее, – переводил чичероне. – Чистый воздух уничтожит болезнь быстрее, чем хинин.
Иван Несторович поначалу усмехался, хотел пройти мимо, но халвачи стал настаивать, что-то упрямо говорить ему по-тюркски, указывая куда-то вдаль.
– Вот вы зря не слушаете местных аборигенов, – добавил от себя проживший не один десяток лет под жаркими туркестанскими лучами экскурсовод. – Табибов слушать надо, они всю здешнюю заразу лучше самых известных европейских профессоров знают, такие снадобья изготовлять умеют, мертвого на ноги можно поднять…
И стал рассказывать, как сам, едва чувствует в себе зарождающиеся признаки лихорадки, тотчас же в горы едет, и проходит лихорадка, будто ее и не было. И многое другое рассказывал: как из яда змеиного и паучьего удивительные тинктуры готовят. Только секреты этих лекарств просто так никому не раскрывают, тем более европейцам. Иноземцев слушал с интересом, даже посетил лавку местного аптекаря, прикупил несколько видов чудесных туркестанских снадобий, чтобы потом их исследовать. А про чистый воздух ему слова туземца в душу запали.
Прав был – не прав местный халвачи, но нужно было искать тарантас до Ташкента, ибо железная дорога заканчивалась на одинокой станции у реки Зеравшан, дальше Самарканда поезд не шел. Иван Несторович никак не мог заставить себя заняться поисками, как вдруг из сплина и апатии его вывел неожиданный случай.
В ночь на пятницу, где-то ближе к утру, гостиница разом пробудилась. По неведомым причинам постояльцы принялись шуметь, что-то с жаром обсуждать, повысыпали во двор, кони на приколах взъярились, поднимая копытами клубы пыли. Иноземцев, как, впрочем, и все, спал с открытыми окнами, и тотчас услышал сей небывалый переполох.
Думал, опять землетрясение, каковые случаются здесь часто. Оказалось, через два часа после захода солнца было совершено нападение на казачий полк, который расположился в Самарканде и двигался в сторону Ташкента для подавления каких-то недовольств; штаб военный в двух шагах от гостиницы Иноземцева находился.
Тотчас же и европейцы, и туземцы в один голос стали твердить, что это банда Юлбарса, ибо свидетелям и очевидцам удалось разглядеть впотьмах тигра.
Басмачи верхом на лихих текинских жеребцах вынырнули откуда-то из темноты, пронеслись мимо, постреляли в воздух и умчались на юго-запад, в сторону Сары-Гуля, а дальше опять же в темноте ночи растворились, как джинны, где-то в водах Зеравшана или скрылись в горах Миранкуль. Должно быть, подобно брату пророка Мухаммеда ибн Аббасу, создали расщелину в камнях, за коими и исчезли. Солдаты, не дождавшись приказа, бросились вслед, но не догнали. Палили в спину, но ни один не рухнул – видать, знатными кольчугами обзавелся Бродячий Тигр.
Днем подробности происшествия стали расти и обрастать слухами. Самым удивительным оказалось, что якобы вместо настоящего тигра басмачи пугали тигриной шкурой, которую носил поверх головы один из разбойников.
– Вот вам и Юлбарс, – хохотал под окном Иноземцева постоялец, купец из торгового товарищества «Новая Бухара», промышлявший хлопком и содержащий хлопкоочистительный завод.
А Иван Несторович по комнате своей из угла в угол, точно зверь в клетке, метался, не зная, что и подумать, порой останавливаясь послушать, что люди во дворе говорят.
– Так каждый может, тигриной шкурой обзаведясь, грабить под личиной Юлбарса. Был бы это один и тот же атаман, да еще и со зверем, давно бы уже наши солдаты его изловили. А так… – купец махнул рукой, – вечно будут за ним гоняться, десятки лет, а то и сто. Вот вам и вся неуловимость.
– Революционеры небось. Токмо-с они такие, Федор Николаевич, изворотливые и на выдумку хитры, – слышался ответ другого постояльца, лица коего Иван Несторович разглядеть не мог.
– Для местных басмачей уж больно ученый. Боюсь, здесь без англичан не обошлось. Пора бы министерству отрядить на поимку мозговитых ищеек, навроде Путилина. А то так и будет повсюду эхом звучать – Юлбарс, Юлбарс, – заключил третий.
К вечеру разнесся слух, что ограблен дом местного бая – по-здешнему богатого горожанина. Его хоромы располагались неподалеку от улицы на высоком холме, сплошь застроенной гигантскими мусульманскими склепами. Место это Шахизинда звалось, что означало «живой правитель», там шесть веков подряд султанов и султанш местных хоронили, и гуляли по ночам по вымощенным кирпичом дорожкам, меж украшенными голубой мозаикой склепами их грозные тени.
Иноземцев и на сию улицу часто хаживал, любил посидеть под тенью миндаля, разбирал арабскую вязь над дверьми склепов. Тихо всегда было в Мертвом городе. Никто особо не заглядывал. Только паломников можно было встретить в сем малолюдном, но святом месте, да молящихся. Видать, банда басмачей этим обстоятельством и воспользовалась. Дом бая мастерски был ограблен, предположительно, той же ночью, что совершено нападение на здание штаба войск, унесли все золото, оружие. Никто из домочадцев не услышал никаких подозрительных звуков. Ни с мужской, ни с женской стороны. Бай держал псарню, но ни одна из собак и не тявкнула.
Иноземцев собрал наскоро свой багаж, тут же нашел попутчиков с тарантасом и к первым звездам покинул заставу Шейх-Заде, а к утру уже был на другом берегу Зеравшана. К его удивлению, будто в подтверждение слов чичероне и халвачи, прошла у Ивана Несторовича малярия, точно ту ветром горным сдуло. Месяц собирался в путь, а собрался за четверть часа.
Глава V. Холерный бунт
В Ташкент Иван Несторович прибыл в последних днях июня. Застала его подозрительная, не свойственная стольному граду тишина. Тарантас шумно пронесся мимо одиноко стоявшей на окраине посреди пустоши нефтяной базы братьев Нобель, пересек Саларский канал и покатил по широким грунтовым дорогам меж обочин, густо засаженным дубом, платаном – по местному чинарой и тополем, мимо магазинов с яркими, богатыми вывесками, ничем не уступающими парижским, зелеными парками, скверами, аллеями, каковых здесь было великое множество, мимо многочисленных ровненьких зданий, выстроенных в стиле, называемом «туркестанским». Здания эти все как один – жженый кирпич, жженым кирпичом весьма кудряво украшен, что придавало фасадным узорам вид песчаного кружева, с круглыми арочными окнами и непременно выступающим вперед крыльцом под узорным чугунным козырьком и массивными ступенями, но не выше двух этажей, ибо случались здесь частые землетрясения, зато непомерно длинными. Землю в Туркестане не приходилось экономить.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/uliya-nelidova/delo-o-soroka-razboynikah/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Сноски
1
Читайте об этом в романе Ю. Нелидовой «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).
2
Читайте об этом в романах Ю. Нелидовой «Дело о Бюловском звере», «Тайна железной дамы» и «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).
3
Пери – добрый дух в образе прекрасной крылатой женщины (перс.).
4
Дивы – чудовища (перс.)
5
Симург – волшебная птица (перс.)
6
Нет, нельзя. (Здесь и далее перевод с узбекского.)
7
Ты бестолочь! Ишак! Зачем? Я же сказал, не трогать пассажира.
8
Извините, пожалуйста.
9
Юлбарс, нет! Нет! Нельзя! Прочь!
10
Трус… Духу не хватает? Какой ты доктор? Ты не доктор!
11
Не хочешь, тогда я сам.
12
Горе мое, Юлбарс! Уйди! Это не еда!
13
Лечи его!
14
Эй, смотри! Он упал в воду.
15
Поднимай!
16
Читайте об этом в романе Ю. Нелидовой «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).
17
Читайте об этом в романе Ю. Нелидовой «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).
Юлия Нелидова
Губернский детективИван Иноземцев #4
1892 год. Земского врача Ивана Иноземцева направляют в столицу Туркестанского генерал-губернаторства – Ташкент. Но добраться до нового места службы Иноземцеву не удается: его похищает шайка разбойников во главе с коварным басмачом Юлбарсом, приручившим настоящего тигра. По всему краю ходят слухи и легенды о набегах банды Юлбарса. Он жесток и безжалостен, умен и необычайно хитер, так зачем же ему среди оазисов и миражей пустыни понадобился обычный земский врач Иван Иноземцев? И как теперь ему справиться с новой напастью – эпидемией холеры, которая преследует местных жителей?..
Юлия Нелидова
Дело о сорока разбойниках
© Нелидова Ю., 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018
Глава I. Призраки пустыни
1890 г.
Иван Несторович Иноземцев ступил на пирс. Но вдруг закачало.
«Нет, нет, не сейчас. Молчи, совесть, уймись. Несколько шагов и – палуба…»
Большие надежды он возлагал, большие чаяния, что совесть голоса не подаст, молчать будет хотя бы еще день-другой, думал, поспеет на пароход трансатлантической компании «Гамбург – Америка – Лайн». Переболел бы тогда посреди океана, пережил угрызения совести вместе с качкой, похоронил бы невзгоды и неудачи в пене морской. Началась бы тогда жизнь новая на неведомых землях, заокеанских, в Нью-Йорке, с чистого листа бы началась. Но эйфория торжества прошла, подобно действию наркотика. Мысль «что же я делаю?» пронзила голову, а горькое чувство стыда – сердце.
«Каким же я монстром стал! – подумал доктор, побелев. – Неужто эта ведьма, Ульянка, над моими помыслами столь сильной властью обладала, что я, лишившись рассудка, таким же, как она, сделался: позволил себе едва ль не убийство, кражу, подлог, ложь, а теперь и бегство. Позорное бегство? От имени своего отрекусь, от суда скрываться стану? Нет, нет и нет! Иван Несторович честным на свет родился, честным жил и честным помрет. Пусть же справедливое наказание, а не побег за океан изгонит из моей души дьявола и от помутнения излечит разум»[1 - Читайте об этом в романе Ю. Нелидовой «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).].
Смял билет и зашвырнул его в воду, совершенно не заметив, что тотчас же за клочком бумаги бросились несколько охотников переплыть океан зайцем. Туда же полетел саквояж с семью миллионами франков, что он получил с продажи поместья в Берри, жалованный ему Лессепсами и который, как он считал, никогда ему не принадлежал и принадлежать не мог. Замки в воздухе щелкнули, саквояж хлопнул аки крыльями птица, и поплыли над синими просторами французские франки, точно листья осенние. Толпа ахнула, тотчас обступила странного господина, вдруг решившего не покидать берега столь оригинальным способом, а следом разомкнулась – к нему подошли двое полицейских, осведомиться, в чем дело.
– Проводите меня в русское консульство.
Третьего февраля 1890 года должен был отчалить Иван Несторович Иноземцев от берегов Европы на белом гиганте «Фюрст Бисмарк», но вместо этого Иван Несторович Иноземцев предпочел Голгофу. И начался крестный путь непутевого русского доктора по полицейским участкам, судебным инстанциям, тюрьмам и прочим богом заброшенным местам, сначала германским, потом и российским. Весь мир сотрясся от ужасных сенсационных подробностей похождений Элен Бюлов и влюбленного в нее доктора. Бюловское дело вновь подняли из архивов, оно было пополнено удивительными и неожиданными подробностями[2 - Читайте об этом в романах Ю. Нелидовой «Дело о Бюловском звере», «Тайна железной дамы» и «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).]. Иноземцев не жалел ни себя, ни ее, всю правду как есть поведал, всю суть изворотливой аферистки внутреннюю непостижимую простому человеку выдал.
В историю эту было трудно поверить.
Иные прочили Иноземцеву расстрел, другие жалели, третьи обещали, что снова все обойдется желтым домом, четвертые рвались разжиться скандальными нюансами – всяческие журналисты да модные биографы брали приступом тюремный экипаж, в котором с конвоем передвигался горе-бретер, толпились на широких ступенях здания суда в Берлине, следовали за ним длинной хвостатой змеей из тюрьмы в тюрьму, все щелкали, щелкали на свои фотографические аппараты.
Были у Иноземцева и защитники, были и обвинители. Горячо спорили: героем величали, и идиотом, и пешкой чьей-то, тех же масонов, и даже политическим аферистом, устроившим столь масштабный скандал ради какой-то тайной революционной цели.
И ни тюремное заключение Иноземцева не пугало, ни сроки, что суда прочили, ни даже казнь. Воцарились отныне в душе его покой и полное безразличие – все, чего ему столь сердечно желалось, сбылось – наконец об Элен Бюлов заговорили всерьез и поисками авантюристки занялись крепко, бросили на ее поимку самые передовые сыскные силы Европы. Закрывать глаза на шкодницу теперь представлялось совершенно невозможным, уж слишком громко заявила она о себе в последний раз. Шантажировать русского посла в Париже, мелькнуть в числе революционеров, змеей вползти в редакцию газеты нещадного блюстителя порядка германского канцлера – это вам не водяного изображать в бюловском болоте.
С фармацевтическими компаниями тоже все вышло гораздо благополучнее, нежели ожидалось, подверглись господа барменские предприниматели тщательной ревизии, выпускаемые лекарства – тщательной проверке. Да и патент на новоизобретенные медикаменты получить теперь было не столь легко – образовались специальные надзорные комитеты по контролю над выпускаемой продукцией фармацевтической промышленностью. Иноземцев не смог доказать свою причастность к изобретению «ахиллинина», но «Фабену» пришлось отложить выпуск «средства от кашля» на самую дальнюю полку. Репутацию русский доктор им сильно подпортил.
Следом еще одна добрая весть донеслась – вышла первая, долгожданная статья о поимке Элен Бюлов. Иноземцев в манере Герши газетный лист вырезал с ее фотографией, где вели ее двое парижских полицейских, в нагрудном кармане хранил, любовался ее недовольной гримаской. А схватили ее во Франции, когда она, воспользовавшись фальшивым паспортом, прибыла в Париж. Герр Кёлер, фальшивомонетчик благодаря Иноземцеву тоже был все-таки взят, и информацией обо всех именах, что располагала Ульяна, полиция владела. Но девушка ускользнула, взобравшись на трехсотметровую башню Эйфеля, а потом смешалась, видать, с толпой. Об этом сообщил следующий номер «Петербургских ведомостей». Тогда уже Иван Несторович в Россию вернулся.
Спустя несколько месяцев газеты разродились сенсацией о том, что неуловимая мадемуазель Бюлов поймана в Бармене. Но неделей позже появилась еще одна заметка об Ульяне – она бежала, когда ее перевозили из тюрьмы Дюссельдорфа в Берлин, – воспользовалась дымовой гранатой. Авантюристке помог кто-то из тюремных чиновников, которому она наобещала несметных сокровищ. В третий раз ее в Т-ской губернии выследили – то был уже конец августа – во время сделки с американским миллионщиком, она пыталась продать ему бюловскую усадьбу. Но поймать ее не удалось, исчезла, по своему обыкновению, будто растворившись в воздухе.
Иноземцев без капли сострадания следил за ходом ее приключений, неизменно красовавшихся на первых полосах всевозможных газетных изданий, вырезал статьи, ими камеру свою обклеивал. А потом сорвал со стен все листы, смял, выкинул и больше газет у милостивых своих тюремщиков не выпрашивал. И радовался внутренне, что Элен Бюлов самого его теперь не достанет, ибо хранили доктора надежно решетки и замки Александровской центральной пересыльной тюрьмы, где он провел в качестве ссыльнопоселенца целый год под ярлыком «бессрочник» в ожидании отправки в Иркутскую губернию, на каменноугольные копи. В одиночной камере, где его не потревожил бы и сам дьявол. Только никто здесь не стерег с такой строгостью, как в больнице Святого Николая, разрешалось гулять по коридорам и даже во дворе, разговаривать с чиновниками, охраной, с другими заключенными, среди коих было много людей большого ума, талантливых ученых и писателей, словом и делом ненароком нарушивших букву закона.
Ни с кем бесед доктор не вел, ни с кем не знался. С тех пор как статьи об Ульяне в клочья разорвал, спал сутками напролет, с утра до ночи, в обнимку с бутыльком бромкамфары, выписанной ему тюремным врачом. До того крепко, что порой его принимали за мертвеца. Было дело, добудиться не могли, приходилось бить тревогу на весь централ, нашатырем отхаживать. Но тот, с десятого раза учуяв запах аммиаката, сонно отмахивался, на другой бок поворачивал и снова засыпал. Вот что с человеком нервное напряжение сделало. Никому неведомо было, что бедный Иван Несторович мечтал о такой жизни несколько лет кряду, о полном и абсолютном беспамятстве мечтал. С сочувственным придыханием о нем шептались, мол, постигла его самая из страшных напастей во всем свете, какие могут случиться с мужчиной – испортила ему жизнь женщина.
Так и прожил до начала 1892 года.
Вскоре бромкамфара спасать перестала, сном забываться, как прежде, не удавалось больше. Выспался Иван Несторович на всю жизнь. Со сладкой истомой вспоминалось об Обуховской больнице, о парижской лаборатории. Стали мысли посещать о том, как замечательно было бы опять вернуться к врачебной практике, экспериментам, к неисследованному в Бармене ахиллинину. Интересовался у начальника тюрьмы, нет ли для него какого дела.
Нежданно-негаданно ранней весной вдруг пришло письмо из Петербурга. Много раз пересматривали дело Иноземцева, много споров было. Его императорское величество царь Александр лично бюловским происшествием интересовался, уж больно шумное оно было. Долго думал, в чем вина Ивана Несторовича. Не отчаяние ли толкнуло его на погибельный путь, не напутали ли чего в очередной раз чиновники? Взвесил все заслуги заключенного. А был Иноземцев не только хирургом, фармацевтом, но и ценным специалистом по вакцинации от бешенства. Вспомнил государь и то, что с повинной доктор сам явился да и следствию оказал колоссальную помощь – столько жуликов, Ульянке пособлявших, поймано было. Распорядился государь-император в итоге судьбой бедового доктора с царским великодушием, заменив место ссылки с морозных сибирских краев на жаркие пустынные каракумы, где доктора в большом спросе были.
Но какую-то уж больно фантастическую форму приняло его помилование. Иноземцева ждала каторга. Но вдруг вернули свободу, обещали жаловать мундир военного врача, посулили назначение старшим врачом хирургического отделения в военном госпитале Ташкента – столицы Туркестанского генерал-губернаторства, ежели спешно и по доброй воле подпишет согласие на сие назначение.
– Будете от оспы прививать, да гигиене местное население обучать, поможете организовать городскому врачу пастеровскую станцию, – заявили петербургские чиновники.
Отчего не подписать? Иноземцев с радостью согласился, по самой что ни на есть доброй воле, как было прошено господами прибывшими за ним полицейскими чиновниками. Старшим ординатором прочили, в столичном госпитале, да еще и военном.
Оказалось, не многие доктора, окончившие Императорскую военно-медицинскую академию да получившие военно-врачебное образование, желали в Туркестанское генерал-губернаторство ехать. Мол, климат там не из самых приятных, да и туземцы нрава бойкого. Как Иноземцеву разъяснили, был во всем городе Ташкенте на стотысячное население один-единственный врач, который и тюремным врачом числился, и городским, и аптекарем, и судебным экспертом и аж прозектором. Не справлялся благородных уфимских кровей шестидесятилетний статский советник Батыршин Мухаммад-Ханафия Алюкович, устал от службы, просил прислать молодого врача, достойную себе замену. А тут еще приступили к строительству новой городской больницы на семьсот пятьдесят коек, как ему все успеть, ежели персоналом у него одна повивальная бабка значилась да два фельдшера.
Иноземцеву такой поворот судьбы был, что манна небесная – да хоть на самый край света пусть отправляют, лишь не забыть, как бистури да скальпели в руках держать и чтоб лаборатория была, и подальше от госпожи Бюлов. Все! Ничего более не надобно. Рай, да и только.
Но ждал Ивана Несторовича нехороший сюрприз – прибыл он в Ташкент в самый разгар холерной эпидемии. Опять обманули чиновники подлые, на верную смерть отправили, каторжные работы казнью подменили, о чем он с простодушной доверчивостью не посмел и помыслить. Только отправил главный врач Ташкента депешу об очередном случае холеры, так стали господа чиновники искать незадачливых простачков, которых можно было направить с этой болезнью разбираться. А тут им Иноземцев подвернулся.
Прибыть-то он прибыл, да только припоздал на несколько месяцев, ибо случилось с ним по дороге самое настоящее восточное приключение.
Все, как, впрочем, и всегда, замечательно начиналось.
В новенькой форме военного врача Русской императорской армии, которая удивительно была ему к лицу: белый китель с докторскими погонами и форменная фуражка с кокардой на околыше, черные шаровары с алой выпушкой и начищенные до блеска сапоги, покинул Иноземцев Петербург. Отправился до берегов Каспия, пересек море яликом – парохода ждать пришлось бы трое суток, не хотел опоздать ко дню отправки поезда, который лишь дважды в неделю отходил от станции. Меж путешествием по морю и ожиданием в Узун-Аде, первое выбрал по совету бывалых путешественников из Красноводска – дни стояли солнечные, море было спокойное.
Обошлось без шторма, причалил в Михайловском заливе, в бухте Узун-Ада.
Вокруг тишина, не в пример Баку и Красноводску, которые были изуродованы, по мнению Иноземцева, европейской суетностью. На всю станцию, совершенно не в восточном стиле построенную, со зданием, больше походящим на пряничную избушку с сахарными ставенками, правда, сильно на солнце выгоревшую, один начальник, который своих покоев не покидал без особой надобности, контролер, сонно зевнувший в ответ на протянутый билет Иноземцевым, да сторож с ружьем тоже сонный. Быть может, был здесь какой-никакой гарнизон, может, и народу в иные дни набиралось поболее, но в день приезда Иноземцева, на его удачу, никого из попутчиков да и вокруг тоже не оказалось – лишь желтый песок, крытые навесами тюки с прошлогодним хлопком, пирамиды ящиков, паутина железнодорожных путей, вой ветра, точно кто в пустой бочонок дудел, шум волн, на волнах покачиваются рыбацкие суденышки, да сухие доски причалов поскрипывают – сказка после иркутского заключения – тогда ведь все только и норовили, что под кожу залезть. А тут – и поговорить-то не с кем. Умиротворяющее безлюдье.
Иноземцев повел взглядом вокруг, глубоко вдохнул. О этот дивный запах пустыни!
Потом, правда, появились двое купцов-бакинцев с десятком чернорабочих, которых они величали «персюками». Бакинцы были одеты в сюртуки и немного изъяснялись по-русски, стрекотали без умолку. Только речь их оказалась мало понятной. Знай себе, кивай, да нет-нет порадуй собеседников полуулыбкой.
«Ничего, – успокаивал себя Иноземцев, поглаживая саквояж, где хоронились несколько томиков Омара Хайяма, Навои и очень редкий перевод Васифи, – чем дальше в пустыню, тем меньше людей будет встречать».
Да и слова здесь точно в воздухе растворялись. Сквозь уши слушал последние новости здешних краев: о торговле, о разбойных набегах басмачей, которые распугали всех путешествующих, о прекрасном городе Асхабаде, где ткут самые лучшие ковры во всем Закаспие, а сам глядел вдаль, на то, как ветер песчаными барханами играет, и улыбался внутренней безмятежности. Словно попал в родные края, давным-давно им покинутые, словно шел сюда всю свою жизнь и наконец вернулся. Взыграли в Иване Несторовиче персидские корни, зов предков стал оглушающей песней, ласкающей душу и сердце…
Наконец дождался отправки поезда: товаро-пассажирского, чай, не барин, устроился в вагоне третьего класса – спартанского, без буфета и кровати, зато один на весь вагон, ибо людей отчаянных, готовых отдаться пескам во власть, не столь много нашлось в тот день – ни одного. Лишь в товарных вагонах ехали по три бравых солдатика в белых кителях и малиновых шароварах, с ружьями, как полагается. Ибо товара было из Баку, из Асхабада довольно – до потолка всяких ящиков, тюков да свертков: возили сахар, хлеб, консервы, вяленое мясо, да и ткани, ковры, посуду.
Хоть поезд и стоял полдня в ожидании, но к урочному часу так к Иноземцеву из пассажиров никто и не присоединился. Купцы же с помощью команды туземцев в грязных халатах и с черными лицами приступили к погрузке своего ялика хлопком, уже полгода здесь отчего-то хранившимся, помахав на прощание русскому доктору.
– Храни вас бог от коварного Юлбарса, – сказал один из них.
Иван Несторович и не расслышал поначалу этих предостерегающих слов, да и сказанных с чудовищным акцентом, откинулся на спинку деревянной скамьи, приготовившись к знакомству с таинственным Востоком, владениями легендарного Чингисхана да Тамерлана, где бравые джигиты в мохнатых шапках машут кривыми саблями да по пескам-барханам под жарким солнцем скачут на длинноногих текинских жеребцах, покрытых богатой попоной и в богатой упряжи, где обитают загадочные, прекрасные пери[3 - Пери – добрый дух в образе прекрасной крылатой женщины (перс.).] и грозные дивы-великаны[4 - Дивы – чудовища (перс.)] в таинственных пещерах, полных несметных сокровищ, открывающихся заветным заклинанием «сим-сим».
Тайно лелеял надежду Иван Несторович, по ребячьей наивности до сих пор не изжившей себя, попасть в сказку «Тысячи и одной ночи», повстречать Али-Бабу с Синбадом, во дворцах великих падишахов побывать, повстречать мудрецов под стать Омару Хайяму, увидеть пери, волшебную птицу Симург[5 - Симург – волшебная птица (перс.)].
Мечтал попасть в сказку, а прибыл на станцию Кызыл-Арват и понял, что из всего, что навоображал себе, пока солнце да песок его встречают и глинобитные квадратные домишки в окружении причудливо изогнутых саксаулов. Эти странные невысокие деревца, точно злые духи пустыни, которых застало солнце врасплох и испепелило в минуту смертельной агонии, росли повсюду вдоль железнодорожной насыпи, корнями поддерживая платформу. Порой проезжали и караулки-казармы, казалось необитаемые, – без окон и дверей: квадратные песчаные коробки с плоскими кровлями. Строить здесь что-либо было попросту невозможно – песок норовил просочиться во все щели, и от него старательно прятались, как могли.
Иноземцев с ужасом заметил это через час пути, когда с его фуражки стали стекать струйки неведомо откуда взявшегося песка, слой его покрывал пол в вагоне и наличники окон, а потом песок стал хрустеть и на зубах. Поезд с шумным грохотом катился по рельсам, поднимая целое облако пыли, так что в окне ничего было не разглядеть.
Не ведал Иван Несторович, что сия печальная и однообразная картина всего лишь прелюдия, всего лишь карикатура, пародия на те страшные приключения, что его ждали впереди. Даже на мгновение приуныл от неясного предчувствия. Песок, песок, песок, желто-серый цвет – будто сон без сновидений.
«Ничего, – принимался он себя успокаивать, – скоро будут и оазисы». Доставал «Жемчужные истории» Васифи, погружался в мир прошлого, мир чудесного, сказочного Востока, другого Востока – с журчащими фонтанами, голубыми куполами, белыми дворцами и прекрасными пери…
А потом и вправду пустыня оживилась, местами милостивая природа окропила ее зеленым невысоким кустарником, стали появляться признаки жизни – аулы с крытыми войлоком кибитками, похожими на шатры или юрты, развалины крепостей, русла речушек или каналов, а станции выглядели поприглядней – иной раз фонтан бил перед зданием, и сады росли, если не сады, то виноградники, если не виноградники, то темные пятна-борозды привезенного чернозема возрождали надежду на будущие насаждения.
И сердце Иноземцева вновь принималось биться от предвкушения знакомства с восточной сказкой, такой манящей, как мираж, и такой же непредсказуемой…
После Геок-Тепе пошли поля, покрытые красным ковром отцветающего мака и тюльпанов красоты неземной, пашни, повеяло свежестью с предгорий – железная дорога пересекала Ахал-Текинский оазис. Здесь весна была коротка, как молния, Иноземцев прибыл в самый благостный и привлекательный сезон, когда еще можно было застать цветение пустыни, когда верблюжатник еще не сгорел под нещадными лучами, когда цвели алый мак и рыжие ноготки, когда бушевали живописные грозы, и нередко шел дождь. Но чем дальше на восток, тем жарче становилось, конец апреля стоял за окном вагона, а пекло, словно в самой середине июля. Сначала Иван Несторович фуражкой обмахивался, а потом ворот кителя расширил, не выдержал и вовсе его снял. Странная иллюзия, когда в порту был – один песок кругом, никакой растительности, хоть воздух полон влаги, пусть и душно, но привычно, как в Выборге летом, две станции проехали – стали кустики верблюжьей колючки появляться, потом и скалистые горы, кое-где поросшие бурьяном, и стада не то осликов, не то тонконогих коз проносились, фазаний крик оглушал просторы – живность какая-никакая, а воздух пыльный, сухой, звенящий, совершенно непривычный для северного человека.
На станции Арчман забрался в вагон одинокий старичок в полосатом чапане, сел напротив доктора, буркнул: «Ассаляму алейкум», руки в рукава чапана спрятал, подбородок на грудь опустил и уснул. На голове – тюрбан поверх тюбетейки намотан, на ногах – сапоги толстой кожи, а чапан сей, точно стеганое одеяло, да еще и кушаком обмотанный. Как ему зной эдакий не страшен? Знай себе, посапывает сладко. И чтобы хоть лоб его был испариной увлажнен, да ничуть, наверное, дело привычки. Раз приоткрыл одно веко лениво, глянул на Ивана Несторовича изучающе и снова спать. А глаз старичка этого был, как вода в озере, как небо – прозрачной голубизной отливал, что Иноземцева немало поразило. Ведь всюду сновали разодетые в папахи текинцы, чернявые и темноглазые, загорелые и коренастые. Не весь тюркский народ одинаков был, и светлоликие попадались, немало было рыжеволосых и голубоглазых из тех, что ближе к горам жили.
– Зря, ви, касподин кароший, от чай горячий отказиваецес, – проговорил он как-то ближе к асхабадскому вокзалу, устал, видимо, на мучения доктора глядеть. – Сейчас на привоксальний чай-хоне будем, пробуйте глоток сделат, сразу облекчений наступит.
Но мечтал Иноземцев не о чае, а о простом русском квасе, о целом бочонке мечтал, ледяном. Лишь в беседе с попутчиком чуть позабылась всепоглощающая, лишающая разума жажда. А говорил сей почтенный сарт, родом из Ферганы, на русском, хоть и с мягким восточным акцентом, заставив доктора в удивлении брови вскинуть. Выяснилось, что с самого завоевания города Ташкента генералом Михаилом Григорьевичем Черняевым, он жил среди русских солдат, был до того местным табибом, бежал в Чимкент от преследования обозленных джигитов кокандского хана, а потом следовал за армией в качестве одного из лекарей и видел собственными глазами, как глава города преподнес генералу двенадцать золотых ключей от двенадцати ворот Ташкента. Ибо разглядел тот в приходе русских Аллаха провидение, а в них самих – свет спасения.
В Асхабаде – шумном, ярком, в совершенно европейского образца городе, утопающем в прохладных садах, омываемом множеством арыков – узких канавок, идущих вдоль всех улиц по обеим сторонам обочин, но с грунтовыми дорогами, – они расстались, было у сарта одно важное дело: в горах Копетдага расцвела календула, которая хорошо помогала лечить болезни глаз. А здесь все трахомой мучились из-за обилия песка.
– Да хранит вас бог от коварного Юлбарса, – сказал табиб на прощание.
Было уже не первым случаем, когда Иван Несторович имя этого разбойника слышал. Верно, таков здешний обычай, аллегорически сравнивать этого басмача с самим дьяволом. Может, слов иных подобрать не могут на русском, может, какая легенда имеется на сей счет.
На асхабадском вокзале в вагон доктора ввалились несколько текинцев в дорогих халатах и в лохматых шапках, опущенных по самые черные бороды, с оружием за поясами – сабли, пистолеты, кинжалы. Верно, из отряда туркменской конной милиции, а, может, и купцы какие, кто их знает, – тут все туземцы, несмотря на солнце, шапки носили и при оружии были. Стало Иноземцеву не по себе от близости представителей огненно-горской породы, от их громогласных голосов и жаркой жестикуляции. Но текинцы тоже недурно изъяснялись по-русски, веселыми оказались попутчиками. Заметив испуганный взгляд русского доктора, пожурили, мол, мы ведь не с тигром на привези в вагон вошли, чего краска с лица сошла, мил господин?
– Нет, ни один смельчак на всей свет белый, кроме Юлбарс, кто мог бы настоящий королевский тигр подчинить своей воли, – многозначительно подняв палец, молвил один из них, озарив черное пятно бороды белоснежной восточной, несколько кровожадной улыбкой от одного до другого края папахи.
Тут Иноземцева любопытство и разобрало, страх мгновенно улетучился, и он аж вперед подался.
– Уже который день в пути, от самого Узун-Ада слышу это имя. Кто это такой – ваш Юлбарс?
– Ваш! – вскипел второй, хватаясь за кинжал, заставив Иноземцева вздрогнуть. – Почему сразу наш? Никакой он не наш!
– Остерегайтесь его, – сказал третий, загадочно сверкнув глазами. – Ночами по пустыне и от вагона к вагону не ходите, если случится поезду стоянка сделать.
– Возите с собой кинжаль, – добавил четвертый. – Но не вздумайте оказивать сопротивление, если повстречать случиться Юлбарса. А сразу себя – чик, по горлю, чтоби не мучиться.
Иван Несторович сначала побледнел, всерьез испугавшись, отпрянул, в спинку скамьи вжался, уже успев представить чуть ли не воочию грозную физиономию туземного разбойника, потом нашел в себе силы улыбнуться – господа джигиты, верно, шутить изволят?
– Что ти, какой шютка? Аллах Акбар! Место здесь страшний, нехороший – самый жюткий в песках Каракуми. Барсакельмес называется, что означает – попадешь, не вернешься. С самих незапамятних времен били здесь роскошние сади, оазиси, реки да озери, и обитали здесь барсакельмесские пери, которые красоту эту волшебними чарами создали. Но только караван какой пройдет мимо, сади и озери солончаками сменялись. Бросались люди на вода, так чудесно блестевший на солнце, а это не вода, это – сол, бежали к деревьям и виноградным лозам, а это мираш. И умирали.
– От горя, – добавил четвертый, с не меньшим вниманием, чем доктор, слушавший рассказ товарища и с театральным драматизмом кивающий, поддакивая каждому произнесенному слову.
– А потом прах этих несчастних смешивалься с песком, и оттого песка здесь так много, – поспешил вставить последнее слово самый словоохотливый текинец, в котором явно угадывалась поэтическая натура. Или им просто доставало немало удовольствия фраппировать европейских путешественников сказками о каракумах и кызылкумах и внутренне потешаться, глядючи, как те лицом бледнели и как испуганно расширялись их глаза.
– А что Юлбарс? – спросил Иван Несторович.
– Юлбарс – бандит, но очень лёвкий.
– Потому что ему сама барсакельмесская пери пособляет.
– И тигра он смог приручить благодаря ее чарам.
– Да, не благодаря ее чарам, – отмахнулся четвертый. – Силач Юлбарс, выше меня, говорят, на три голови, тигра своего одной рукой за загривок, что котенка таскает.
– Не-ет, – возразил первый, – сила его – в его учености, родом он из персидских шейхов, син одного правителя – белая кость. Говорят, знает тисячу языков и прочел тисячу книг.
Это все, что удалось выяснить от почтенных джигитов, возвращавшихся из Асхабада в Артык. На прощание и они пожелали доктору хорониться подальше от мифичного Юлбарса, даже кинжал жаловали взамен на стетоскоп, уж очень он диковинным им показался. Правда, без особого желания самого Иноземцева, но делать было нечего – текинцы возражений бы не потерпели.
После шумного и грязного Мерва и чудесных садов Байрам-Али – прекрасного оазиса, принадлежащего некогда чарджуйскому хану, Ахалтекинский оазис заканчивался, и вновь начинались сплошные пески. Ветер поднимал их в воздух, и казалось, что стоит непроходимый туман. Пустыня меняла очертания на глазах, словно бескрайний океан, волнуясь. Глядишь, здесь возвышается песчаный холм с редкой рябью, а там низина, усеянная верблюжьей колючкой, наполовину в песке утопленной, а через четверть часа нет холма, нет колючек, а стоит на месте холма сухой саксаул с обнаженными корнями. Песок съедал железнодорожную платформу, видно было, как рельсы то исчезали под желтым покрывалом, то чуть выглядывали из него.
На скромной, маленькой станции без названия, без фонтана, без умирающего виноградника, но зато с буфетом, Иван Несторович имел несколько часов передышки от длительной тряски и оглушающего грохота колес – от Артыка до Мерва шли почти без остановок. Как ему велел здешний аксакал, отправился пить чай и, на счастье, повстречал у самовара русского – инженера, средних лет, в ермолке и восточном халате, мол, так удобней жару переносить. Даже объяснил почему. Этот халат здесь, в Туркестане, сказал он, как контейнер для хранения сжиженных газов, изобретенный недавно одним немцем, Вейнхольдом, он хранит температуру тела и не допускает перегревания. А чтобы организм не думал, что ему холодно, надобно горячий чай пить, он тотчас же все поры, что ставенки, раскрывает и дышит себе. Иноземцев был поражен мудростью здешних туземцев, которые, как ему казалось, лишь из страсти к роскошествам увешивали себя теплой одеждой. Ан нет, оказывается, имелся в этой странной для европейца привычке вот такой восточный секрет.
– Вам еще много секретов таких восточных здесь раскрыть предстоит, – усмехнулся инженер.
А занимался почтенный ученый исследованием подземных ирригационных каналов, именуемых «кяризы», что строили когда-то в стародревние времена персы. Тоже сооружение хитромудрое, способное из-под земли много воды достать в бескрайней и кажущейся совершенно безжизненной пустыне. Стал Иван Несторович о персах этих расспрашивать, чьи кяризы да калы – грозные укрепления – брошенными всюду стояли, к коим, если не приглядеться, то примешь за обыкновенные холмы, так их время и ветра изменили.
Десятка лет не прошло, как текинцы погнали соседей за гребень горы в земли персидские, бывало, те возвращались, дабы отвоевать назад свои калы, но безуспешно. Текинцы – народ грозный, отчаянный, на расправу короткий, персы нежными были созданиями, ремеслами никакими особо не промышляли, хотя их ирригационные изыски довольно изобретательны, ручки в глине и крови пачкать зело не рвались, больше наука их занимала, вот и пришлось немного подвинуться. Иван Несторович с интересом выслушал рассказ инженера, а потом уже и о басмаче с тигром заговорил, мол, ведь говорят, что он перс, отчего не отловите негодяя?
– Ах, вы об этом, – улыбнулся инженер. – Здесь много легенд на его счет ходит. Да только, сдается мне, это всего лишь легенды, местные байки. Нападения басмачей – случаются, да. Бывало, и поезд остановят. Пустыня ведь одна кругом! Трудно такие просторы в порядке идеальном содержать. И тигры водятся всюду, и шакалы, и гиены, и змеи, медведи, туры, барсы, волки. Это из-за близости реки. Любому охотнику – раздолье.
– А вовсе нет, – оторвав от самовара полотенце, вмешался буфетчик с окладистой бородой. – Когда это вы видели, чтобы в составе на станцию один пассажир прибыл! Если так дальше дело пойдет, оставлю я эту лачугу. Вон, лучше в Уч-Аджи служить, что за тридцать верст отсюда. Там целый батальон недавно осел, и казарма позначительней отстроена, и артиллерию привезли. Уже год, как этот Юлбарс проходу никому не дает. И повадки у него, все равно, что кошачьи, никогда не знаешь, когда и как он налет совершит. И здесь шалит, и у Хивы его ловили, аж к Ташкенту, не боясь русских полков, нет-нет подбирался. Юлбарс, по-ихнему, по-тюркски, означает «бродячий тигр». Организовал шайку, тигра здешнего, что у реки Теджен водятся, изловил, на цепь посадил и с ним города и аулы грабит, поезда грабит, караваны тоже грабит. Басмач проклятый! А ведь, говорят, совсем мальчишка. Сам маленького роста, щуплый, с жиденькой бороденкой, а глазенки, что у волка – холодные, злючие-колючие. Вот уж воистину, шайтан.
– Мальчишка? – воскликнул в недоумении доктор. – Но я слышал, будто он богатырского сложения и одной рукой тигру горло сжимает.
– Да, все разное говорят. Не слушайте, – махнул рукой инженер и зевнул, прикрыв рукой усы. – Одни говорят, что он из Бухары. Другие, что беглый еврей-дрессировщик. Третьи, что сын поверженного персидского правителя. А четвертые такие совсем уж сказки рассказывают: будто Юлбарс – это английский шпион, нарочно засланный британцами страху нагонять на русских, накрепко в Закаспие и Туркестане осевших, мол, чтобы помешать нам дорогу проложить до Ташкента. Много англичан здесь бывает, они туда-сюда до Индии болтаются, ну и Туркестан исследуют. А по мне так: нет никакого Юлбарса, все это набеги разных шаек местных беков, одному герою приписанные, чтобы удобней было эти набеги совершать. Беков, известно, бухарский куш-беги покрывает, за мзду определенную, а тот, в свою очередь, перед эмиром отчет держит. А уж какие между нашими начальниками и эмиром беседы бывают – то знать нам не положено. Могут баранами откупиться, могут женой, а могут и с десяток мальчиков-бачей отрядят.
– Выходит… – проронил Иноземцев, удивленный странной иерархической восточной структурой. – Выходит, здесь вовсе не столь безопасно, как мне в Петербурге рассказывали.
– Ну почему? – всполошился инженер и, сдвинув ермолку набекрень, почесал затылок. – Хм, то Петербург, а то Бухарский эмират. Да спокойно тут, не тревожьтесь. Привыкнуть просто надобно к здешним обычаям. К чему человеческая натура только не привыкает! Да и у нас вдоль платформы через каждые двадцать-тридцать верст казармы стоят. Боятся они нападать на здешние земли. Своих токмо грабят. Русские для них пострашнее шайтана. В год не более двенадцати смертей – тишь, гладь да божья благодать. Вот протянут до Ташкента железную дорогу, тогда совсем цивилизация настанет.
Иноземцев было успокоился, но изменился лицом, услышав последние слова инженера.
– А что? До Ташкента нет дороги?
– Только до Самарканда пока проложили. Дальше уже тарантасом придется добираться.
Иван Несторович поспешил достать свой билет и, к изумлению своему, увидел надпись: «Узун-Ада – Самарканд», по рассеяности своей обыкновенной, не заметив кою прежде. Думал, к самому Ташкенту его железная дорога прикатит, ан нет…
– Тарантасом? – с ужасом проронил он, представив, что полпути ему придется пройти по жарким Каракумам не быстрым поездом, который никакой басмач остановить не посмеет, а кибиткой на колесах, запряженной в лучшем случае одной-единственной лошадью, а в худшем – неспешным осликом. Размечтался! Думал только со стороны, из вагонного окошка песками любоваться будет.
Вышел он из вокзального буфета на перрон. Простерлась пред его взором желтая, неумолимая пустыня во всей своей истинной красе и очевидности: потрескавшийся к началу лета лёсс, что проступал сквозь песок, давно сменился нескончаемыми барханами, кучугурами да развалинами кое-где иранских укреплений в виде не то насыпи, не то невысоких крепостей вдалеке, называемых «кала». Верблюжатник без близкого источника воды, уже пожелтевший, недобро колыхался на ветру. И никого. Теперь такое безлюдье не радовало доктора. Ведь чего доброго, за этой умиротворяющей безмятежностью, под толстым одеялом из песка спит огромное чудище по имени Юлбарс, обняв гриву гигантского королевского тигра – лохматого, полосатого. А коварные барсакельмесские пери сыплют сверху кристаллами соли.
Обернулся Иноземцев – снежные вершины, оставшиеся позади, прощально выглядывали сквозь плотную занавесь пустынного марева. И небо имело белесый оттенок, точно саван. До того тоскливо стало Ивану Несторовичу, что сел он прямо на перроне по-турецки, как здесь на топчанах в чайханах сидеть было принято, и замер, зачарованно вглядываясь в колебания воздуха на горизонте, в надежде увидеть хоть слабые признаки земной жизни.
Буфетчик раз выходил к нему, советовал не сидеть на солнце.
– Голову напечет, – вздыхал он. – До отправки еще цельный час. Идите под крышу, в прохладцу. Здешние дома из специального кирпича строят, чтоб в таку жару завсегда воздух был.
– Нет уж, – отвечал Иноземцев. – Мне теперь здесь жить. Придется привыкать.
Со станции доктор снова один в вагоне ехал.
Но до Уч-Аджи, по словам буфетчика, надежно укрепленного, добраться ему было не суждено этой ночью.
Солнце медленно закатилось за тонкую линию горизонта, за белые клубы облаков, погасли последние его лучи.
Вдруг, завизжав колесами по рельсам, локомотив резко стал. Иноземцев кубарем полетел на соседнюю скамью. Пространство южной ночи с яркой луной над барханами прорезал гортанный вопль, недобро оборвавшийся на самой высокой ноте каким-то булькающим звуком.
Точно под самым окном его вагона это случилось – не иначе кому горло перерезали. Не во сне ли послышалось?
Иноземцев, до того успевший задремать, насилу поднялся, потер ушибленное плечо и еще сонный и напуганный бросился в грузовой вагон, где ехали охранявшие товар солдаты. Сморила тех вечерняя дрема, как и самого Ивана Несторовича. Едва доктор с дверцей справился, в проход меж вагонами протиснулся, в потемках едва не провалившись на шпалы, а те только очнулись, только за ружья схватились и в недоумении повскакивали. Один ползал на четвереньках – искал фуражку.
В соседнем вагоне раздался грохот, распахнулась дверца напротив, яркий свет озарил стройные ряды товарных ящико-тюков на три коротких мгновения. Три короткие вспышки и тотчас будто заложило уши.
Не сразу Иноземцев понял, что это ружейные выстрелы, до того ошарашен был, до того оглушен молниеносностью происходящего. На пол вагона один за другим рухнули все три белых кителя. А на другом конце вагона застыли в потемках, точно духи ада, семь или даже десять пар светящихся глаз. И понял Иноземцев, что к трем кителям сейчас четвертый ляжет – его самого.
Глава II. Иноземцев и сорок разбойников
Говорил буфетчик, не сиди на солнце, голову напечет. Вот, пожалуйста, теперь, видно, в бреду все это и наблюдает. Стоит, чуть дыша, за ручку дверцы схватившись, и пытается высмотреть сквозь темноту вагона действительно ли в его ногах мертвые солдаты лежат, а над ними возвышаются несколько высоких черных фигур, увенчанных причудливыми чалмами. Вспыхнуло пламя, Иноземцев дернулся назад, тотчас заслонившись от вспышки, но, когда осознал, что это был всего лишь факел, больно обожгло затылок: получил удар по голове и вывалился из двери за поручни наружу. Падая, краем глаза успел заприметить, как с крыши вагона спустился еще один разбойник.
– Йy?, мумкин эмас![6 - Нет, нельзя. (Здесь и далее перевод с узбекского.)] – донеслось следом точно из пустого бочонка. – Овсар! Эшак! Нима учун? Йyловчини тегма, деб айтгандимку![7 - Ты бестолочь! Ишак! Зачем? Я же сказал, не трогать пассажира.]
Иван Несторович ощутил, как, обхватив за ноги, его вытащили из-под колес, потянули нещадно по шпалам и бросили на песок.
– Кечарасиз, илтимос[8 - Извините, пожалуйста.], – шуршали вокруг тени. Потом у самого уха кто-то как гаркнет:
– Юлбарс, йy?! Йy?! Мумкин эмас. ?оч![9 - Юлбарс, нет! Нет! Нельзя! Прочь!]
Уж очень тревожным показался Ивану Несторовичу этот пронзительный визг. Замер, стонать от боли перестал, открыл глаза, оторвав голову от горячего песка, продолжая сжимать затылок рукой. Из раны хлестала кровь. Вокруг столпились бандиты в халатах, некоторые держали зажженные факелы, били копытами нетерпеливые кони.
Вдруг ударил в нос бедного Ивана Несторовича звериный дух – в самой близости от лица, точно сквозь дымку, на него глядело нечто живое, ярко-оранжевое, оно было усато, горячо пыхтело, тыкало в подбородок чем-то липким и мокрым. Низенький сарт бесстрашно вцепился сему чудищу в загривок и пытался оттащить, все твердя свое: «Юлбарс, йy?». И осознал доктор, что Юлбарсом был тигр, а не человек. Мысль сия сразила наповал, отобрав остатки чувств и сознания.
Очнулся Иноземцев от тряски и неприятного ощущения, что вот-вот упадет: оказалось, ехал верхом на лошади. Сидел без седла, на одной попоне, вернее, не сидел, а повис на шее, распластавшись, невыносимо смердящего навозом животного. По обеим сторонам ехали всадники – милостиво придерживали пленника прикладами ружей.
В глазах темно, голова трещала, как телеграфный аппарат, страшно мутило и хотелось пить. Поднявшись, кое-как уселся, оглянулся, увидел позади большой желтый шар, чуть выглядывающий из-за края пустыни, отливающей червонным золотом. Утро, тотчас решил Иноземцев, рассвет, стало быть, шли на запад. Кругом кучугуры, нет-нет саксаул вставал на пути темной изогнутой тенью, копыта тонули в песке едва ли не по колено бедных животных. Его окружало человек сорок всадников, в грязных, неопределенного цвета халатах, серых чалмах, лица по глаза прикрыты платками, за поясами – пистолеты, за плечами – ружья, сабли стучали о бока тонконогих быстрых их лошадок в дорогой сбруе, с расписными седлами. Все, как один, были устремлены взглядом в горизонт, молча неслись легким галопом против солнца.
«Сорок разбойников», – подумалось Иноземцеву с горькой иронией.
Невольно потянувшись к ушибленному затылку, Иноземцев нащупал нечто вроде повязки, спустился пальцами по шее к плечу – обнаружил, что весь был сплошь липким от крови. Правая рука оказалась без рукава – им, видимо, перевязали рану. Медленно, кряхтя, попробовал покачать головой, наклонить ее вперед-назад. Тотчас будто кто чем-то тяжелым рубанул по затылку, и горячее потекло по шее, к плечу, по голой руке. Закапала густая алая кровь на песок.
– Черт, – проронил Иноземцев и снова бухнулся на шею лошади.
Когда солнце окончательно взошло и начало припекать, караван встал у развалин персидской крепости. Иноземцева сняли с лошади и усадили в тени поодаль от всей станицы. От неловкого движения вдруг все закачалось, завертелось, тяжелый спазм схватил внутренности. Стало доктора выворачивать наизнанку. А сил нет остановить приступ. Сил нет даже руки поднять, прикрыть рот, утереть лицо.
Один из разбойников наклонился к нему, заглянул в глаза, выругался по-басурмански. Развернулся, хотел уйти, но отчего-то остался, продолжая браниться, махая растопыренными пальцами во все стороны, словно должен был выполнить не совсем ему приятное поручение.
Вынул из ножен кинжал, поднял лезвие к солнцу, стал разглядывать с какой-то зловещей внимательностью, долго тер о грязный рукав халата, при этом бросая на доктора какие-то не то грозные, не то торжественные взгляды, пока лезвие не заблистало в лучах, как зеркало. Иван Несторович от страха вжался в глиняную стену калы, предположив, что его сейчас прирежут. Но басурманин вдруг протянул нож рукоятью вперед и проронил снисходительно что-то на своем, басурманском.
Совсем звери – хотят, чтобы Иноземцев сам себя порешил. Да с радостью, но только сил не хватит нанести один хороший удар, чтобы покончить с собой без мучений, еще больше изранит и все.
– Нет, не могу, – прошептал доктор, зажмурился, задержав дыхание – сейчас взъяриться, прибьет. Поскорее бы! А то вот вновь подкатил к горлу неприятный спазм.
– Э-эх, ?yр?о?… Кучинг етмидими? ?андай сен табиб? Сен табиб эмас![10 - Трус… Духу не хватает? Какой ты доктор? Ты не доктор!] – презрительно бросил тот, присел рядом и дернул ворот, понуждая его снять китель. И принялся вспарывать швы. – Хохламасанг – унда узим[11 - Не хочешь, тогда я сам.]..
Только тогда Иноземцев уразумел, что разбойник предлагал ему всего-навсего разрезать китель на бинты. Точно камень с души слетел – он встрепенулся, поднял руку, замахал что есть мочи.
– Я сам! Сам… Не беспокойтесь! Сам… Я понял…
Дрожащими пальцами почти выхватил из рук сарта нож, стал спешно рвать со второй руки рукав давно не белого кителя. Ни мыслей, ни боли не чувствовал, до того жить хотелось на самом низком уровне инстинктов, автоматически, без драматизма и высоких слов. Просто хотелось жить. Давясь рвотными позывами, утирая хлынувшую носом кровь, он кое-как обмотал голову, сел и откинулся на стену калы. Нож выпал из его пальцев. Сарт подобрал, обтер лезвие о край халата, пробормотал что-то на своем, тюркском, гортанном, развернулся и пошел к своим. Едва скрылся за поворотом калы, Иноземцев со вздохом закрыл глаза. Слабость брала свое, Иван Несторович начал проваливаться сознанием в спасительную дрему. Как вдруг вновь у самого уха:
– Юлбарс, ?оч! Мумкин эмас. ?оч!
Доктор вздрогнул, мгновенно открыв глаза. Перед ним стоял уже другой бандит – низенький, щуплый до того, что полосатый халат его болтался на худых плечах, с небольшой чалмой на голове, какие носили здесь ремесленники – из грязно-серого хлопка, лицо тщательно обмотано концом сей чалмы. Он был очень сердит, топнул ногой, зарычал, взмахнул обнаженной саблей. Иноземцев зажмурился, думал, его бранят за какую-то неведомую ему оплошность.
Справа вдруг мелькнула рыжая тень. Головой двигать не мог, как будто даже парализовало, но боковым зрением успел заметить черно-оранжевый хвост, исчезнувший за поворотом стены. Через мгновение там же показались две массивные лапы и невероятных размеров любопытная кошачья морда. Верно, в беспамятство провалился, не заметив приближение хищника, которого привлекал запах крови, запах поверженной жертвы.
– Менинг ?ам, Юлбарс! ?оч! Бу ов?ат эмас[12 - Горе мое, Юлбарс! Уйди! Это не еда!].
И топнул ногой с такой небывалой энергией, так грозно махнул кулаком, что тигра точно ветром сдуло.
«Хозяин зверя, атаман собственной персоной», – решил Иноземцев. Он еще тогда понял, с кем имеет дело, когда у поезда лежал на шпалах и услышал этот мальчишеский фальцет, хозяин которого из кожи вон лез, чтобы прибавить голосу немного мужественности.
И как же этот кисейный юноша, прообраз маленького Мука, умудрился приручить тигра и собрать вокруг себя целую шайку отчаянных головорезов? Надо обладать такими талантами, таким непревзойденным даром внушения, такой мощью духа в столь юном возрасте, чтобы добиться послушания от строптивых подопечных и не стать их жертвой. Воистину Восток полон неразрешимых загадок. Разгадывать кои у Иноземцева охота уже отпала, равно как и знакомиться с его просторами. Подобно зыбучим пескам, подобно болоту безжалостно утянут, и поминай как звали. Все вокруг здесь словно в тридевятом царстве было, словно в сказочных краях таинственной Шахерезады.
Атаман подошел ближе к Иноземцеву, нагнулся, осмотрел затылок.
– Вай-вае, – недовольно покачал головой он, а потом выпрямился. В руках его сверкнул странный предмет. Иноземцев только и разглядел мелькнувший огонек сквозь туманную дымку. И затылок пронзила острая боль, в нос ударил запах паленого мяса и волос. Он сжался пружиной и, даже не вскрикнул, повалился ниц.
Очнулся вновь на лошади, ближе к ночи. Небо было синим с парой тройкой первых звезд, песок золотили лучи заходящего солнца. Куда они едут? На кой им сдался бедный измученный доктор? Любопытно, остались ли еще в туркестанских краях невольничьи рынки? В рабство, вестимо, продать хотят. Али на что обменяют… Ведь Иноземцев у них за табиба считался, носил китель военного врача, стало быть, умелец, знаток своего дела, да еще и европеец. А у них с европейцами, поди, туго. Уколы их лекари делать не умели, носы перекраивать – тоже.
Шли всю ночь, не сделав ни единого привала. Наступило утро. Только тогда остановились, когда безжалостное солнце принялось печь, как угли в камине. Вдали Иван Несторович заметил сияющую полосу воды – мираж, не иначе. Но воздух стал влажным.
Дышать стало еще тяжелее, капли испарины катились по вискам. А как голова от солнца нещадно болела, это ни словом сказать ни пером описать. Тела своего не чувствовал, до того дурно было. Всю дорогу лица от шеи своего скакуна не отрывал, вцепившись в гриву, чтоб не скатиться с попоны. А земля проплывала мимо, тянулась полосой, будто нескончаемая желтая лента. И находило на Иноземцева помрачение, начинало вновь страшно выворачивать. Но никто караван не остановил, все двигались вперед и вперед, внимания на мучения пленника не обращая.
К первым звездам и вправду дошли до воды, доктор глазам своим не поверил – огромное море, сверкающее в лучах заката. А, может, река то была, а, может, и озеро, вообразить трудно – такое диво среди песков и барханов, конца и края его не видать. И не привиделось ли во сне? Но вокруг весьма правдоподобно носились чайки, отчаянно вопя, по берегам рос высокий камыш, пахло тиной.
Бандиты молча спешились, пустили лошадок камыш щипать. Столь же молча, неспешно, деловито погрузили на большой ялик тюки, что из вагонов товарно-пассажирского поезда были изъяты. Несколько сартов взобрались на борт, и, конечно же, сокровище свое, талисман – Юлбарса – чудище полосатое – тоже взяли. Сарт в полосатом халате, как заправский дрессировщик, щелкал хлыстом по сапогам, зверь послушно, даже как-то по-детски вскочил на суденышко.
Мутным взглядом наблюдал Иноземцев, как тот уселся на носу. Доктору помогли перебраться и милостиво спустили в узкий трюм, где только лежа можно было расположиться. И слышал он сквозь лихорадочный бред рев тигриный, хлюпанье, чавканье, царапался зверь сверху, скребся, а сверх того еще и бесконечное это: «Юлбарс, йy?, йy?! Юлбарс, мумкин эмас. Ўтир! Юлбарс, ёт. Юлбарс, ёнбошга», – так атаман, видать, упражнял своего питомца.
Вскоре голос этот стал убаюкивать Ивана Несторовича, потом знакомым показался. В конце концов, в бреду и уснул.
Продрал глаза – вокруг темнота, сырость, холод. Ну все, отмучился, не трюм это ялика, а самая настоящая могила. Лежал Иван Несторович на спине, точно звезда морская, раскинув руки-ноги, всем телом ощущая, как вдалеке капля за каплей куда-то стекала вода, и эхом отдавался сей монотонный звук, ударяя по гудящим вискам. Осторожно ладонь перевернул, пальцами нащупал землю – мокрая, склизкая соль. Болью пульсировал затылок – стало быть, жив пока.
Вдруг вспыхнул невыносимо яркий свет, сначала справа, следом слева, потом с потолка. Иноземцев зажмурился. А когда чуть веки приоткрыл, с трудом разглядел сквозь побитые стекла очков серо-зеленый с изумрудным переливом потолок и стены пещеры со свисающими конусами белесых сталактитов и бурых сталагмитов. Где-то над головой виднелся кусочек неба, видать, глубоко под землей залегал сей сказочный грот. Поднялся – кругом залитый светом интерьер настоящей пещеры с замысловатыми, поросшими сквозь соль и известняк буграми мха.
А посреди – кристальной чистоты круглое, точно блюдце, озерцо. Совсем как в Бюловке, только маленькое. А на другом берегу его в беспорядке лежали груды начищенной золотой и серебряной посуды, монеты, восточные украшения с каменьями и кружевной резьбой, оружие – сабли, кольчуги, шлемы с островерхими пиками, статуэтки с большими страшными головами – и все сплошь сверкало мириадами искорок, как в книжке с картинками из далекого детства.
– Господи боже, – проронил Иван Несторович, – навоображал себе невесть что, вот и привиделось. Уже четверть века давно минуло, как ребенком был, а сказок начитался… Неужто пещера Али-Бабы… Где же это я?
– Здравствуй, – раздался раскатистый женский голос. Эхом прокатившись по всем закоулкам, проходам пещеры, несколько долгих мгновений он мячиком отскакивал от изъеденных солью стен, черной птицей кружа над головой Иноземцева. Тот аж подпрыгнул, задрав голову вверх.
– Где я? – одними губами проронил он.
– В Барсакельмесской пещере, посреди Аральского моря, – ответил услужливый голос. «Моря, моря, моря…» – повторило эхо – точно некто в мегафон Эдисона говорил.
– Кто вы?
– А я – Барсакельмесская пери.
«Пери, пери, пери…» – Иноземцев изо всех сил принялся крутиться, стараясь понять, откуда идет голос, откуда льется свет и где спрятался человек с рупором. Но всюду были только грозные копья сталактитов, так недобро напоминающие решетки тюрьмы. Он сжал рукой пылающую болью голову.
– Не может же так сильно напечь, что… – вырвалось у доктора в отчаянии.
– Смотри, сколько здесь золота! Бери, сколько хочешь, – вновь заговорила таинственная хозяйка пещеры, – и уходи. Уходи немедля и никогда сюда не возвращайся.
«Возвращайся, вращайся, щайся…»
– Я бы рад уйти… Да и не нужно мне ничего… А нет, вспомнил, мне в Ташкент нужно.
– В Ташкент нельзя, – голос дрогнул тревожной ноткой. – Возвращайся откуда пришел.
– Как – нельзя?.. Господи, с кем же я говорю? Почему нельзя? Бред какой-то… – обессилев от изумления, Иван Несторович присел на соляной пол пещеры. Голову уронил на руку, вновь свело желудок – сейчас опять начнется приступ рвоты. Крепко же его огрели басмачи по затылку. Кажется, сотрясение имеется…
– А где Юлбарс? Где этот лохматый тигр? Где шайка? И были ли они? Или уже лихорадка завладела моей головой?.. И почему мне понятна твоя речь? Ведь басмачи говорили по-тюркски. Я даже теперь знаю значение нескольких слов… А ты, пери, по-русски говоришь. Как-то это странно все. Разве пери говорят… – Иноземцев не заметил, как, бормоча, улегся, прижавшись горячей щекой к холодной скользкой соли, дотянулся рукой до края озера – ледяная вода тотчас остудила дрожь в теле. – …по-русски. И все же, кто ты? Покажись!.. Не могу поверить, что все это со мной происходит на самом деле.
Вдруг неслышная белая тень скользнула за спиной, присела рядом, коснувшись чем-то мягким лба.
Он обернулся – закутанная в шелковые невесомые покрывала, склонившись, на коленях стояла подле него сама барсакельмесская пери. Легким движением рук с нанизанными на запястья браслетами откинула с лица шелка. Обнаружив, к изумлению доктора, под ними – ласковое, улыбающееся лицо Ульянушки, обрамленное тесным восточным украшением из серебра: множество сверкающих монеток и камушек спускалось на лоб, щеки, перехваченных у подбородка большим желтым янтарем.
– Яснее-ясного – брежу, – проронил тот.
– Не ходи, Ванечка, в Ташкент. Там холера. Поезжай обратно, отсидись месяцок-другой в Асхабаде или в Баку. Пусть минует свирепая болезнь, потом приедешь.
– Наверное, никогда мне не забыть этого лица. Всю жизнь преследовать будет. Даже сюда, в Каракумы, забралась.
На что видение вновь спрятало лицо под покрывалом.
– Я принимаю облик того, чего мой гость больше всего боится. Была я семиглавым львом, и горящей птицей Симург, и котелком с раскаленным свинцом. Но чтобы красавицей-девицей – это впервые. Бери из этой пещеры золота сколько сможешь унести и возвращайся в родные края. Скажешь, был в плену на барсакельмесских островах… – заговорила она обиженно, а потом вдруг всхлипнула и добавила. – Оставила бы я тебя здесь, но к людям, видно, нужно поспеть – горишь весь. Ладно, Юлбарс проводит.
«Горю, – прошептал Иноземцев, потрогав лоб, – и вправду горю…»
Открыл глаза – кругом солнце, горячий песок и бело-голубое небо без единого облачка. Ни воды, ни озера с осокой по берегам, ни ялика, и самое удивительное – ни единой души из шайки бродячего тигра. Кряхтя, поднялся, снял очки – те сплошь побитые, одно из стекол на ладан дышит, вот-вот из оправы выпадет. Вспомнил про удар в затылок, дернул подбородком – замутило, но желудок был пуст – свело спазмом, и все на том. Потянулся рукой сначала к плечу – рукав оторван, глянул на руки – оба рукава оторваны, потянулся к голове – та перевязана грязной, насквозь пропитанной кровью тряпицей. Под прожженными волосами – сухая корка засохшей крови. Вспомнил и то, как затылок прижигали. И когда это было? Сегодня? Вчера? Неделю назад?
Повращал глазами, покрутился волчком – солнце в зените. А где юг, где запад, где восток, нипочем не разберешь. И стоял так, замерев, едва не с четверть часа, воспоминая-соображая. Горячий ветер обдувал лицо. Мысли все вперемешку – то пери вспомнит с лицом Ульянушки, то тигриную морду, то голос из мегафона Эдисона, эхом отдававшийся в стенах пещеры, то резкие, гортанные команды на тюркском.
Ну что дивиться да руками разводить – бросили помирать среди пустыни, надоело возиться, поняли, что живым не доедет до невольничьего рынка. А пери с лицом Ульянушки – приснилась, как и пещера Али-Бабы, и сокровища, и сталактиты, и озеро… Такое только в сказках бывает да во снах бредовых.
Надо идти. Быть может, где-то рядом то самое озеро с яликом, или море, или река, или мираж…
Но словно в подтверждение мыслей доктора или в насмешку над его надеждами вдалеке блестела полоска воды. Давеча озеро-то доктор принял за мираж, а мираж взял да целым морем обернулся, отчего сейчас не принять мираж за озеро, идти ведь все равно некуда. Снял остатки кителя, повязал им голову и двинулся в путь.
Сделал пару верст, вдруг видит впереди, на бархане, человек спиной сидит, весь с головы до пят в белом, только на макушке ярко выделяется круглый черный венец.
– Эй! – протянув руку, прокричал Иван Несторович.
Человек поднялся, покрывала его красиво на ветру развеваются, точно у Спасителя в Аравийской пустыне. Иноземцев припустился бегом, а Спаситель шагнул вниз и исчез, словно сквозь землю ушел, прямо под жаркие пески.
Эх, показалось!
Иван Несторович до холма дошел, на самый верх взобрался, чуть ли не по колено утопая в песке, глянул вниз – дюны и барханы справа, барханы и дюны слева, чуть тронутые тонкой извилистой рябью, а меж ними и небом лента горизонта сверкает, маня голубизной реки. Нарочно Господь Бог эти миражи придумал, чтобы духом не падать.
Еще версту осилил и ниц повалился без сил. Солнце спину обжигало, песок во рту, в глазах, в нос забился, ни вдоха, ни выдоха не сделать… Вдруг слышит сквозь дрему голоса – не иначе как брань басурманская вперемешку с тигриным рыком. Глаза открыл – глядь, а он снова верхом, да только лошадь его не едет, а на месте стоит, копытами перебирает.
Что это такое происходит? Что за шуточки! Минуту назад никого не было. Голову поднял: песка нет. Кругом опять лёсс и верблюжьи колючки, как у станции подле Артыка. Разбойники переругиваются, один даже саблю достал, тигр телом к земле прижался, будто перед прыжком оскалился, кончиком хвоста бьет по земле. Иноземцев поискал глазами полосатый халат атамана. Тот восседал верхом, важно скрестив руки на груди, глаза его – светло-золотистые, как два янтаря, грозно посверкивали на загорелом лице, по-прежнему наполовину замотанном платком.
Он зорко следил за развивающейся ссорой, но молчал, никоим образом не проявляя ни тревоги, ни беспокойства.
Поправив очки на носу, Иван Несторович наконец заметил, из-за чего склока: один из басмачей лежал в пыли, руки-ноги раскинув, и не двигался. Что могло с ним произойти – лишь бог ведал, но едва в Иноземцеве проснулся врач, готовый оказать помощь, атаман направил свою лошадь к его, и одним мощным ударом в плечо едва не сшиб с попоны.
– Давола уни![13 - Лечи его!] – гаркнул он.
Иван Несторович сполз на землю, но до недвижимого басмача так и не дополз. Ну что за дикари? Зачем было так больно бить в плечо, опять спазм подкатил к горлу, звезды заплясали пред взором, кругом закружилась голова, и пространство почернело.
Иноземцев зажмурился, одной рукой зажав рот, чтобы предупредить очередной приступ рвоты. И все померкло.
Открыл глаза – лежит на спине. Его все еще продолжало качать, но обдувало свежестью, пахло тиной. Притянул к лицу руку, вернул съехавшие набок очки, перед глазами простерлось черное полотно ночного неба с россыпью звезд. И были эти звезды так низко и так живописно мерцали, что непременно захотелось поднять руку. Всецело полагая, что видит сон, поднялся на локте и потянулся к самому яркому из небесных бриллиантов. Вдруг основание под ним дернулось, будто живое, стало ходить ходуном вправо-влево, будто то было огромное тело дива-великана. Доктор быстро пришел в себя, с глаз слетел сон, он успел заметить, что находится на длинной лодке, которую здесь именовали «каюк», две фигуры на носу, одну – с веслом, другую – восседавшую на мешках. И повалился в воду. Все тело прожгла судорога. Плыть он не смог, даже если бы умел.
– ?ой, ?арагин! – донеслось сверху. – У сувга йи?илди[14 - Эй, смотри! Он упал в воду.].
Раздался всплеск совсем рядом, кто-то подхватил Иноземцева за воротник, больно дернув гудевшую болью голову.
– Кyтар![15 - Поднимай!] – оглушительно проорали в ухо. Иноземцев не хотел утонуть, лицо заливала вода, тело было точно свинцом налито.
Он собрался с духом и попытался ухватиться за низкий борт плоскодонки. Зажмурился от усилий.
А когда вновь глаза открыл, пригляделся – оказалось, судорожно сжимает корявый корень саксаула, все ладони об нее изодрал. Завертел головой – снова в пустыне один. Сумерки. Через минуту-другую солнце совсем закатится за горизонт, только ветер шелестит в шапках иссохших кустов.
Как же так?! То желто-бурое одеяло кругом, то эти шапки да кривые деревца, корни которых порой выглядывали из песка причудливым змеиным клубком, то вода. Чудеса!
Иноземцев поднялся на колени, принялся ощупывать себя, одежда сухая, воды вокруг ни капли. Приснилось, что ли?
– Ванечка… Ванечка! – завыл ветер.
Слышал Иноземцев, какие правдоподобные миражи рисует пустыня, что даже опытные путешественники порой становятся жертвами ее проказ, но чтобы до таких степеней, чтобы глаза открыл – в одном месте, глаза закрыл, снова открыл – в другом оказался, кто рассказал бы – ни за что б не поверил. Хотел встать да пойти, но голову на песок склонил, внутренне смирившись, что тщетны его усилия. Тут опять ветер в кустах, дразнясь, зашуршал:
– Ванечка, вставай, идем!..
Ванечка послушно встал, покачался и опять лицом вниз. Думал, в песок мягко упадет или хотя бы в прохладные воды канет, но грохнулся на пересушенный лёсс. Вот опять двадцать пять – лежит, удивляется: только ведь на песке лежал, теперь жесткая почва лёсса.
– Вези меня, ковер-самолет, до Ташкента, – проронил он.
Вдруг по щучьему велению, по Ивана Несторовича хотению, лёсс закачался и взмыл ввысь. Ветер волосы трепет, лицо обдувает. Глаза открыл – медленно перед взором проплывает пустыня, меняя очертания пейзажа, точно картинки ручного кинетоскопа. Отрезвленный столь странным видением, кое-как поднялся, но, закачавшись, повалился за край ковра-самолета. Казалось, сейчас взовьется ввысь, словно птица, но лицом ухнул в песок. Взгляд его скользнул вправо, потом влево. Не на ковре-самолете он летел, то была арба с огромными колесами, запряженная осликом, которым погонял человек в белом, что впереди него маячил. Человек почувствовал, что за спиной повозка дернулась, обернулся, а это и не человек вовсе, а пери барсакельмесская с лицом Ульяны. Поспешно оставив вожжи, волшебница бросилась помогать доктору, подняла его, на арбу усадила.
– Держись за край, не вставай больше. Нельзя на песке лежать – тарантул за нос тяпнет или скорпион. Сейчас до аула довезу, там люди.
– Зачем люди? – улыбнулся Иван Несторович глупой опьяненной улыбкой. – Ты же пери, оберни пустыню оазисом, пусть сейчас на этом самом месте фонтан чистой воды из-под земли забьет.
– Шутите, Иван Несторович? Видно, сильно вас Обид стукнул. Вай-вае.
– Нет, что ты, какой шютка, – с напускной серьезностью ответил Иноземцев, закрыл глаза и в сон провалился.
Глава III. Обещание
– А потом я у вас очутился, – закончил Иван Несторович.
Маленький текинец повернулся к остальной ребятне и стал поспешно переводить на тюркский последние слова русского доктора, жарко жестикулируя и прерывая рассказ восхищенными междометиями. Десятилетний сын лейтенанта туркменской конной милиции уже два года учился в чарджуйской русско-туземной школе, хорошо владел русской грамотой, был прилежным учеником и готовился занять место подле отца и старших братьев в полку.
По правде сказать, Иноземцев сам не знал, что из рассказанного им же самим было, а чего не было, он даже не знал, который сегодня день и какое число. И теперь, лежа в кибитке гончара на коврах среди вышитых узорами текинских подушек, с перебинтованной чистыми полотняными бинтами головой, внезапно обнаружил в себе дар сказочника. Ежедневно он тешил любопытство местных ребятишек байками захватывающего содержания о гостеприимстве таинственного Юлбарса, никому не открыв, однако, что на самом деле это было не атамана имя, а тигра, чтобы не портить легенды. Так, поди, рождаются все мифы и предания на земле. Ни за какие богатства бы не признался доктор в своем приключении, если бы проницательные жители аула Кара-Кудук не догадались, что пассажир товарно-пассажирского поезда, несколькими днями ранее ограбленного бандой Бродячего Тигра в нескольких верстах от Уч-Аджи, и есть спасенный ими русский табиб.
Вот как история спасения Иноземцева звучала из уст туземцев.
Вдалеке, на самом высоком песчаном холме, в час заката вдруг показалась арба, запряженная осликом, украденная накануне ночью у гончарных дел мастера, – раз в неделю на сей прекрасной колеснице тот свозил горшки в Чарджуй. Под уздцы ослика вела воздушная фигура в белом, одежды ее развевались на ветру, пронизанные лучами заходящего солнца. Бросились люди к холму, а фигура рассеялась в предзакатном мареве, оставив арбу с Иноземцевым. Все тотчас же поняли, что пред ними сама барсакельмесская пери являлась, которую, по древней легенде, коварный сын персидского шаха – Юлбарс – запер на барсакельмесском острове посреди Аральского моря и ныне, завладев ее душой и сердцем, мучает шантажом и заставляет пособлять в своих набегах.
Уже год минул, как она впервые появилась в здешних краях, а увидеть пери не чаяли текинцы с самых незапамятных времен. С весенним цветением пустыни явилась. Давно уже ни пери, ни дивы, ни гуль-джинны не спускались на землю, не показывались простым смертным. А тут вдруг повадился восточный ангел по пескам шнырять, да не просто так усталому путнику он являлся, готовому любое движение нагретого воздуха принять за спасительный оазис, а возникал он в белых, летящих одеждах на платформе железной дороги перед едущим поездом, перед караванами появлялся, у аулов. Машинистам приходилось состав останавливать, караванщикам замедлять ход вереницы верблюдов, в аулах люди из шатров выскакивали – поглядеть на чудо-деву. А в ту минуту Юлбарс нападал, грабил молниеносно и уходил. И слова поперек сказать не могли, потому как с ним завсегда тигр был, готовый растерзать на части любого, кто хоть движением неловким обратит на себя звериное внимание.
Разное люди говорили о разбойниках этой таинственной шайки. Но то были не аламаны, текинские разбойники – с приходом русских все почтенные аламаны поспешили записаться в конный полк и больше не грабили почтенных аульцев, а напротив, защищали их хозяйство от вторжения персов. То были не персы, ибо хоть и ходил слух, что Юлбарс – персидского правителя сын, а сами басмачи порой в кандурах щеголяли, закаспийское правительство его опровергло, ибо у Насреддин-шаха, кроме сорокалетнего Мозафереддина, генерал-губернатора Азербайджана, живущего в Тебризе, больше сыновей не было.
Запросы делали в Мервский, Самаркандский, Кокандский и Ташкентский уезды, где Юлбарс тоже пошаливал, но бухарцы, хивинцы и кокандцы клялись-божились, что Юлбарс – туркмен, ибо носит тельпек и машет кривой саблей.
Хитрецом еще тем был Бродячий Тигр. В одном месте что-нибудь натворит и исчезает, появляется за тридевять верст от него, меняет костюмы своим разбойникам и под личиной соседа творит произвол. У реки Теджен они бухарцами прикидывались, в горах Чимгана – текинцами, а у Каспия в тюбетейках щеголяли или в островерхих киргизских шапках. Оттого и было у Юлбарса сто легенд и сто личин, одной лишь неизменной чертой оставался – дрессированный тигр.
А тигр этот тоже был аки призрак. По всему побережью Амударьи, где обитали туранские тигры, победным маршем прошлись русские солдаты, отстреляв почти все особи полосатых кошек весом аж до пятнадцати пудов, но Юлбарс все равно всюду являлся со своим неизменным хвостато-усатым спутником.
Поймать его было абсолютно невозможно, степи да пустыни столь широки в этих краях, что слухи о нападениях быстро таяли, из были тотчас превращаясь в легенду. И никто не мог разобрать, чьих рук грабеж – действительно ли Юлбарса или какая другая шайка басмачей заявила о себе, а таковых ведь было тоже немало.
Потому Иноземцев, явившийся в аул едва не под руку с барсакельмесской феей, тотчас стал объектом для расспросов. Счастливый гончар Максуд, которому вернулась его арба, тотчас умирающего, с повязанной головой спасенного, проявив верх восточного радушия, обустроил в собственной кибитке. И отправился в железнодорожное управление, в штаб-квартиру начальника Чарджуйского уезда, ротмистру Полякову, чтобы заявить о находке. Ротмистр, из уральских казаков, отдыхал тем временем в Асхабаде, а, может, по обыкновению своему стрелял джейранов в Байрам-Али, еще не воротился на свой участок. Потому Ивану Несторовичу и пришлось коротать время, потчевать сказками текинских детишек. Он даже пробовал лечить их от трахомы, когда немного оправился.
Его очки были совсем разбиты, но кое-как их наладив, где бечевкой, где просто остатки стекол соединив и, как следует, их к оправе прижав, он смог осмотреть местную детвору.
Все поголовно ходили с красными, гноящимися и опухшими глазами, у иных веки были вывернуты едва ли не наизнанку, ресницы росли внутрь, раздражая и без того измученную слизистую роговицы. Иноземцев сам очень страдал без зрения, и страдал воспалениями, когда пробовал использовать роговичные протезы.
Малые дети были почти слепы, все в язвах и страшных нарывах. А инструменты, мази, порошки, которые Иван Несторович заготовил перед поездкой в Петербурге, – все осталось в поезде или было украдено басмачами. Даже дезинфицирующего раствора он не смог изготовить, находясь в кибитке гончара. До города Чарджуй сотня верст, не меньше. Потому он обходился настоями растущей в горах календулы, что собирали местные женщины, и обычной водой из Амударьи, которую по его наказанию отстаивали и тщательно кипятили. Да и пробовал внушать ребятне любовь к чистым рукам и лицу, заставляя их умываться по несколько раз на дню.
Что спасенный русский путешественник – умелец врачевать, стало известно всей округе. Местное население облепило кибитку гончара, и днями и ночами не давало Иноземцеву покоя. То с нарывами приходили, то с вывихами, которые неправильно до того вправляли, то с себореей, то с рожей, то с лишаем. Иноземцев как мог старался помочь больным, но в полном отсутствии условий это было не только невозможно, но и чревато. Он рисковал в несколько дней получить с десяток кожных заболеваний, лечить которые не взялись бы и самые маститые врачи Европы, иные ведь заканчивались смертельным исходом. Не говоря о том, что он едва не выл от всесторонней оккупации вшей, блох и клопов.
Работы здесь было на несколько жизней вперед хватит. А не послушать ли барсакельмесскую пери и не повременить с отъездом в Ташкент в пользу здешних ребятишек? Кроме того, от трахомы у Ивана Несторовича имелось если не лекарство, то идея сотворить такое средство, которое бы позволило снять воспаление с роговицы.
Дело в том, что пока Иван Несторович готовился к сражению с концерном «Фабен»[16 - Читайте об этом в романе Ю. Нелидовой «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).], он долго размышлял о том, отчего немцам пришло в голову изготовлять лекарства на основе красителя анилина, и он решил сотворить с анилином то, что он сотворил с даурицином. Он ацетилировал его. А следом нитрировал, гидрировал, соединял с бромом, соляной кислотой, хлорной известью. Надышался парами и едва не заработал токсическую желтуху! Полученные вещества испытывал на кроликах. Оказалось, что один из порошков производной анилина хорошо справлялся с воспалительными процессами.
Теперь же, вспомнив о своем опыте, он решил попробовать лечить ацетилированным анилином трахому, а, быть может, и иные инфекционные заболевания. Тем более что текинцы нескончаемым потоком шли к нему, уже даже с бухарской границы – сарты, которые называли себя узбеками и таджиками – стали являться к нему на прием. Бедное туркестанское население погибало от всяческих неизведанных бактерий, которым жилось вольготно среди песков под жарким солнцем.
В несколько дней он обрел популярность волшебника. В конце концов, туземцы потребовали от него неосуществимого. Привели семилетнего мальчика, который, видимо, с рождения не имел левой руки – осталась лишь небольшая культя чуть ниже плеча. Он был сиротой, как и трое его братьев и две сестры. По невнятным объяснениям туземцев доктор понял, что он приходился племянником тому самому гончару, что его приютил.
– Надо новую руку, – перевел сын лейтенанта конной милиции. – Спрашивают, сможете ли вы пришить ее?
Иван Несторович взглянул на ребенка – маленький, круглощекий, с большими черными глазами и курчавыми волосами так жалобно и с таким ожиданием смотрел на него. Небось поспешные, бойкие туземцы уже успели расписать с три короба о чудесном выздоровлении – когда еще им выпадет удача побывать на приеме настоящего доктора.
Доктор же не смог найти слов, дабы объяснить, что ничем не сможет помочь. Ошеломленный просьбой, он замер, глядя на мальчика. Но гораздый на фантазии разум Иноземцева, всегда бегущий впереди паровоза, тотчас забурлил, перемалывая возможные вероятности сотворить новую конечность.
– Да… почему бы и нет… протезирование… возможно, механическими приспособлениями, например, лебедки, крючки, струны, каучук… – перечислял он вслух, без зазрения совести вспомнив, как однажды обещал вылечить паралич гипнозом и что сей эксперимент, если отбросить непривлекательные нюансы, весьма удался. – Может, попробовать… поймать электромагнитные волны мышц сгибателей… Вот если бы научиться выращивать кожу, как растят фузарий в чашах Петри, если бы можно было выковать из стали костный состав, а мышцы… сухожилия… нервы сработать из… Или вовсе трансплантировать конечность.
Иноземцев замолчал, вновь замерев. Уставился в одну точку, даже стянул с лица очки. Явилось доктору удивительное воспоминание, как рассказывал Ульяне свою теорию об электромагнитном поле, остающемся после смерти человека, которое невежды принимают за привидение. Машинально он провел ладонью под культей, словно надеясь, что сможет поймать эти неуловимые простому глазу человека излучения. Ведь давно известно, что человек, лишившийся конечности, продолжает чувствовать ее фантомно.
– Электричество, – проронил он. – Животное электричество.
Туземцы окружили доктора, они смотрели на него, затаив дыхание, словно чувствуя или заметив по его восторженно-удивленному выражению лица, что, возможно, сейчас, сию минуту, он на грани гениального открытия, а, значит, сможет подарить малышу новую жизнь и будущее. Ведь как без руки-то жить? Ни коня оседлать, ни подковать, ни арбой править, и уж тем более никогда не сесть за гончарный круг. Да и кто за однорукого-то замуж пойдет, бравому джигиту как минимум двух жен положено иметь. А русские, это ведь почти англичане, они все могут, все знают.
Иноземцев мотнул головой, придя в себя.
– Опять очередная безумная идея. Это неосуществимо! – воскликнул он и с безнадежным вздохом добавил: – Трансплантировать!.. Сколько раз с Трояновым пальцы пытались пришивать, не приживаются…
– Так у вас не выйдет? – осторожно спросил сынишка лейтенанта. – Посмотрите на ящерицу, она умеет новый хвост отрастить. Помогите Дауду, вы же настоящий доктор. Дауд гончаром стать хочет, как его дядя Максуд, но без второй руки никак не получится даже кривой пиалы слепить.
Иноземцев вернул очки на нос.
– Пиалы? – в наивном недоумении пробормотал он. – Ящерица? Так то ящерица… Это ведь типичная репаративная регенерация в отличие от физиологической, присущей человеку. Да, такое бывает у ящериц, головастиков, креветки умеют отрастить себе новые антенны…
Но запнулся, оглядев толпу сквозь побитые окуляры, хотел было продолжить, объяснить, что человек еще не научился отращивать себе конечности, что способности его регенерации очень скудны, что можно в крайнем случае сконструировать протез, но понял – его не поймут. Туземцы ждали однозначного ответа: либо да, либо нет.
«Нет» он сказать не хотел.
«Да» он сказать не мог.
– Я подумаю об этом… – нашелся наконец Иноземцев, а туземцы расценили это как «да».
Кибитка сотряслась от радостных восклицаний, мохнатые бараньи шапки полетели к потолку.
На прощание для доктора устроили самый настоящий пир с песнями и плясками в обширном жилище старейшины аула. Позвали именитого бахши, четырех музыкантов. Хотя Иван Несторович умирал от усталости, ведь был еще очень слаб после сотрясения, но отказать не мог, когда его повели на самое почетное место у дастархана в шатре аксакала. Пришлось Иноземцеву, привалившись спиной к ковру на стене, чтобы не упасть, смотреть, как феерично пляшут под куполом лихие текинские джигиты, потрясая мохнатыми папахами и звеня стальными шпорами, как бойко кружатся их жены и сестры – темнобровые текинские дамы, слушать, как плачут струны гиджака под смычком совсем юного певца-бахши, обладателя звонкого сильного голоса, до того пронзительного, что первые два часа Иноземцев едва не оглох и мучился вновь охватившей его головной болью. Но к полуночи доктор смирился и даже нашел в этой заунывной, жалобной музыке особое очарование. Бахши по обычаю начинал свою песню с заходом солнца, а заканчивал к восходу, иногда отдыхая, подносил к губам пиалу, которую в соответствии со строгими правилами всюду носил с собой на поясе в специальном чехле.
Слушал Иноземцев, а мыслями был далеко. Взглядом искал среди толпы однорукого малыша. Видел он, как старшая сестра на радостях тогда подняла его на руки и что-то восторженно застрекотала по-тюркски, гладила по плечу, заставляя ребенка сиять от счастья. Сердце доктора сжималось все больнее и больнее. Весь вечер, всю ночь и все следующее утро, пока за ним не приехали солдаты из Чарджуя, он пытался вспомнить, какие новые труды выходили в последнее время в мире науки, какие открытия сделали намедни в областях физики, механики и медицины. И пожалел, что сейчас не в Париже, пожалел, что не свободен, пожалел, что швырнул в море миллионы франков, которые можно было обменять на книги, инструменты, реактивы.
Мало-помалу Иноземцев стал возвращаться из прострации в прежнее состояние ученого, живущего научными идеями, который питается ими аки воздухом. Новая, внезапная и любопытная идея на мгновение оживила его, одновременно подействовав как ледяной душ. Ведь до того безумие овладело его разумом, что луноверин свой отстоять не смог, потерял лабораторию в Париже, общество ученых в Институте Пастера. И все-то его несдержанность, порывистость, необдуманность, склонность к фантазиям и непомерно богатое воображение. До чего докатился! Жил в Европе, был уважаемым человеком, доктором с двумя сотнями пациентов, статьи в журналы научные писал, прививками занимался. Опозорил месье Пастера этой своей ребяческой выходкой с кроликами[17 - Читайте об этом в романе Ю. Нелидовой «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).], стыд да позор. Как он теперь посмотрит в глаза почтенному французу, открывшему прививку не для баловства ради, а во имя жизни?
Чудака Герши под угрозу ареста подставил, Ромэна едва не убил… Откуда в нем столько жестокосердия, столько ненависти набралось? Стрелять в человека!
А Ульяна? Погубил ее… Да пусть трижды, сотню, тысячу раз она заслуживала смерти, но как мог он безжалостно натравить на нее полицию, на сиротку без воспитания, оборвыша в душе, ребенка!
С ужасом вспомнил Иван Несторович, какую она заботу к нему проявляла, как из тюрьмы барменской помогла выбраться, как под руку держала, пока он во власти анилиновых паров боролся с приступами головокружения, будто сиделка за ним смотрела, пока он, позабыв обо всем на свете, погрузился в спешное изучение анилина. Быть может, она была готова исправиться, быть может, впервые в жизни правду говорила, обещание давая, что послушной станет. А он не поверил!
Стыдно стало Иноземцеву, что поступил с девушкой непростительно жестоко, возложил на себя права правосудие вершить, наказать хотел, чтоб неповадно стало. А что теперь с нею? Где она?
Уж дай бог, сумела избежать тюрьмы, укатила куда-нибудь в свой Техас. Ульянка смышленая, что-нибудь да придумала. Лишь бы больше мышьяк не пила и жила счастливо.
С болью в сердце Иноземцев понял, что больше ему не увидеть свою неудавшуюся супругу, да и на ком другом жениться он зарекся. Что до него – негодяя и чудовища – не зря сослан в пустыню, где и помрет. И если удастся, то займется исследованием трахомы и отыщет способ, как изготовить новую руку бедному Дауду. Пусть даже всю жизнь искать придется. Раз обещал, обещание надо сдерживать.
И потому, когда пришлось с текинцами прощаться, он дал слово приехать вскоре. Покинул аул с надеждой, что начальник Чарджуйского уезда разрешит вернуться с инструментами и необходимыми медикаментами. Тем более что солдаты оговорились, мол, багаж его нетронутым в пассажирском вагоне того злополучного поезда остался. А там были редкие инструменты и парижский микроскоп его личной сборки с пятилинзовым объективом, что немало обрадовало Ивана Несторовича.
Господин Поляков принял Иноземцева в собственном доме с радушием, ничем не уступающим текинскому. Лучшую комнату выделил, личную прислугу приставил. Выкупали, накормили и спать уложили, за чем строго проследила супруга – бойкая казачка Евгения Петровна. А сам за доктором из железнодорожного управления в соседнее селение отправился, дабы тот осмотрел голову, хотя Иноземцев отнекивался и заверял, что уже все почти зажило.
Домочадцы ротмистра ахали и охали, когда увидели несчастного Ивана Несторовича в разорванной рубашке, всего перепачканного в крови и грязи, с перевязанной головой. Величали счастливчиком. Ведь был доктор единственным, кто Юлбарса самолично видел и живым от него воротился. Хотя не все железнодорожное общество в чудную легенду его спасения верило. Доктор Корбутт, пока голову Ивана Несторовича осматривал, всего вопросами измучил, мол, и как выглядит этот «бродячий тигр», и сколько у него народу басмачей подручных, и был ли зверь, и какой он из себя?
Иван Несторович не успевал отвечать на расспросы врача, тот не дожидался ответов, сам их давал, строя собственные предположения и делясь догадками, весьма, как ему казалось, аргументированными. В конце концов, ушел с абсолютной уверенностью, что текинцы опять впали во власть легенд собственного сочинения, а спасенный Иноземцев не мог в таком состоянии что-либо осознать и запомнить. Даже обещал поговорить с начальником управления, чтобы Александр Минаевич не слишком терзал допросами, мол, ничего не попишешь, и показания вновь не приведут ни к чему, кроме трат и тщетных попыток сыскать в поле ветра.
– Слава богу, не было никакого Юлбарса, – утешал доктор Корбутт, складывая свои инструменты в сумку. – Обыкновенные басмачи. Хорошо, что поспели прижечь задетую артерию. Вы, Иван Несторович, на волосок от смерти были. Это чем же они таким вас огрели-то? Не иначе прикладом. Вас головокружения не мучают уже? Тошнотой не страдаете?
– Нет, – соврал Иноземцев.
– Ну, стало быть, серое вещество на месте, – сыронизировал Корбутт.
Иван Несторович равнодушно пожал плечами, не стал доктору жаловаться на здоровье. Лишь, когда тот уходил, остановил и спросил, как долго до Туркестана доходит корреспонденция и выписывают ли они из России и Европы какие-нибудь научные журналы. На что получил весьма неутешительный ответ:
– По три, а то и по четыре месяца ждать приходится.
Глава IV. Призрак Элен Бюлов
Ротмистра Полякова Александра Минаевича очень разбирало любопытство, как, впрочем, и все остальное железнодорожное общество, да и протокол-то надо было составить и начальнику Закаспийской области, Алексею Николаевичу, генерал-лейтенанту Куропаткину отправить о подвергнутом нападению поезде. Но не хотелось ему – от природы человеку сочувствующему и добродушному – терзать душу и сердце господина Иноземцева сухими уставными речами и допросами. Поэтому он решил сначала расспросить доктора за ужином в веселой компании, созвав своих коллег на помощь. За столом собрались: шумный казак капитан Чечелев, батюшка отец Иордан, геодезист Максимович, инженеры Пузына и Бенцелевич и доктор Корбутт, а супруга Полякова то на стол накрывала, то на фортепьяно наигрывала, вставляя бойкие свои комментарии в общий разговор. Ей это было простительно, ибо она с сотни метров в туза попадала, а уж что там острое словцо – можно было и простить.
Но Иноземцев молчал весь вечер и едва ли пару раз рот раскрыл, как честная компания уездного начальника того ни пытала.
– Это, конечно, большое несчастье, – говорил Бенцелевич, взявший на себя смелость первым начать разговор в нужном, всеми ожидаемом русле, – приехать в такой край исключительный, дивный и сразу ознакомиться не с самой приятной его стороной.
Иноземцев, получивший свой багаж и оттого почувствовавший себя несколько лучше в зеленом форменном сюртуке, надетом заместо своего белого кителя, искромсанного на бинты и потерянного в песках Каракумов, глядевший на мир через новую оправу, едва услышав, что зашла речь о его приключении, опустил глаза и покраснел. Ведь откуда этим почтенным господам было ведомо, что особенность у него была такая, проклятье, наверное, – попадать во всякого рода переделки. Не был бы он доктором Иноземцевым, если бы не познакомился с разбойничьей шайкой и тигром Юлбарсом. И смех и грех.
– Но вы еще успеете полюбить Туркестан, – утешал инженер. – Люди здесь добрые, сердечные, работящие, каких во всем свете белом не сыщешь, последнюю кроху отдадут ближнему, и оттого им чуждо воровство, стяжательство. Восток! Верите, нет, но я дверей своего дома на ночь не запираю. Собака есть, и все. Хоть раз кто б пожаловал! А весна… Весна здесь какая красивая, в предгорьях такие фазенды. Уж чего стоят угодья госпожи Польджи, жены бывшего мервского хана. А сколько здесь дичи: гуси, лебеди, утки; пернатые сюда на зимовку со всей России слетаются.
Иноземцев растянул губы в подобии улыбки, отчего-то вдруг ощутив себя весьма не в своей тарелке. Сидел как неживой, оттого что головой двигать не мог, только взгляд переводил от лица одного собеседника на другого. А все на него в ответ смотрели глазами жадными, пронзительными. Уж лучше бы оставался на коврах кибитки гончара, ребятне сказки рассказывать куда приятней было, чем праздное людское любопытство удовлетворять. Ох до чего люди жадны до чужого горя, до зрелищ.
Хотел доктор ответить вежливо, но получилось сухо: «мол, я против того, чтобы птицу отстреливали, и сам давно дичи в пищу не употребляю».
Брови от удивления поползли вверх у всех, даже у отца Иордана, но тот вовремя себя одернул и принялся за длинный хвалебный панегирик. Пришлось Иноземцеву рассказать и то, что, будучи в гостях в ауле Кара-Кудук, питался исключительно чуреками и зеленым чаем, что даже знаменитый текинский рис с бараниной не отведал. Господин Пузына и капитан Чечелев стали иронизировать, ставить под сомнения слова доктора, мол, не верим, текинцы нрава бойкого и очень не любят, когда их традициями пренебрегают. Отказаться от «пилова» – да где это видано!
Если и ранее железнодорожное общество опасалось не разговорить господина Иноземцева, то после такого заявления с его стороны и вовсе все потеряли всякую надежду узнать хоть что-то про Юлбарса. Если уж у текинцев баранины не отведал! Суровым, должно быть, человеком был.
Господин уездный начальник не отчаялся, взял инициативу в свои руки, стал давить на жалость, думал, доктор сам догадается, что пролить свет на совершенное посреди железной дороги преступление будет с его стороны большим вспоможением.
– Хоть народ здесь и добродушный, но не без происшествий, – со вздохом начал он. – Хорошо вам, господа, живется, вы двери на ночь не запираете. А вот знали бы, сколько знает уездный начальник, должный полицейские обязанности по всей железнодорожной платформе исполнять на цельные двести восемьдесят шесть верст, тогда б не то что запирались на три замка, тогда железными оковами двери одели, навроде кованых бронзой ворот Оханин в Самарканде, которые, по легенде, ни один враг не мог сломать. И сон всякий бы потеряли.
– Да ладно, Александр Минаевич, говорить уж. За сколько лет впервые поезд басмачами остановлен, – не стерпел Чечелев. Капитан всегда говорил много и громко, но сегодня в обществе таинственной фигуры врача, сидящего с отрешенным видом, все на него шикали и грозно поглядывали, мол, не пугай нам гостя, и без того он неулыбчивый и серьезный. Еще чего, покинет дом неловким словом задетый, и поминай как звали, так о Юлбарсе ничего и не узнаем.
– Ну, этот… – протянул Александр Минаевич, – в Чарджуе, может, и не останавливали, а в других уездах – сплошь и рядом. Сколько жуликов развелось… Не Туркестан, а прямо Дикий Запад какой-то!
Поляков не без удовольствия заметил, как доктор вскинул глаза на него при слове «жулик» и судорожно дернул подбородком.
– Был у меня случай, – поспешил закрепить полученный результат Александр Минаевич. – Аж восемнадцать арестованных! Напрасно арестованных. Столько слез, столько плача… Но это не моя вина, а господина подполковника Иванова. А жулики попались изворотливые, так их и не поймали. Двое работали. Чисто, я вам доложу.
Иноземцев впился взглядом в начальника уезда. И сердце его зашлось барабанной дробью. Ведь понимал он умом, что не добраться до песков каракумов-кызылкумов ни Ульянке, ни Ромэну. Да и что они бы здесь делали? Такой климат, такая грязь и нищета, но отчего-то неспокойно ему стало. Надеялся, что хозяин не станет дальше продолжать, но тот был решительно настроен сегодня помучить доктора полицейскими байками.
– Собирали они деньги в пользу вдов и сирот разгромленных аулов, причем воспользовались документом, якобы мною лично подписанным… Это ж надо, какова наглость! Где-то на границе бухарского эмирата сие происходило, на тысячной версте. Насобирали тысячи на три и не успокоились, дальше по кибиткам ходили, а когда их ловить начали, забрались ко мне в дом, унесли все подчистую: казенные деньги, серебро столовое, оружие текинское, которого у меня была огромная коллекция. А потом испарились, будто мираж. Я даже шороха не услышал, хоть всегда и держу под подушкой заряженный «смит-энд-вессон». Ночью! Вот какие мастера бесшумного дела.
– Вы их так и не поймали! – проронил Иноземцев не в вопросительной даже, а в какой-то отчаянно-восклицательной интонации.
– Нет, но были это – что уж я доподлинно знаю – проклятые социалисты-революционеры, которые не только деньги с доверчивых простачков собирали, но и партию свою пополняли новобранцами. Не знаю уж, как в столицах государства нашего дела обстоят, так ли, как газеты пишут, как слухами доносится, но чует мое сердце, все неспокойней и неспокойней там, раз уж революционеры и до Туркестана добрались, местных басмачей вербуют, чтобы перевороты учинять. А ведь покорные ныне беки – весьма непостоянные господа, они то аглицкое оружие скупают, то с персами беседы ведут. Вон из Джизака донесся недавно слух о восстаниях. Окажется партия революционеров сильнее и богаче, все – конец порядку. А мы здесь худо-бедно дорогу проложили, селения, школы строим, детей грамоте учим, ирригацию налаживать пытаемся. Ведь какой дивный край, какая почва плодородная! Не зря ж от индуса до японца, от француза до американца – хоть краем глаза, но на Закаспий все заглядываются. Думаете, здесь все – кругом одни пески да солончаки? Лёсс, если его питать правильно, многие тысячи прокормить способен. И хлопок, и фрукты-овощи… Цельные поля, версты, версты полей. Арбузы, дыни! Эх, что и говорить. Досадно будет, ежели какой-нибудь Юлбарс испортит такой благородный замысел.
Иноземцев внимательно слушал Полякова и внутренне, конечно же, ему и всему туркестанскому краю сочувствовал. Но сочувственные речи остались глубоко внутри самого Иноземцева и выхода наружу не нашли. Он молчал, продолжая смотреть на смолкшего хозяина, и даже не заметил той неловкой паузы, возникшей вследствие его отчужденности и крайнего, да еще за многие года окрепшего, человеконелюбия.
В мыслях вдруг стали совершенно некстати восставать образы, порожденные больным воображением брошенного среди пустыни умирающего. Чего только не привидится в таком состоянии под палящим солнцем! Но до того видения были яркие, запомнились ведь, как назло, заразой засев в мозгу. Ни дня не проходило, чтобы доктор не вспоминал пещеру посреди Аральского моря и лицо Ульянки-негодницы. А потом сразу же начинал хулить себя за безжалостность, вспоминая Дюссельдорф. Все равно, что родную дочь из дому выгнать! До чего его совесть теперь мучила. С каждым днем все сильней. Не лучше бы дал умереть от мышьяка… Где же она теперь? Где? Бесконечно глупо полагать, что как-то связано ее появление в пещере с Юлбарсом. А может, это происки этих самых социалистов-революционеров? Может, она примкнула к банде новомодного течения? Ведь в ее это духе, ведь жизни она спокойной не разумеет. Или она прознала, что Ивана Несторовича в Ташкент откомандировали, и за ним следом увязалась, месть замыслив. Какие последние слова она произнесла? Что принимает вызов и теперь из-под земли Иноземцева достанет, чтобы нож в самое сердце всадить.
«А ну и пусть, – мысленно махнул рукой Иван Несторович. – Пусть, уже ничего не страшно. Да и страх этот необоснованный. Юлбарс-то уже с год как просторы туркестанские набегами будоражит, и пери с острова Барсакельмес тоже давно являться стала, давно маячит в белом на железнодорожных путях… Но все же до чего это в духе Ульяны, ее почерк». С содроганием сердца тотчас припомнил Иноземцев выходки девушки в его квартире на Введенке у старухи Шуберт.
И подписки в пользу сирот – ее почерк, и облапошенный чиновник – ее рук дело. Если так продолжать размышлять, то все преступления мира она сфабриковала.
«Нет, нет ее здесь. Сказки все. Текинские туземные сказки».
– А что ж вы про гелиографы молчите? Расскажите про гелиографы, Александр Минаевич, – пришел на помощь инженер Пузына, видя, что гость сидит, совершенно не поднимая головы, и на Поляковы искусные поползновения никакого внимания не обращает. – Три штуки стащили, подлые разбойники. Так и не сыскали инструментов. А ведь пока новые выписали, пока их из-за Каспия прислали, несколько дней жили без сообщения с железнодорожным управлением, пришлось прервать экспедицию.
Иноземцев вновь дрогнул.
– Гелиографы? – проронил он, вспомнив, как с потолка пещеры на него вспыхнул свет каких-то замысловатых круглых прожекторов. Он ведь и не подумал сначала, что это могло оказаться зеркало гелиографа. Да и подозрительно число пропавших приборов совпадало с числом осветивших озеро лучей. Двое по бокам светили, один сверху.
– Мы ведь тогда в Кызыл-Кум отправились, меж Юз-Кудуком и Кара-Батыром подземные воды искали, и наши гелиографы были нам весьма необходимы, – продолжал инженер, обрадованный было всколыхнувшимся интересом доктора, но тот едва проронил слово, уткнулся взором в вышитые цветы на скатерти и уже о том, как в экспедицию ходили господа инженеры, он не слушал. Опять думал о своем.
Поляков поспешил подхватить рассказ господина Пузыны, в очередной раз предприняв попытку повернуть разговор в сторону Юлбарса.
– Вестимо, чьих рук дело, – безапелляционно заявил он.
– Бродячий Тигр! – выдохнула взволнованная Евгения Петровна, проявив удивительную догадливость. Сидела она за фортепьяно и, как и все, сверлила Ивана Несторовича ожидающим взглядом.
– Да, все они, разбойники здешние – бродячие, да и тигры – тоже все. Зверье оно и есть зверье, – загадками начал рассказывать начальник управления, видя, что страсти туркестанские Иноземцева нисколько не тешат, решил поведать ему диковинок из областей более занимательных, нежели политика и революционеры, а тут, глядишь, и выведем разговор на его загадочное пребывание у Юлбарса. Начальник железнодорожного управления, между прочим, не из простачков каких-нибудь, а с большим стажем работы в оренбургском жандармском корпусе, откуда переведен два года назад во владения текинцев, и не таких, поди, раскалывал, молчунов.
– У нас здесь нынче все с ума посходили, возвели этого призрачного мальчишку в ранг настоящего чудовища. И что о нем говорят? Фи! Мол, тигра приручил.
– Так разве это сказки? – отозвался геодезист. – Сами рассказывали, один из товарных вагонов поезда, что остановили у Уч-Аджи эти разбойники проклятые, весь в тигриных следах был. Зверь мешок с мукой вспорол, так и тянулся след белый от платформы по пескам на две сажени и след кровавый – тотчас же решили, что это вас, Иван Несторович, сей зверь и утащил в пустыню. И лапы, всюду лапы были. Рассказывали же, Александр Минаевич?
– Да прям уж лапы, – отмахнулся Поляков, хитро прищурил глаза и, поглядев на Иноземцева, с довольством отметил, что тот вновь встрепенулся. – У страха глаза велики. Сами сарты небось и натоптали. Я другое расскажу! Жил, говорят, лет эдак десять-пятнадцать назад сначала в Бухаре, а потом в Джизаке один удалец, коммерсант, некто Михайло Алексеевич Хлудов. Слыхали о таком, Иван Несторович?
Тот чуть повел головой справа налево, глядя на рассказчика в немом ожидании продолжения истории.
– Вот он был, царствие ему небесное, мастак со зверьем обращаться. Силен был, как Аттила, как Илья Муромец. Медведя держал в подвале, нет-нет устраивая с ним состязания. Потом ходил с изодранным лицом. По дому его запросто так волки бегали, как псы. Он мог их одной рукой за загривок приподнять, в глаза раз взглянуть – и все, волк поджимал хвост и скулил жалобно. У него и тигры водились. А точнее, тигр и тигрица. Не помню, как он любимицу-то свою величал. Сильва, кажись…
– Не Сильва, а Мирабель, – отозвался доктор Корбутт. – Пристрелил он ее – взбесилась. А тут еще один заклинатель змей давеча объявился. Не слышали?
Господа железнодорожники еще продолжали спорить об имени тигрицы господина Хлудова, других оригиналов поминать стали, наперебой друг другу что-то рассказывая, а коварный разум Иноземцева тем временем уже подливал масла в огонь, в три ручья подливал.
«Еще и тигр дрессированный, – не унимался внутренний страх Ивана Несторовича, – разве не Ульянкина способность приручать животных, точно индийский факир кобру? Она и гиену вырастила, и собаку, Грифона его увела, и с крысой явилась в немецкий отель. Что ей тигра приручить – как раз плюнуть. Неужто и вправду Ульянка – и есть хозяин Юлбарса? А что? Вполне и по росту, и по худощавости сходство они оба имеют, и глаза светлые. Сам ведь наблюдал, какие у сартов глаза, как у того почтенного старичка, что в горы Копетдага ехал и у Асхабада сошел. Чистой голубизны, только узкие и раскосые. Да, лицо чуть скуластее. Эх, жаль тогда совсем не разглядел, черт, этого неуловимого басмача. Да, Ульянка за два года изменилась, поди…»
«Нет, нет, – возразило благоразумие, – уж очень нелегко пребывать в вечных бегах по пустыне. На что ей такие трудности, коли можно в Америке жить себе припеваючи? Там она среди своих, таких же шарлатанов и авантюристов. Всю жизнь сознательную мечтала через океан махнуть».
«Но зачем же тогда басмачи со мной возились, рану прижигали?» – подало голос сомнение.
«А, известно зачем, – отмахнулась грусть-тоска, – чтоб подальше в пустыню завести и помирать бросить. Вот такая манера избавления от лишних свидетелей. Восточная.
«Нет, не восточная, а какая-то глупая манера, – фыркнуло сомнение. – Стукнуть по голове, не убить, увезти в пески и бросить».
«Значит, все-таки Ульянка это была с тигром. Отомстила небось, теперь радуется», – потирал руки страх.
«Какой же вы, Иван Несторович, батенька, фантазер, самому не смешно? – ярилось благоразумие. – А ежели да, то откуда тогда знать ей про холеру в Ташкенте?»
«Позвольте, но какая, к лешему, холера? – внутренне возмутился Иван Несторович. – С чего я вообще решил, что в Ташкенте холера, не направили же меня помирать в такую даль? Ведь гораздо было проще у стены расстрелом обойтись. Придумал холеру, вестимо, придумал, краем уха где услышал или, опять же, в памяти всплыло, ведь умирающая от мышьяка Ульяна во снах с тех пор неустанно является и постоянно про холеру твердит. Придумал холеру, смешно».
– А правду говорят… – сам того не понимая, как срывается с языка, начал Иноземцев, – что в Ташкенте эпидемия… холеры?
Его вопрос нарушил всеобщее молчание и повис в сухом знойном воздухе. Хоть солнце закатилось за степь и окна были раскрыты настежь, но в гостиной стояла тишина последние четверть часа, как в могиле, даже Евгения Петровна перестала перебирать клавиши. Все, вволю наболтавшись, обсудив тигров господина Хлудова, притомились, умолкли на время, лишь краем глаза наблюдая за опустившим голову Иноземцевым, ни разу не прикоснувшимся к своему прибору и о чем-то с усилием размышлявшим с белым, напряженным лицом.
Поляков вздохнул, нахмуренные брови медленно поползли вверх, придав лицу прежнее добродушное, милосердное выражение, но с оттенком смущения.
– К несчастью, да. Даже был приказ из Военного министерства приостановить строительство дороги, чтобы не потерять ценных специалистов.
И пожалел, что пришлось поведать доктору в такой неловкой, даже резкой, форме, ведь знал – командирован тот в Ташкент, на верную гибель ехал. В лапах Юлбарса не погиб, чтоб быть убитым болезнью, настоящей туркестанской чумой.
Иноземцев лишь изобразил кривую улыбку, поднялся и, извинившись, вышел. Оставил Иван Несторович железнодорожное общество Чарджуйского уезда ни с чем.
Пришлось Полякову на следующий день его вести в свою штаб-квартиру, чтобы уж какой-никакой протокол составить. Иноземцев честно отвечал на все вопросы, безучастно крутя пальцем большой глобус, стоявший в углу. Следом послушал отчеты помощника о том, как его спасли двое мальчишек-текинцев, которые и украли у гончарных дел мастера арбу. Чтобы не признаваться в краже, выдумали появление призрака пустыни – пери в белых одеждах.
– Это они сами так сказали? – спросил доктор. – Сами мальчишки?
– А их к стенке прижали, они и сознались, – махнул рукой Поляков.
Обрадованный Иноземцев встал, оставил глобус, подошел к карте Туркестана и части русских владений в Средней Азии, висевшей справа от стола начальника, и, измерив расстояние от Уч-Аджи до берегов Аральского моря, пришел к утешительному мнению, что за все время, которое он провел в пустыне, – почти две недели, ему, наверное, было не добраться до острова Барсакельмес, что удивительно – реально существовавшего, и уж тем более не вернуться обратно, лошадьми, песками, без чугунки. Видимо, Иноземцева бросили, и он чудом повернул назад и ведомый миражами да оптическими иллюзиями дополз до Чарджуя.
А так как господин уездный начальник не спросил про море, то Иноземцев о нем и не стал говорить. И слава богу. Лишь рассмешил бы Александра Минаевича. Не на ковре ж самолете в самом деле он до него долетел.
Хотя во снах ковер-самолет тоже был.
Новость же о холере в Ташкенте Ивана Несторовича крайне расстроила. Он уже смирился с тем, что слышал, видать, об эпидемии от пассажиров, но не придал тому значения, по обыкновению своему витая в облаках. Однако это меняло его планы. Ведь доктор намеревался ходатайствовать у Полякова разрешение вернуться в Кара-Кудук, но не мог же он этого сделать, зная и о том, что командирован в Ташкент с большой и важной миссией, о которой чиновники из Петербурга, однако, не сказали ни слова. Прослыл бы по меньшей мере трусом, да и в ходатайстве ему б, конечно же, отказали. Потому Иноземцев отложил посещение радушных текинцев. Но внутренне поклялся вернуться и смастерить протез малышу.
Чарджуй был последним текинским городом. Дальше шли загадочные территории Бухарского эмирата. Дабы увидеть знаменитую бухарскую крепостную стену, именуемую Арк, Иноземцеву с чугунки пришлось пересесть на тарантас. Он сошел с вагона, не совладав с любопытством, – ехать мимо жемчужины Востока и не взглянуть хоть краем глаза! Не ведал Иноземцев, что краем глаза не получится.
От железнодорожной станции до старогородской части этого легендарного города десять верст было. А крепость Арк, оказалось, вместо эмира министр оприходовал, по-тюркски «куш-беги». Почему – не ясно. Было в сем эмирате как-то все шиворот-навыворот. Эмир чаем и каракулем торговал в Ташкенте, а министр страной правил. Конечно же, бухарский эмир имел красивый загородный дворец Кермине. Как раз железная дорога пересекала сие, как оазис в пустыне, имение, но скромное, обособленное. В Бухаре эмир бывал редко, в основном жил в своем загородном поместье, под псевдонимом писал диваны – сборники стихов. Или вовсе уезжал в Карши или Шахрисабз. И остался для Иноземцева непостижимой загадкой такой странный неуловимый образ жизни августейшего правителя, ведь должен был тот непременно знаменитую крепость Арк занимать, в центре столицы, вершить закон, держать народ в крепком кулаке. А он отменил все казни и пытки, учредил несколько орденов, сыновей отправил учиться в Петербург.
В крепости – небывалых размахов и размеров – кроме куш-беги проживало множество разных восточных баев, беков, визирей, их жен, родственников, имелись лавки, мастерские именитых умельцев, которые прямо на глазах мастерят свой товар, расписывают его. Это была не крепость, а целый город! Даже когда-то жил здесь и сам Авиценна, с которым сравнивала в шутку Натали Жановна Иноземцева. Оставил древний мыслитель после себя богатую библиотеку. Но, увы, Иноземцев ее не нашел. Все, кого спрашивал, где же собрание книг знаменитого ученого, удивленно пожимали плечами. Видать, давно разграбили. Чем плох был восточный горячий нрав, уничтожали завоеватели все, что встречали на своем пути и тем тщательней, чем встречаемое было величественней.
С европейцами эмир и куш-беги охотно ладили, встречали радушно и давали себя сфотографировать на память, иным лошадей жаловали, ковры, как два года назад путешественнику месье Надару, бывшему проездом из Стамбула в Ташкент. Знаменитый француз прибыл с визитом на Туркестанскую выставку, что проходила в одно время со Всемирной, парижской. На Востоке к приезжим весьма уважительно относились, едва ль не на руках носили. То ли действительно в традициях был почет большой гостю, то ли понимали проницательные тюрки, что турист, все равно что жила золотая, с ним бережно и обходительно надобно обращаться, и тогда он принесет много пользы.
Почти все туркестанские города были одинаковы на первый взгляд. Но стоит лишь начать приглядываться: точно под дудочку факира любого зеваку утянут в свои пестрые лабиринты – сказочное переплетение тесных улочек, обсаженных тополями и урюком, вымощенных узким кирпичом или просто грунтовых, высоких развалин, шумных базаров, пестрых площадей.
Приезжих здесь было немало. Влекли европейцев мощнейшим магнитом невероятной величины рынки, торговые ряды, именуемые базарами, а точнее, базарными улицами или даже базарными кварталами. По правде сказать, лавки с бакалеей, фруктами, сладостями, коврами и изделиями из глины, дерева и кожи можно было встретить повсюду, даже у ворот дворца министра и под дверьми духовных школ. Но такого нескончаемого обилия куполообразных павильонов и улиц, крытых камышовыми циновками, где торговали всем на свете, Иван Несторович не видел никогда.
Он ненавидел и боялся людского гомона. Но едва попал на восточный базар в Бухаре, оказался поглощенным им будто музыкой. Шум стоял неимоверный! Колокольчики на шеях верблюдов, крики ослов, песни под длинногрифный дутар, прижатый к груди слепого дервиша, гортанная ругань или жаркие приветствия, уличные музыканты с дойрами – все сливалось в нечто столь гармоничное и безыскусное. Вот хоть век стой, замри и слушай.
Меж лавками тянулись вереницы повозок с размашистыми колесами, которые влекли, схватившись за две длинные оглобли. Торговцы, завидев европейца, бросались на него всей толпой, каждый наперебой предлагал свой товар – лепешки, ножи, бусы, засахаренные фрукты, орехи, расписанные глазурью глиняные блюда, медные кувшины, щербет, даже мороженое.
Иноземцев шел, совершенно забывшись, не боясь заблудиться, он шел поглощенный шумом, шел сквозь толпу, попадал на улицы, выходил к площадям, удивленно разглядывал двухэтажные медресе с рядом стрельчатых оконных сводов – духовные школы, надолго замирал под высокими круглыми башнями – минаретами, задрав голову, глядя на ажурный балкон, с которого муэдзин сзывает на молитву, и мечтая взобраться на самую макушку какой-нибудь из них. Стоял бы где-нибудь на площади в Европе, толпа бы неслась мимо. Никто б не обратил внимания на чудака, завороженно глядевшего вверх. Но здесь тотчас же нашелся паренек в чалме, готовый за пару копеек показать город с высоты одного из недействующих минаретов. Никаких тебе важных господ, все на «ты», все улыбаются, протягивают руку.
И Иноземцев полез на минарет Калон. Иноземцев – боявшийся высоты более всего на свете. Высоты – в двадцать саженей, а, быть может, и того больше! Не побоялся ни истертых, корявых высоких в аршин ступеней, ни темноты, ни тесноты. Винтовая лестница вилась в небо по узкой, как подзорная труба, башне, нет-нет освещаемая светом, пробивавшимся снаружи через крошечные отверстия в два пальца меж кирпичной кладкой. Он истерзал ладони в кровь, сбил колени, но шагал и шагал вверх. И какое небо раскинулось над Бухарой, когда он выполз наконец из этой подзорной трубы, какая красота распростерлась внизу, будто на ладони. Какое разнообразие красок с высоты птичьего полета открылось! Красочными и живыми были восточные города, точно картинки со страниц «Тысячи и одной ночи». Казалось, художники, что ткали свои ковры, расписывали посуду, взбирались прежде на крыши, взирали на базары сверху, спускались вниз и смешивали шелк нитей и краски в соответствии с виденным.
От серо-желтого цвета кирпича и глинобитных домиков без окон до зелени садов и виноградников во дворе какого-нибудь восточного господина. От блестевшего на солнце изразца куполов всех цветов поднебесья до развешанных на стенах, иных на продажу, иных в качестве украшения или даже брошенных на камни улиц, ковров. Ковры здесь были повсюду. Прямо на грунтовые дорожки были брошены шелковые, из хлопка и ковры из верблюжьей шерсти: мол, оттого, что их топчут люди, они только лучше становятся. Толпы пестрых халатов и головных уборов на площадях с вышины походили на гигантский движущейся цветник.
А как загадочны и прекрасны были развалины старинных, опустевших дворцов. Песчаными громадами они возвышались то тут, то там, напоминая о былом величии империи тюрков. Но теперь эта рукотворная невидаль, одна выше другой, одна шире и размашистей предыдущей, покрывалась пылью веков, кое-где прямо меж кирпичной кладкой прорастала трава, знойные пустынные ветра придавали куполам мечетей вид обычных холмов. Хоть и потрепало восточные громады время, хоть и склоняли порой они высокие стволы минаретов, хоть осыпался где-то кирпич и мозаика, истерлись ступени, и порушились от частых землетрясений стены, но веяло от них небывалой крепостью и мощью.
Свысока можно было заглянуть во дворы медресе и мечетей. И каким умиротворением веяло от квадратного мощеного, чистого и ухоженного двора с виноградниками, с рядком тутовых деревьев и непременным хаосом. Хаосом здесь называли небольшой круглый пруд, куда вода стекала не из реки, и даже не из арыков, а старательно собиралась из-под земли, из-под фундаментов строений, вытягивалась из глубинных слоев песка, чтобы высокие башни не получили от подземной влажности крен.
В каждом дворе, в каждом медресе, в каждом караван-сарае имелся такой.
Ах, если бы не Ташкент, если бы не холера, если бы не текинская трахома и если бы не китель военного врача, он осел бы где-нибудь здесь, снял бы дворик, купил бы гончарный круг и остался бы до самой смерти под виноградными лозами, под солнцем Туркестана. Мастерил бы горшки, расписывал их всеми цветами радуги. Вечера просиживал бы во дворе широкого караван-сарая под уютным айваном за пиалой с ароматным чаем.
И до чего полюбились нелюдиму Иноземцеву караван-сараи! Он мог, казалось, просидеть под айваном целую вечность. Здесь встречалась самая разношерстная восточная публика – от индусов, евреев до персов и афганцев за кальяном, чаем, чинной беседой. Он слушал их торопливую и пылкую речь и чувствовал, что должен был родиться здесь, среди этой восточной простоты, непритворной пылкости, в которой так легко раствориться, почти исчезнуть. Ни осуждения во взглядах, ни пристальных разглядываний, ни тебе назойливого любопытства.
В Самарканде Иван Несторович и вовсе осмелел – полез на не менее высокий минарет развалин медресе Улугбека, башня которого была сильно накренена. Никто не рисковал, не то чтобы заходить внутрь. Ее обходили стороной, и лавок в ее тени не располагали. Но Иноземцева уже было не остановить. Он Париж не разглядывал с таким тщанием и любовью, как готов был глядеть на переплетение улочек этих родных сердцу, душе и крови краев. А потом спустился под город. Едва узнав, что от Гур-Эмира простирались многие версты подземных ходов, подобные парижским катакомбам, тотчас нашел проводника. Вели тоннели от темно-изумрудного надгробного камня великого Тамерлана к Шахрисабзу и Джизаку. Сейчас те пришли в запустение, местами обвалилась, а обитали в них разве что только летучие мыши и другая ночная живность. И выглядели куда опасней парижских.
Вот и доигрался, досмотрелся, долазался. Недоглядел, формалином руки не протер и подхватил проклятую желтую лихорадку – малярию, весьма здесь распространенную.
В здешних местах содержать в чистоте одежду и тело составляло довольно трудную задачу. Сухой воздух, полный пыли, зной, отсутствие сточных канав, вместо коих нещадно использовались арыки с чистой водой, – идеальные условия для размножения всяческих разносортных палочек, бактерий и бацилл.
Сколько себя ни три, сколько рубашек в день ни меняй, через пару часов кожа покрывалась неприятной грязной пленкой, от пыли першило в горле, и слезились глаза, сапоги и черные шаровары к концу дня становились серыми. И хоть европейская часть с презрением относилась к туземной: де, они халаты носят годами, чалмы с голов не снимают даже во сне, и рук своих никогда не моют, и живут в помоях, оттого черные, как арапы, сами выглядели не менее печально.
Много Иноземцев встречал в Бухаре и Самарканде, по большей части в европейских частях городов, путешествующих немцев, французов, англичан и морщился – все сплошь в серой, застиранной одежде, с потемневшими лицами и черными ногтями. Иноземцев продолжал стойко сопротивляться этакому местному явлению, преследовавшему всех поголовно, точно демон. Но при взгляде на себя в зеркало поздним вечером, вернувшись из лабиринта улиц, испытывал крайнюю степень негодования: что мылся, что нет. Опрятный с утра Иноземцев превращался в лохматого неряху и грязнулю, словно по мановению какого-то злого джинна-шутника. Руки черные, щеки в разводах, волосы в пыли, китель цвета шкуры осла. Как так?!
И десяти ведер воды не хватало, чтобы смыть с себя этот слой грязи. Даже шутки и байки ходили, мол, грязь лучше у цирюльника бритвой срезать, мыть бесполезно.
Не спасал ни формалин, ни карболовая кислота, ни хлор, а платки, которых Иван Несторович носил с собой дюжину, только размазывали грязь по рукам, лицу и шее. И с горечью думалось доктору, что даже, если в городах будет проведена сеть оросительных каналов, построено множество фонтанов, будет проведен водопровод в каждый из домов, какой был в его парижской лаборатории на Ферроннри, от пыли им не избавиться никогда. Хоть стеклянный купол над городом сооружай, ей-богу! Ветра будут гнать пыль с каракумской и кызылкумской пустынь. Да и воды мало, из кяризов – персидских приспособлений – подземные источники били не везде, а в хаосах вода быстро застаивалась. Иван Несторович еще не видел пыльных бурь, которые случаются в чиллю – сорок самых жарких дней лета, когда термометр, бывало, показывает и пятьдесят, и шестьдесят градусов по Цельсию. Он бродил по Бухаре и Самарканду в самую чистую пору – весной. Летом здесь невозможно было существовать – многие старались подняться в горы, где строили летние дачи.
Уже будучи в Самарканде, Иноземцев почувствовал себя дурно. Но упорно не замечал лихорадки и продолжал таскаться по развалинам и катакомбам. Пока малярия окончательно не свалила его с ног, застав на одной из площадей. И пока Иноземцев не потерял сознания, пока его прилюдно не стало вновь, как среди песков, выворачивать наизнанку, не понял, что подхватил желтую лихорадку. Сам виноват, ибо с самого Чарджуя тянуло его во все злачные места, на сартовские базары, в кишлаки, поглядеть на гончарных мастеров, на прядильщиц ковров, да и запустил болезнь, отчасти на ногах, под солнцем ее перенес.
Его привели к русским. Но Иноземцев никому из докторов к себе подходить не позволил. Заявил, что имеет с собой хинин, заперся в гостинице – русской гостинице с русскими горничными и русской меблировкой, расположенной недалеко от здания штаба войск, на бульваре Абрамова. И провел в Самарканде почти месяц, медленно из-за такой жары поправляясь.
То днями напролет беспробудно спал, в надежде очнуться без озноба, то, едва становилось лучше, опять за свое: проводил несколько часов, бродя по улочкам, базарам и площадям под ярким весенним, но коварным туркестанским солнцем, пока лихорадка не начиналась сызнова.
Лихорадило, а упорно ходил в город. Когда совсем становилось худо, брал чичероне за пару целковых, чтобы тот, едва начнется приступ, помог найти дорогу к Абрамовскому бульвару. Одному бродить, конечно, больше было по вкусу, но приходилось прибегать к услугам чичероне из соображений собственной безопасности.
Лихорадка стала рождать всполохи воспоминаний. Вспомнился остров Барсакельмес, пещера, Ульянкино лицо под тонким покрывалом. Иван Несторович стал исходить муками совести. Как не бежать в город? Как не занять себя восточной невидалью? Гул города хоть как-то уводил от мыслей. Если Иноземцев не застывал на площади, чтобы послушать бродячих музыкантов, то принимался думать.
И всегда действовало на Иноземцева гипнотически появление девушки в мыслях – Иван Несторович моментально забывал, кто он и где он. А того делать было категорически нельзя в такой толчее. Тонул вдруг ни с того ни с сего в обычных треволнениях и переживаниях – де, и чего ж от нее ждать не сегодня завтра, чем занята ее сумасбродная голова, не погибла ли и где пропадает? Находила на глаза пелена, он мог усесться где-нибудь в углу караван-сарая под айваном и просидеть в думах до утренних звезд. И уже не наблюдая за суетой, а потонув в проклятых воспоминаниях.
Сам не ведал, что время теряет, не считал ни часов, ни дней. Мысли только вокруг нее и крутились. А от лихорадки в голове все смешивалось в цветной восточный ералаш: узоры лазури перед глазами, яркие пятна ковров на песчаных дорожках.
Доктора видели усевшимся на выступ у арыка, с тетрадью на коленях. На полях он бессознательно выводил виноградную лозу с арки старого медресе, но тут же рядом вдруг штрих за штрихом появлялась тоненькая фигурка в восточном халате и с чалмою, лихо заломленной за ухо, за спиною – закатное солнце, барханы. А рядом с фигуркой бок о бок покорной поступью нес свою огромную тушу тигр…
Иван Несторович просыпался от наваждения, листок из тетради тотчас летел к ногам прохожих. Сам же поднимался, бежал прочь. Доктора догоняли, возвращали рисунок, будто им оброненный случайно. Он сквозь туман лихорадки благодарил, брал листок обратно и брел уже медленным, тяжелым шагом дальше, будто вместе с возвращенным рисунком ему взвалили на плечи два огромных тюка с хлопком. Брел, брел бездумно меж кирпичными стенами, тесно нависавшими над ним, пока вновь от усталости не присаживался у арыка. С навернувшимися слезами на глазах он сворачивал из помятого листка кораблик, сквозь слезы улыбаясь, отпускал на воды быстрого ручейка. И клялся, что больше один бродить без чичероне не станет…
Возвращаясь из грез в реальность, с песчаных улиц в гостиничный номер, ругал себя, что не использует свободное время с пользой – все пытался возбудителем малярии заниматься, хотел дополнить парижские исследования доктора Лаверана в сим вопросе. Сосредоточенно нависнув над микроскопом, он надолго замирал над ним, а под линзами видел лишь лицо Ульянки, разодетой пери. Отгонял образ, садился за записи, но и тут мысли голову заполоняли отнюдь не научные. Вдруг сдвигал локтем в сторону микроскоп, стекляшки и прямо против формул, вычислений, схем принимался слагать восточные рифмы, все равно как Ромэн когда-то в его парижской лаборатории. Смех и только!
Потом перечитывал, хмурился, с негодованием выдирал лист.
– Не хватало, чтобы я еще стихи писал! Ей-богу, смешно… Надо идти, подышать воздухом.
И шел опять дышать воздухом, в надежде развеять в этом самом воздухе узких улочек сартских городов, базаров и площадей беспрестанное беспокойство и какое-то уже совершенно ненормальное меланхоличное настроение. Тоже мне! Стихотворцем себя возомнил. А может, просто здешний воздух дурманил мозг? Ведь эмир бухарский тоже диванами себя развлекал…
Однажды один халвачи – продавец халвы, взглянув на унылое, вытянутое и посиневшее лицо Иноземцева, со свойственной тюркам самоуверенностью и наигранным бахвальством заявил, что у него болотная лихорадка.
Иноземцев хмыкнул – тоже мне диагност, а что еще, если не болотная лихорадка.
– Говорит, вам нужно покинуть город как можно скорее, – переводил чичероне. – Чистый воздух уничтожит болезнь быстрее, чем хинин.
Иван Несторович поначалу усмехался, хотел пройти мимо, но халвачи стал настаивать, что-то упрямо говорить ему по-тюркски, указывая куда-то вдаль.
– Вот вы зря не слушаете местных аборигенов, – добавил от себя проживший не один десяток лет под жаркими туркестанскими лучами экскурсовод. – Табибов слушать надо, они всю здешнюю заразу лучше самых известных европейских профессоров знают, такие снадобья изготовлять умеют, мертвого на ноги можно поднять…
И стал рассказывать, как сам, едва чувствует в себе зарождающиеся признаки лихорадки, тотчас же в горы едет, и проходит лихорадка, будто ее и не было. И многое другое рассказывал: как из яда змеиного и паучьего удивительные тинктуры готовят. Только секреты этих лекарств просто так никому не раскрывают, тем более европейцам. Иноземцев слушал с интересом, даже посетил лавку местного аптекаря, прикупил несколько видов чудесных туркестанских снадобий, чтобы потом их исследовать. А про чистый воздух ему слова туземца в душу запали.
Прав был – не прав местный халвачи, но нужно было искать тарантас до Ташкента, ибо железная дорога заканчивалась на одинокой станции у реки Зеравшан, дальше Самарканда поезд не шел. Иван Несторович никак не мог заставить себя заняться поисками, как вдруг из сплина и апатии его вывел неожиданный случай.
В ночь на пятницу, где-то ближе к утру, гостиница разом пробудилась. По неведомым причинам постояльцы принялись шуметь, что-то с жаром обсуждать, повысыпали во двор, кони на приколах взъярились, поднимая копытами клубы пыли. Иноземцев, как, впрочем, и все, спал с открытыми окнами, и тотчас услышал сей небывалый переполох.
Думал, опять землетрясение, каковые случаются здесь часто. Оказалось, через два часа после захода солнца было совершено нападение на казачий полк, который расположился в Самарканде и двигался в сторону Ташкента для подавления каких-то недовольств; штаб военный в двух шагах от гостиницы Иноземцева находился.
Тотчас же и европейцы, и туземцы в один голос стали твердить, что это банда Юлбарса, ибо свидетелям и очевидцам удалось разглядеть впотьмах тигра.
Басмачи верхом на лихих текинских жеребцах вынырнули откуда-то из темноты, пронеслись мимо, постреляли в воздух и умчались на юго-запад, в сторону Сары-Гуля, а дальше опять же в темноте ночи растворились, как джинны, где-то в водах Зеравшана или скрылись в горах Миранкуль. Должно быть, подобно брату пророка Мухаммеда ибн Аббасу, создали расщелину в камнях, за коими и исчезли. Солдаты, не дождавшись приказа, бросились вслед, но не догнали. Палили в спину, но ни один не рухнул – видать, знатными кольчугами обзавелся Бродячий Тигр.
Днем подробности происшествия стали расти и обрастать слухами. Самым удивительным оказалось, что якобы вместо настоящего тигра басмачи пугали тигриной шкурой, которую носил поверх головы один из разбойников.
– Вот вам и Юлбарс, – хохотал под окном Иноземцева постоялец, купец из торгового товарищества «Новая Бухара», промышлявший хлопком и содержащий хлопкоочистительный завод.
А Иван Несторович по комнате своей из угла в угол, точно зверь в клетке, метался, не зная, что и подумать, порой останавливаясь послушать, что люди во дворе говорят.
– Так каждый может, тигриной шкурой обзаведясь, грабить под личиной Юлбарса. Был бы это один и тот же атаман, да еще и со зверем, давно бы уже наши солдаты его изловили. А так… – купец махнул рукой, – вечно будут за ним гоняться, десятки лет, а то и сто. Вот вам и вся неуловимость.
– Революционеры небось. Токмо-с они такие, Федор Николаевич, изворотливые и на выдумку хитры, – слышался ответ другого постояльца, лица коего Иван Несторович разглядеть не мог.
– Для местных басмачей уж больно ученый. Боюсь, здесь без англичан не обошлось. Пора бы министерству отрядить на поимку мозговитых ищеек, навроде Путилина. А то так и будет повсюду эхом звучать – Юлбарс, Юлбарс, – заключил третий.
К вечеру разнесся слух, что ограблен дом местного бая – по-здешнему богатого горожанина. Его хоромы располагались неподалеку от улицы на высоком холме, сплошь застроенной гигантскими мусульманскими склепами. Место это Шахизинда звалось, что означало «живой правитель», там шесть веков подряд султанов и султанш местных хоронили, и гуляли по ночам по вымощенным кирпичом дорожкам, меж украшенными голубой мозаикой склепами их грозные тени.
Иноземцев и на сию улицу часто хаживал, любил посидеть под тенью миндаля, разбирал арабскую вязь над дверьми склепов. Тихо всегда было в Мертвом городе. Никто особо не заглядывал. Только паломников можно было встретить в сем малолюдном, но святом месте, да молящихся. Видать, банда басмачей этим обстоятельством и воспользовалась. Дом бая мастерски был ограблен, предположительно, той же ночью, что совершено нападение на здание штаба войск, унесли все золото, оружие. Никто из домочадцев не услышал никаких подозрительных звуков. Ни с мужской, ни с женской стороны. Бай держал псарню, но ни одна из собак и не тявкнула.
Иноземцев собрал наскоро свой багаж, тут же нашел попутчиков с тарантасом и к первым звездам покинул заставу Шейх-Заде, а к утру уже был на другом берегу Зеравшана. К его удивлению, будто в подтверждение слов чичероне и халвачи, прошла у Ивана Несторовича малярия, точно ту ветром горным сдуло. Месяц собирался в путь, а собрался за четверть часа.
Глава V. Холерный бунт
В Ташкент Иван Несторович прибыл в последних днях июня. Застала его подозрительная, не свойственная стольному граду тишина. Тарантас шумно пронесся мимо одиноко стоявшей на окраине посреди пустоши нефтяной базы братьев Нобель, пересек Саларский канал и покатил по широким грунтовым дорогам меж обочин, густо засаженным дубом, платаном – по местному чинарой и тополем, мимо магазинов с яркими, богатыми вывесками, ничем не уступающими парижским, зелеными парками, скверами, аллеями, каковых здесь было великое множество, мимо многочисленных ровненьких зданий, выстроенных в стиле, называемом «туркестанским». Здания эти все как один – жженый кирпич, жженым кирпичом весьма кудряво украшен, что придавало фасадным узорам вид песчаного кружева, с круглыми арочными окнами и непременно выступающим вперед крыльцом под узорным чугунным козырьком и массивными ступенями, но не выше двух этажей, ибо случались здесь частые землетрясения, зато непомерно длинными. Землю в Туркестане не приходилось экономить.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/uliya-nelidova/delo-o-soroka-razboynikah/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Сноски
1
Читайте об этом в романе Ю. Нелидовой «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).
2
Читайте об этом в романах Ю. Нелидовой «Дело о Бюловском звере», «Тайна железной дамы» и «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).
3
Пери – добрый дух в образе прекрасной крылатой женщины (перс.).
4
Дивы – чудовища (перс.)
5
Симург – волшебная птица (перс.)
6
Нет, нельзя. (Здесь и далее перевод с узбекского.)
7
Ты бестолочь! Ишак! Зачем? Я же сказал, не трогать пассажира.
8
Извините, пожалуйста.
9
Юлбарс, нет! Нет! Нельзя! Прочь!
10
Трус… Духу не хватает? Какой ты доктор? Ты не доктор!
11
Не хочешь, тогда я сам.
12
Горе мое, Юлбарс! Уйди! Это не еда!
13
Лечи его!
14
Эй, смотри! Он упал в воду.
15
Поднимай!
16
Читайте об этом в романе Ю. Нелидовой «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).
17
Читайте об этом в романе Ю. Нелидовой «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).
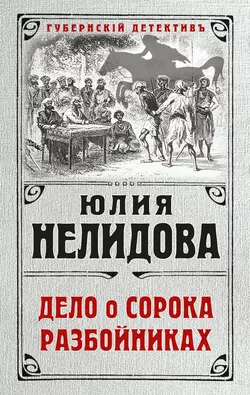
Юлия Нелидова
Тип: электронная книга
Жанр: Исторические детективы
Язык: на русском языке
Издательство: Эксмо
Дата публикации: 15.11.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: 1892 год. Земского врача Ивана Иноземцева направляют в столицу Туркестанского генерал-губернаторства – Ташкент. Но добраться до нового места службы Иноземцеву не удается: его похищает шайка разбойников во главе с коварным басмачом Юлбарсом, приручившим настоящего тигра. По всему краю ходят слухи и легенды о набегах банды Юлбарса. Он жесток и безжалостен, умен и необычайно хитер, так зачем же ему среди оазисов и миражей пустыни понадобился обычный земский врач Иван Иноземцев? И как теперь ему справиться с новой напастью – эпидемией холеры, которая преследует местных жителей?..