Моя ойкумена. Лирика 1979-2009
Моя ойкумена. Лирика 1979-2009
Владимир Берязев
В 4-й том шеститомного собрания сочинений вошли три сотни лучших лирических стихотворений, написанных автором в период с 1979 по 2009 гг. Многие из них присутствовали в разного рода публикациях на страницах толстых журналов и других периодических изданий России, Казахстана и Беларуси. Кроме того, массив этих стихотворений рассредоточен в 10 поэтических сборниках, выпущенных автором за последние 30 лет его литературной деятельности. Берязев Владимир Алексеевич – поэт, проживает в Новосибирске.
Моя ойкумена
Лирика 1979-2009
Владимир Берязев
Иллюстратор Сергей Дыков
© Владимир Берязев, 2021
© Сергей Дыков, иллюстрации, 2021
ISBN 978-5-4490-3280-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Боязнь забыть слово
А кто бы мог подумать, что…
А кто бы мог…
…И разве мог автор этих заметок двенадцать лет назад, на последнем Всесоюзном совещании молодых, уже в качестве руководителя семинара слушая и читая стихи тогда совсем еще молодого новосибирца В. Берязева, представить, в какие формы и в какой масштаб выльется и взрастет его и в те поры несомненный дар? Вот кто в минувшем десятилетии удивил меня сильнее других своих сибирских сотоварищей по перу, пришедших в литературу вслед моему поколению. (Так разве что читинец Михаил Вишняков, ныне ушедший, радостно поражал меня своим взлетом в начале 80-х). В. Берязев за прошедшее после упомянутого совещания время вырос, вызрел не просто в настоящего поэта – что и само по себе было бы прекрасно, – нет, он стал писателем универсального, крупного лироэпического плана, способным соединять свое осмысление нынешнего часа отечества и мира с историко-философским и гражданственным охватом глубин русской и мировой истории, создавать в творчестве небывало новый «архетип» Евразии – с ее нередко страшной, кровавой, и все-таки прежде всего исполненной трудов и созидания, дивной и волшебной судьбой…
Одна из значимых граней этой лироэпики В. Берязева – роман в стихах «Знамя Чингиса». Образ создателя и предводителя монгольского «движущегося» государства стал подлинным открытием поэта-историка: здесь Тэмуджин не схож ни с одним из своих прежних книжных воплощений. Ни с героем романа В. Яна, ни с героем романа Исая Калашникова «Жестокий век», когда-то потрясшего меня и возмутившего официозных наших историков. Если бы последние имели нынче какое-то влияние, они бы автора «Знамени Чингиса» живьем съели. Такого Чингисхана мы еще не знали – о котором можно сказать словами шекспировского героя: «Он человек был в полном смысле слова». И только потому – велик и мудр даже в немыслимой по «европейским цивилизованным» меркам жестокости своей, – пожалуй, лишь два аналога есть ему (т.е. образу, созданному новосибирским поэтом) в ушедшем тысячелетии: Александр Невский и Сталин… Головокружительное произведение: прочитав его, почти физическую боль почувствовал от того, что оно не стало достоянием всероссийского читателя.
…Из чувства суеверия не стану высказывать в этих заметках свои суждения о другой поэтической «расширяющейся вселенной» моего младшего новосибирского товарища – ибо его новый роман в стихах, героями которого стали наши современники-сибиряки, еще продолжает рождаться под пером автора. Замечу лишь одно: для меня несомненно, что, когда эта вещь будет завершена и увидит свет, читателей поразит необыкновенный сплав чувственно-эротической энергетики с высочайшим духовным взлетом любви, сплав, что стал самим «воздухом» произведения – но этот воздух пропитан духом самой почвы, земли сибирской…
Другое скажу более уверенно.…
В феврале минувшего года вместе с настоятелем псковского храма Св. Князя Александра Невского, что вновь стал воинским храмом, с протоиереем о. Олегом три дня довелось мне пробыть в Чечне, прежде всего – среди земляков-десантников, воинов 76-й Черниговской дивизии, что более известна сегодня как Псковская. Среди окормляемых воинским пастырем и моих слушателей были и десантники 6-й роты. Той самой, что через две недели почти полностью погибла, защищая проход через горный перевал… Ни слова до сих пор я не могу написать о них: перо не слушается, слезы гнева и отчаяния душат горло. Вот уж точно: «Большое видится на расстоянии». Когда уже летом прошлого же года выступал в полку перед товарищами погибших, читал не свои стихи – читал фрагменты из присланной мне автором поэмы В. Берязева «Псковский десант»:
Нам сказали «духи»: «Уходите!
Разойдемся тихо, без огня.
В Турцию, а может, на Гаити
Все уедут через два-три дня.
И еще сказали: «Дело худо,
Вы – одни, а против – легион.
Русский царь – не боров, он иуда
И безбожник. Вас не вспомнит он!»
…В узком горле горного прохода
На пути из выжженной Чечни,
Словно кость, торчала наша рота.
Поперхнулись ротою они.
…Капитан кричит: «Товарищ Трошев!
Весь огонь на нашу высоту!
Добивайте их! Всего хороше…»
Взрыв!.. переходящий в пустоту.
…Невозможно передать словами, как слушали выжившие в чеченской бойне десантники эти стихи! Если б только вы могли видеть их лица! – лики 20—25 летних пареньков, обожженные дыханием смерти… Этим ребятам было все равно, кто автор услышанных ими строк. Они спрашивали меня, как будто я их написал (хотя я четко объявил их авторскую принадлежность), – «Откуда ты это узнал? они ведь и взаправду нам обещали и в Турцию нас переправить, и в Штаты, и на Багамы…»
И впрямь, спрашиваю сам себя, откуда Володя Берязев, живущий в дальней дали и от Чечни, и от Пскова, мог такое почувствовать, мог так сказать о подвиге этих десантников, что сравнение их с воинами легендарного эллина Леонида, спасшими родину под Фермопилами, не выглядит литературным приемом.
Ответ лишь один: на это способен лишь талант, боящийся забыть Слово…
Народ свое слово не забывает.
Другое дело – на его устах оно оказывается лишь тогда, когда ему становится совсем невмоготу.
Санислав Золотцев
Могила великого скифа
Исход
Одним Эней, десятым – Моисей,
А мне корнями не найти могилу:
Сухая глина, пепел да песок,
Да глыбы, что титанов задавили…
А, может быть… и так… и поделом.
Да будет снег на вымершие тундры,
Да будет гром и дождь на те поля
И рощи, что пустынны и безвидны
C каких-то пор…
С каких-то смутных пор.
Могилы нет…
Но с ужасом ромеи
Аттилы погребенье поминают.
Тогда-то реку обратили вспять
Враждой обуреваемые гунны
И русло обнажили, и вождя,
Что был бичом вселенной просвященной,
На дно спустили…
Был ли человек?
А христиан, что рыли погребенье,
Прирезали, как жертвенных овец.
И хлынула волна реки безвестной,
И поглотила страшные дела.
Могилы нет…
Покоится вода.
Под толщей лет пороги Борисфена.
Что – Святослав?! хазарский каганат
Развеявший… Доныне иудеи
Проклятья шлют на голову его.
Но нет ни печенегов, ни хазаров.
А мы… мы пьем из черепа отца
Чужую кровь, похожую на правду,
Давно забывши предков имена.
Могилы нет…
Я помню черный день,
Как хоронили воины Темучина
В глухой степи, бесплодной, как такыр,
За десять переходов от стоянки
Уйгурских пастухов и за двенадцать
От белых юрт и алых кошм Орды.
Над телом, что вернулось в лоно Степи,
Три дня текли стада овец и яков,
Потом пошли верблюды Семиречья,
Потом быки Ирана и Китая,
И, наконец, как грохот камнепада,
Помчались табуны коней любимых,
Коней монгольских, скакунов арабских,
Кавказских кобылиц и знаменитых
Угорских иноходцев.
Было так.
От края и до края той пустыни
Земля стенала топотом и ржаньем,
И криками, и воплями животных,
И лишь спустя неделю после тризны
Сквозь траурную мглу пробилось солнце
И на пометом крытую равнину
Осела тихо шелковая пыль.
Могилы нет…
Ищите в чистом поле,
На дне морском,
Средь звёзд на небосклоне.
Нигде, нигде ни знака, ни приметы.
А, может быть?..
Я с ужасом подумал —
И к лучшему, что не было и нету,
Что внук не знает, где зарыли деда:
Ни камня, ни плиты, ни поминанья,
Кресты погнили, холмики пропали,
А часто вовсе не было крестов.
Ну, жили. И прошли. И растворились.
Покуролесили, побушевали,
Но не хотели мертвого величья,
По ветру прах…
По ветру светлый прах.
И вот еще!
И вот еще, постойте:
Ведь нас не все под этим небом любят,
А коль уйдем, не замочив подошвы,
Рассеемся, как сонные созвездья,
И станем миром вновь,
тогда, быть может,
Уж не придет никто на место праха,
Чтобы гроба проклясть
и поглумиться,
и плюнуть, и покой наш
осквернить.
«Слово о слово. Ладонь о ладонь…»
Слово о слово. Ладонь о ладонь.
Кремень о кремень.
Братья шумят во пиру молодом.
Родина дремлет.
Братья мои! Государи мои!
В чем наша участь?
В том ли, что бьём для других колеи,
Веря и мучась?..
В том ли, что в игры кровавые мы
Яро играем,
Чтобы пройти от сумы и тюрьмы
К русскому раю?
В том ли, что род наш – раздрай и позор?
Мерзости мера?..
Что же ты плачешь над талой лозой,
Враг Агасфера?!
Снег задыхается! Очи во рву,
Как незабудки…
Крест в синеве, и «Варяг» на плаву —
Вечные сутки…
1990
Кентавр
Эй, даурских степей кентавр!
Или – Таврии конный скиф!
Вас несли океаны трав,
Жгли копыт вам лепестки
Солнцелобых ночных костров,
Полпланеты топтали вы —
Так гуляла конская кровь
В скифском вылепе головы,
Так срослись человек и конь
На просторах Дешт-Ы-Кыпчак,
Чтоб небесной тоски огонь
На звериных нести плечах.
О, кентавр, кто тебя родил?
Амазонка ли, что, любя
Конский смех – вороной ли пыл,
Жеребцу отдала себя?!
Чье тавро на твоем бедре?
Не Колхиды ли знак оно?
Знак беды, что кален в костре
За похищенное руно.
Та печать и на мне видна…
Спит княжна и кровав калым,
Канул храм…
Вам не счесть руна,
Рим, Царьград, Иерусалим!
Мы Гераклом побеждены
За безумную к ветру страсть
И за то, что были хмельны
Перед тем, как в могилу пасть.
Мы растоптаны, как помёт
Под копытами битвы той.
Нас герой лишь и помянёт —
Ты кентавром учён, герой!
Помнишь символы той земли,
По которой прошел с мечом?
Вновь олень в золотой дали
Мчит и все ему ни по чём.
Слышишь космоса рык и стон?
За оленем несется барс,
Лапу краха заносит он
И опять в предпоследний раз.
Павлу Васильеву
Брат мой первый и брат мой последний,
Здравствуй, брат!
Белый беркут меж нами посредник,
В жар-закат
Улетающий за нелюдимый
Перевал,
Там печатью неизгладимой
Мир сковал
Дух возвышенный и дерзновенный,
Хан-Алтай.
Где красою неприкосновенной
Длится даль.
На Сумере, где мир безглаголен,
Словно сон,
Ты, сбивавший кресты с колоколен,
Ты спасен.
Ты прощен не за муки бесчестья,
Плен земной,
А за песен свободные вести
Над страной.
Ты не пулей, что в сердце остыла,
Вознесен,
А любовью, чья страдная сила
Гнёт закон.
Здесь крови твоей вольное знамя
Отцвело.
Там души твоей буйное пламя —
Всклень светло.
Брат мой радостный, брат мой могущий,
Брат живой!
Нежный, хищный, раздольнотекущий,
Ножевой…
Грозной Азии сын белокурый,
Хан стиха!
Солнца знак над твоею фигурой —
Свастика!..
Могила великого скифа
…нас – тьмы, и тьмы, и тьмы
А. Блок
Последний русский умер и зарыт.
А кем зарыт и как все это было —
Не вызнать у безродного дебил…
Придите все! Отныне путь открыт.
И вечный горб рассыпал позвонки.
И прочный герб распался на колосья.
От праха отреклись ученики
Под петушиных горл многоголосье.
Идите все и на, и за Урал!
Живой душой уже не залатаем
Простор, что нас воззвавши, нас попрал —
Пусть Дойче-банк братается с Китаем.
Пускай пройдет премудрый Лао Цзы
Степями, где мы жили яко обры.
Поплачь, поплачь над нами, старец добрый,
Ты тих, мы… мы жаждали грозы.
Ты говоришь о праведном пути,
Ты в созерцанье видишь созиданье,
А мы взрывали древо мирозданья:
«И вечный бой», «наш паровоз, лети!»
Но от Берлина и до Колымы
Во тьму вселенской пашни революций
Легли, увы, не зерна – люди…
Мильоны нас, нас тьмы, и тьмы, и тьмы.
Оплачь наш опыт, старый человек.
Не обойти гигантскую могилу!
России нет… Лишь кружит многокрыло,
Как наши души, беспокойный снег.
России нет…
Внезапно и навзрыд
Заплакали химеры Нотр-Дама
И все народы семени Адама:
Последний русский умер и зарыт…
Булавка
Грёз завсегдатаи —
Сроду не чтили Закона,
Мы заклинали судьбу о продлении сна.
Вдруг я очнулся:
Взяла зажигалку икона,
Газ запылал,
она факел к глазам поднесла.
Вспыхнули очи.
Младенца огнем затянуло.
Он только крепче прижался к родимой щеке.
Пламя по алой порфире
на грудь соскользнуло
И запле-
пля-
пле-плясало на белой руке.
Стой, Богоматерь!
Отдай мне мою зажигалку.
Господи-Боже,
ну, кто ж теперь крест понесёт?
Сон обратился
в гнилую чадящую свалку.
Стол содрогнулся
под волнами желчных икот.
Звякнули ложки,
И рюмка скатилась под лавку.
Черную доску
заткали в углу пауки.
Все что нашёл —
на полу золотую булавку
Да белоснежный дымок непорочной руки.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Выстыла печь.
За окном одиноко и мглисто.
На чердаке домовой непохмельно мычит.
Высохла килька,
Испортился «Завтрак туриста»,
Помер Гефест,
Продырявился ядерный щит…
В левом углу
сквозь экран гомункулус плешивый
Что-то бубнит
И пытается цифрой замкнуть
Вечный пожар…
Но мы живы, поганец, мы живы!
И сквозь огонь
Наш последний единственный путь.
Пусть твои дьяки
Навыворот Слово читают,
И говорит о добре механический гроб.
Вот заикнись лишь о совести,
выкормыш стаи,
С бранью бутылкою бросит в тебя протопоп.
Уж Аввакуму
на полке аукнулся Клюев,
С тихим смиреньем
зарей занялась купина.
Игорев лебедь
несёт землю Родины в клюве,
Чтоб в океане ином возродилась она…
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Никнет сирень под росой.
Отсырело полено.
Даже две мухи уснули в стакане на дне.
Только булавка
горит на ладони нетленно
Напоминаньем
о нашей нетленной вине.
Что же мне делать?
Убог я и деда не помню.
Может быть, за море сгинуть,
а дом подпалить?
Может, зарыть золотинку в ограде у комля
Строго тополя?..
Или же проще пропить?
Справа ломбард…
Напрямую живет участковый…
Слева Хазанов – известный в народе дантист.
Что же мне делать
с булавкой твоей лепестковой,
Капелькой неба,
упавшей на вянущий лист?
Благодарить?
и хранить?
и с любовью молиться?
Но для молитвы, как минимум, надо иметь
То, чем душа возгорится
и умилится —
Ту безоглядность,
для коей не ведома смерть.
Мы, одичав,
без прививки уж не плодоносим.
В уши мамлюка
не дозваться родным голосам.
О, Матерь Божья,
обрежь свои девичьи косы,
Мы позабыли пути к золотым небесам.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Тихо в избе.
Баба Поля давно на погосте.
Серою поступью
тронулись в утро кусты.
Тень за оградой
стучит командорскою тростью.
Острый скулеж
издырявил покров темноты.
Пса кличут Фустом,
Он дрожит от соседского стука.
Страшно, кобель?
Так ползи же к хозяйским ногам.
Как мне знакомы
холодные руки испуга,
Лихо глядеться
в пустые глазницы векам.
Страшно, кобель.
Ты сегодня вдвойне одинокий:
Не разделю
я твоих инфернальных скорбей.
Теплится весть
на последнем незримом пороге.
Жизнь закругляет,
священный жучок-скарабей.
Бабушка Поля приходит,
садится на лавку,
Пальцем маячит, сквозит, улыбается мне,
И все глазами, лицом —
про святую булавку,
И все про деда,
чьё фото висит на стене.
Я посажу
ту булавку в горшок на оконце,
Охрой полью,
купоросом и горькой сурьмой,
Может быть, вырастет
синего неба иконка
С той, золотою по краю,
чеканной басмой.
1989
Колпашевский яр
Рухнул берег.
Замутились воды.
Накренилась на яру сосна.
Из могилы вышли на свободу
Преданные богом племена.
Тени ледникового распада,
Крестоносцы классовой борьбы
Потекли из глины,
тлена,
ада…
Немо и далеко вдоль Оби
Плыли трупы…
Прошлое поплыло
Кадрами загробных кинолент.
Милые, да здесь же не могила!
То кошмара гиблый континент!
Тени страха вышли на свободу,
Всплыли, переполнили собой,
Возмутили память. И народу
Тошно в тесноте береговой.
Что там грозно погребенье роет?!
Что стремится хлынуть напрямик?
Волны века вымыли такое,
Что кренится русский материк.
«Мимо вехи Полярной звезды…»
Мимо вехи Полярной звезды
Под покровом октябрьской ночи
Пролетают по небу кресты
И скрипят, и кричат что есть мочи.
Деревянные призраки мчат,
Полусгнившие крылья расправя.
И стоит божий мир непочат
У границы безумья и яви.
Ледяное гнездовье могил
Там – за тьмы роковой параллелью:
Даниил, Михаил, Гавриил
Потянулись к родному поселью.
Тень за тенью: станицы крестов,
Перелетные клинья и стаи
Держат путь на Смоленск и Ростов,
На погосты Твери и Валдая.
Вот и здешние! Только взгляни,
Как кружатся, как просят покою…
С отчим прахом мешаясь, они
Осыпаются рыжей трухою.
Скрипом край и раздет, и разъят,
Кличет лебедем крестная мука:
Не грозят, не клянут, не казнят,
А смиренно взывают к кому-то…
«Товара нет. И деньги отцвели…»
Товара нет. И деньги отцвели.
Нет капитала. Нет рабочей силы.
И Бога нет.
И даже нет России.
Куда ж нам плыть?..
Похоже: в Сомали.
Пойдем в кабак, мой брат-каракалпак,
Зальем кумысом кладбище Арала!
Пока к стенам кремлевского хурала
Идет-бредет Нагорный Карабах.
То чудище огромно и лайя…
– Аятолла! – восплачут сулеймане
И ежики заблудятся в тумане.
И в панике удавится змея
Сионская.
И бедные арабы
От радости и счастья перемрут.
Мы Май помянем, Братство, Мир и Труд,
На небо глянем: господи, пора бы!..
Пора сдавать порожнее стекло.
Сливай надежду! Рай уже не купишь.
Вон вылупился в небе жирный кукиш:
Знаменье, бред, архангел, НЛО…
«В краю ворья течёт Амударья…»
В краю ворья течёт Амударья,
Течет в печальный стан Каракалпака,
Где бедный Ленин на стене барака
Висит, не понимая ничего.
На всю семью наварена кутья.
Господь, спаси!..
Но – кабы не Россия…
Не выбирайте между двух насилий:
И там и здесь достаточно вранья.
Однажды разворована река —
Вода ушла на лживые помои.
Лишь испарений облако немое
Стоит над нами в форме колпака.
Пока, мой друг,
Покоя сердце про…
Про что то бишь я?
Ах, да – про азиатов!
Где стол был яств,
Там нынче мирный атом,
И по песку кораблики плывут…
«Я лозунгом в мозгу поковырял …»
Я лозунгом в мозгу поковырял —
Тупая боль отозвалась в желудке.
«Пора просить взаймы у проститутки» —
Сказал и плюнул,
И ушел в астрал!
Но там застрял.
Меня обволокла,
Темна, как волоокий взор коровы,
Любовная парная тяга слова.
Да жуть, какой полны колокола.
Густая медь высасывает боль
До точки в ослепительном зените.
Я не реален, леди, извините!
Я там, где светит абсолютный ноль…
Или не светит?
Ясно лишь одно:
Увы, не светит – стать Наполеоном.
Ни баобабом, ни хамелеоном…
Самим собой – и то не суждено.
Я нереален.
Кто меня любил,
Те знают эту тягу ускользанья,
Но лишь они создатели сказанья,
В котором я не числился,
А жил…
Очередь
Мы вновь за водкой,
Словно в Мавзолей,
А в Мавзолей,
Как в праздники за водкой…
Не все ль равно —
Здесь с пробкой, там с бородкой?
– Кто крайний?..
И чем очередь длинней,
Тем наша цель прекрасней и родней.
1986
«Где Бакунин и Мор погребли рукомёсла…»
Где Бакунин и Мор погребли рукомёсла,
Племя нищих воскресло во славу стыда.
Беглый вор и монах воротились сюда,
И забор обесточел, под которым замерзла
Без еды и суда роковая мечта.
Вор последний патрон подарил конвоиру
И с народным контролем пошел по рядам,
Крикнул «Гоп!» (а бродяги за ним по пятам),
– Погуляем ужо! – вынул пачку «Памиру»,
Плюнул: – Эх, я ли нынче не штабс-капитан?!..
Вот и спичка зажглась над кровавой геранью.
Вот и ветхие головы пали на стол.
То ли будет, коль старец, унижен и гол,
Просит милостыню
не с молитвой, а с бранью…
И презренье швыряет монеты в подол.
Лишь монах, лишь монах не теряет надежды,
Впопыхах и впотьмах обходя городок.
– Милость близко. Ступайте за красный порог.
Зрящий – видит. Омойте туманные вежды.
И молитесь, молитесь любя.
Да поможет вам Бог.
«Крыша съехала с Дома Советов…»
Крыша съехала с Дома Советов
И на площадь Победы легла…
– Что же делать? – спросили поэтов.
– Надо бегать в чем мать родила…
Обнажились в покорной отваге,
Смастерили в кумирне сортир
И, подъявши партийные стяги,
Ритуальный устроили пир.
Мед по жилам и мухи на яствах!
Жир на пальцах и пляс на костях!
Покаяньем себя опоясав,
Князь поет о славных вестях!
Но метельной фатою столицы
Покрывает змеиный год…
На лету загораются птицы.
И кольчуга под кожей растёт.
«Здесь я родился с горбатой душой троглодита …»
Здесь я родился с горбатой душой троглодита —
В копоти, тьме, в каннибальской пещерной стране.
И золотая, как облачный храм, Атлантида
Только в обломках богов доходила ко мне.
Здравствуй, Венера! ау, допотопная вера, —
Юных страстей зарастающий мемориал…
Давняя эра! Хрустальная певчая сфера!
Недостижимый, ах, боже ты мой, идеал…
Здравствуйте, Музы, зарытые в общей могиле.
Боги живут, пока ищет любви человек…
Звездное небо да тайные знаки на глине —
Все, что тревожит в нас память божественных вех.
Где вы, герои, – гераклы, тезеи, ахиллы?..
Свет Елисейский и крики кровавой звезды…
Вы погубили друг друга, ваши могилы —
Место пиров безъязыкой пещерной орды.
Рожденным в тридцатых
Вы мечены
экватором столетья.
Вы – чтившие
вождя заместо бога —
Сороковыми
скованные дети,
Вы не нашли
достойного итога.
Из-под обломков
пьяную от крови
Не вы ль страну тащили,
надрываясь?
Вы верили – Он знает,
Он откроет…
Но до сих пор,
как видно, открывает.
Отцы блаженны —
умирали веря.
В безверии
вольготны ваши дети.
А вера?
Вы снесли её потерю.
Не это ли
тягчайшее на свете?..
Бездействие, насмешка, отчужденность…
Подсолнух чёрен…
Но болит изнанка
Стороннего цинизма.
Но ведь жжёт вас
Иных надежд незажившая ранка!
Мечта и долг времён и власти выше.
Мечта и долг!
Ведь мысль подслеповата.
Что – человек?
Он был,
а завтра вышел.
И лишь земля
ни в чём не виновата.
«Не упомнить родные черты…»
Не упомнить родные черты
За победами.
Сон о снящемся сне, словно вязкая явь.
Это иго Победы от нас
Заповедно.
Из болотного круга – ни вброд и ни вплавь.
Из квадратного глаза земной
Околесицы
Мерно сыплется пепел задачи благой.
Заступлюсь ли за призрак пустой
И болезненный?
Уловлю ли блуждающий лживый огонь?
Из обиды не выковать рог
Изобилия.
Пусть с очей, как сугробы с полей, сходят сны.
Ведь апостольский голос любви
Не забыли мы.
Ведь не вечен парящий соблазн крутизны.
Вот и ангел, чумаз и картав,
За бараками
Пишет мелом, небо горит со стыда.
Пусть светятся во веки веков
Те каракули.
Пусть он чертит, ага, написал:
Пусть всегда…
«Россия, я весь на ладони!..»
Россия, я весь на ладони!..
Уж воздух прогорк от тоски,
Уж ветер охрип от погони.
Коней своих побереги!
По горло!..
Я глохну от эха
Гремящих слезами времен.
Заплата, проруха, прореха,
Работа, варяжий закон…
Увы, ни коня,
Ни кобылы.
В забвении вещий Олег.
Змеятся кувшинные рыла,
Уже ни преград, ни помех.
Останься!
Мне страшно подумать.
Останься.
Я как на духу.
Таким безобразьем подуло,
Такое висит на слуху!
А я не могу…
Что за притча —
Рыдать над живою землей?
Ты будешь и ныне, и присно!
Так светит во ржи василек.
Так плавает около сердца
Любви златоперый сазан.
Поганая воля, рассейся,
Длань Сына скользит по глазам!
Россия, над степью светает,
До сыта сваты напились!
И дивная птица слетает
В твою двуединую высь.
Нет стрел грозового металла.
Нет стражей небесных путей.
И почва навеки впитала
Весь опыт крамольных смертей.
Какие просторные мысли!
Какие святые дела!
Вновь солнца на коромысле.
Вновь льются колокола.
Заржали за Сулой комони,
И рушится, рушится ад.
И пишет: «Я весь на ладони!»
Кузнецких земель
Азиат.
«Снова созвездья полны мощью влаги…»
Снова созвездья полны мощью влаги,
о коей не знаю.
Снова очи Петровой страны
бесовиденьем искажены.
Снова вспыхнула белым крылом,
поплыла колокольня лесная…
До-о-лгая дрожь…
О зачем, Боже, звоны твоей тишины?
Каплею лишней готов я скользнуть
с твоего коромысла:
Нам ли искать благодати на дорогах
из загса в собес…
Дай лишь молекулой быть,
золотой кислородинкой
смысла
Мне в светоносных твоих голубых
альвеолах небес!
«Я уехал от нашего Бога…»
Я уехал от нашего Бога,
Я покинул родимый барак,
Я не помню, чем пахнет эпоха
И почем оскверняемый прах.
Берег рухнувший мне не помеха.
Крики гордые – мне не указ.
Я уехал от красного смеха
И от злого безмолвия масс.
Отломи мне, чужбина, для пробы
Неба, хлеба и тьмы кабака,
Дай спросить у царевны-Европы
Про горячую спину быка.
Пусть же снова Летейские воды
Тронут русских стихов колесо.
Пусть Улисса из грота природы
Вновь «Ты мой!» позовет Калипсо.
Но спокойной и сытой картиной
Здесь кончается подвиг любой.
Здесь и камень, покрытый патиной,
Дремлет в своде, довольный собой.
Чести Рима ждет каждая веха.
Тело дряхнет. Коснеет язык.
И не рифма, мертвое эхо
Мне звучит: «Умер Пан… Умер Бык…»
Ариана[1 - древнее название Афганистана.]
Ручьями и небом гремело ущелье,
И змеи скользили, и дальние льды
Сияли грядущим…
Друзья, неужели
Здесь песни Ригведы когда-то звенели,
Здесь воды той смой первокупели?
Не здесь ли тибетские ветры напели
Нам разума радость и муку мечты?..
Но
чувства
забыты!
Четвер-
тый день
Солью
на спинах —
Борьба
идей.
Солью
и потом,
И пылью
троп —
Просто работа!
Просто работа!
Просто работа! —
ВОЙНА
МИРОВ.
Топот архара.
Круги орлов.
Сухости ярость.
И клекот слов.
Скалы и камни.
И грань хребта.
Камни!
Не видно ни черта.
Камни!
И как бы
Не шёл вперед,
В камень уткнется
Кровавый рот.
Русло сухое.
И сух арык.
Каменным кажется
Даже крик.
Друг каменеет,
Лопатой стуча.
Ах, до чего
Земля горяча!
Камни! И как бы
Не шёл вперед,
В камень уткнется
Кровавый рот…
Вчера лейтенант подорвался на мине.
Сегодня в заслоне, истратив запас,
Серега побрел по тюльпанной долине
С последней гранатой…
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
В какой-то час,
В мгновенье какое-то
Не забудьте,
Как закружили тюльпаны синь!
Как улыбался
Аллаху и Будде
В небо
взлетающий
с-ы-ы-ыын!
Руси…
«А сын сказал: «Желаю, батя…»
А сын сказал: «Желаю, батя,
Повоевать в Джелалабаде!»
Он был и молод и горяч,
Он ухватил свой верный молот,
Чтоб молнией живой расколот
Был сарацинов клич и плач.
Но что ж молчание хранишь
Ты, знавший Шипку и Париж?..
В последний раз ты видел сына…
Охрипло горло муэдзина.
Над Гиндукушем встал набат,
И запылал Джелалабад.
О чем лепечет перепелка?
О чем напомнила карболка?
О чем ты стонешь, исполин,
Харбин знававший и Берлин?
О том, что рушатся ущелья,
О том, что нет тебе прощенья,
Хоть ты ни в чем не виноват…
(Когда б не этот «хазават»…)
О том, что ночью на Саланге
По-русски молятся «салаги».
Струятся души их, как пар,
Под смертный вопль – «аллах акбар!»
Спасать силком – пустое дело.
О доброте душа радела,
Но ты не в те пришел края
Класть жизнь «за други за своя».
Здесь на последний оклик: «Брат!»
Огнем дохнет Джелалабад.
Довольно, друг…
Довольно, друг, проклятий и хулы,
Довольно преждевременных прощаний.
Я не прошу ни мира, ни пощады,
Я правды не хочу из-под полы.
Из-под полы, с оглядкой, на ушко,
В кармане кукиш, холодок под сердцем:
– Слыхать, опять не спится иноверцам!
Ан, золотым крикливым петушком
Кудахчет с телевышки комментатор.
– Что комментатор! Поголовно врут.
В Америке, слышь, отыскался Брут,
А победил – так сволочь и диктатор.
– Нет, нет святых, наглеет сатанизм.
И Брут нет, есть транснациональный
Картавый спрут – он силой инфернальной
Сосет народы…
– Этак пароксизм
Последний грянет.
– Непременно грянет!
Пошлятина и серость так и прут,
Ползут и душат – тоже добрый спрут.
– Да, доигрались. Мол, стираем грани,
А стерли зубы…
Милые мои!
Радетели России и семьи,
Родители намеков и шептаний,
Политик, экономик знатоки
Провидцы руку моющей руки,
Пророки всех брожений и шатаний,
Вам горла поперёк! – любой успех,
Вам невдомёк, что, может, больше всех
Вам! вам он нужен – лжи фальшивый колос.
Вы все рабы бесплодной молотьбы…
Неотделимо слово от судьбы.
Без голоса – не гаркнуть во весь голос.
Почти греческая эпитафия
Петру Степанову
Я погиб возле Трои.
Мы там с корешами троили.
Меня звали Патроклом.
А мать называла Петром.
Возле стен коммунизма
друзья меня в яму зарыли.
Возликуй, Капитал!
Пошевеливай вёсла, Харон!
«– Какая же вера у вас, мужики?..»
– Какая же вера у вас, мужики?
– Нема ей! Своёму своя.
– А доля какая у вас, мужики?
– Работа, забота, семья.
– А где ж ваша воля?
Вольны ль, мужики?
– Вольны. Но не знаем про то.
– А слава-то, слава
есть, мужики?
– В вине она,
в ём – золотом.
– Не пьян, не с похмелья,
Но жажда палит.
Уймите же душу, друзья!
– Все выпито, парень.
А кроме того —
иная жажда твоя.
Рядовой
Я умер возле вечного огня…
Под стук ночной капели, в карауле.
Шел снег. Собаки лаяли в ауле.
С плаката вождь косился на меня.
Почетный пост. Или великий пост?..
Зима кончалась. Лишь один Корчагин
Сознанье леденящими очами
Смотрел на слёзы ангелов и звёзд.
А пламя трепетало на ветру,
Плясало в самом центре пентаграммы…
От лозунга-плаката из Программы
Мне тупо – стало муторно к утру.
Корявый огнь лизал мне сапоги.
«Калашников» мой сглатывал обойму.
Тьма не имела смысла. Было больно.
Упало сердце, и пошли круги-круги-круги…
Ночь без молитвы – каинова ночь.
Прерывен пульс на судорожном вдохе!
И чем короче очередь в итоге,
Тем пулевидней смысл многоточь…
и я
ушел
путем
метампсихоза…
Огонь погас.
А остальное – проза.
«В белый полдень на синем кладбище…»
В белый полдень на синем кладбище
Он глядел в молодое лицо…
На овальную гладь фотоснимка,
На эмаль, что уже пожелтела,
На зернистый гранит пирамидки
И опять в молодое лицо.
Да… лицо… Вот и дата. И имя.
Имя… Чье?.. Имя было… Зачем…
Тень-лицо улыбалось открыто,
Так открыто, что чудиться стали
В нем какие-то искры движенья.
Блики снежного дня?.. Торжество,
Торжество было в этой улыбке!
Почему торжество?
Он запнулся,
Он смутился под взглядом прошедшим,
Так что паникой спертое сердце
Заметалось по камере тела.
И, не выдержав, он отвернулся.
…Креп морозец. Сорока присела
На рябину в соседней оградке
И просыпала снег на тропинку,
И пронзительно так закричала
В ледовитой пустыне кладбища,
Что шарахнулось эхо в кусты.
Он пошел торопливо и мутно
По тропе мимо старых и новых,
Мимо братства солдатского тлена,
Мимо пленных останков германцев,
Мимо наших, задушенных шахтой
Иль раздавленных, или убитых
Пылью, водкой, трудом, пустотой…
Он стремился, не видя дороги,
Побежденный, зажатый испугом,
Знак иной, непонятной свободы
Не приняв, как мессию еврей.
И сорока его провожала,
Стрекоча, и кресты обступали,
И светилось таинственно Имя,
И лицо улыбалось вослед…
Тоска по призраку
Все больше нас – надменных и сухих,
Свободных и безапелляционных,
Размерявших на блюдцах порционных
Любовь и смысл,
Страдание и стих.
Все в пользу, все рассчитано, все в срок:
Когда войти, о чем распространяться.
Диета – символ веры сыроядца.
Разумность – долголетия залог.
Но не бессмертья…
Боже упаси,
От сытости и самосозерцанья.
…Рябит в глазах от звездного мерцанья.
И оглашая космос бубенцами,
Из топота и храпа вырастая,
Косматый призрак мчится по Руси.
Ненастный пляж
Я шагаю за белой стаей
По песку ползущих газет.
Глин гусиный летит в Потайю,
Вслед за чувством грядущих бед.
Надрываются волны шумом,
И валы в нахрапе идут.
В небе реющем и угрюмом
Чайки тоже кричат беду.
Ветер рвет края покрывала,
Кем-то брошенного в песке…
Света мало и горя мало —
Дайте горя моей тоске!..
По причала скрипучим плахам
Выйду в море, где свист и гром.
Пусть идет все, что было, прахом!
Все, что будет, – горит огнем!..
1982
Метаморфоза во время
крымской грозы
Я смотрел, как над зданьем клубилась гроза,
Прозревая всем сердцем, как душно, в упор
Сила дыбится – вот она!
Больно глазам…
Но неведомо мощно
и наперекор:
Ниоткуда,
Из мирно дремавшей души,
В дерзком, злом ликованье смертельной борьбы,
Словно в тесном сосуде очнувшийся джинн,
Вдруг восстала гордыня моя на дыбы.
Для чего это, боже?
И будет ли толк?
Но не волен! – свиваем в тугие жгуты
Я влекусь…
Где-то рядом запел водосток,
Где-то вынесло раму…
Огня и воды
Дайте досыта!
Вот уже в водоворот
Превращаюсь…
Все выше круженье смерча.
Подо мной —
Отупевший от страха курорт.
Надо мной —
Мрак небесный рассечен сплеча.
Кто ослеп от лихого зигзага судьбы?
Кто не выдержал молнии белую спесь?
Там внизу по углам – болтуны и рабы.
Не ищите их здесь.
Не ищите их здесь.
Проклятие
…И будет день безоблачен и светел,
Но упадет
проклятие в траву,
Замечется, залихорадит ветер
И растерзает лапами листву.
Огромный горб
затмит сиянье буден,
Займет полнеба
тушей жировой.
Придёт гроза,
Прокатит черный бубен
И хлынет наземь влагой горловой.
Здесь молниям ветвисто низвергаться
С тяжелым хряском сломленных дерев.
Здесь в низком беге тучам содрогаться,
Влача сплетенья
вывернутых чрев.
В ожесточенье брошенное слово
Подымет тьмы-стихии на дыбы
И вызовет из бездны духа злого,
И все смешает в заверти борьбы.
И, гибкий конус
выпустив из тучи,
Тяжелым смерчем по небу кружа,
Заплачет
Утолённо и тягуче
Проклятие
исторгшая
душа.
1981
Преодоление
…И тошно по миру влачиться,
И невозможно напролом,
И страсть загнали, как волчицу
Под непролазный бурелом.
Как это было?..
Я остался,
Гордыней горе разрубя,
На бесконечности дистанций
И без тебя,
И без себя…
Автобус уносился в осень.
И солнце – молньей шаровой —
Скользило по верхушкам сосен
Под свист судьбы
над головой.
1981
«На песке…»
На песке
у самого моря
Строил дом архитектор Боря.
В три обхвата,
Крутой детина,
Самоучка,
Оригинал,
Гнул он творческую дубину
И порядком
перегибал.
Разворотит скалу на блоки,
Дом построит в один присест,
Глянет, плюнет,
шмяк! – и обломки…
После – спать
под сырой брезент.
А назавтра,
Глухим запоем,
Дом помянет,
И наяву —
Рим, Акрополь и Персеполис
Через бред его поплывут:
Храмы, фрески, пилястры, фризы,
Барельефы, фронтона скат,
Алебастровый блеск карнизов,
Строй колонн над грудами скал,
И ваятели,
И ваянья,
И богини,
И мудрецы,
И в отсутствии богобоязни —
Звуки лир да слепцы-певцы…
Но – похмелье.
И проклят Бахус.
А прояснится голова:
Выйдет к морю,
Рванет рубаху
И орёт
таковы слова:
– Смыслу нету!..
Ий-эх, роди ты,
Окаянная хлябь – окиян,
Хоть каку ни на есть
Афродиту,
Чтобы я с нутра
просиял!..
1981
Молитва Робинзона
Господи, друг мой единственный,
Островитянину дай,
Нет, не покоя, не истины,
Дай зацепиться за край…
Пусть и неверный, и призрачный,
Дай зацепиться за край
Только надежды… А иначе
Прямо сейчас забирай.
Из одиночества вызволи,
Смой мою утлую суть!
Ради чего, справедливо ли
Кару такую несу?
Все эти тропики райские,
Вся эта жизнь через край:
С грозами, зорями, красками,
Граем играющих стай,
Все это острова таинство
В гулкой пустыне морей!..
Господи, ужели станется
Так одному умереть?..
Пусть и неверный, и призрачный,
Дай зацепиться за край
Только надежды… А иначе
Прямо сейчас забирай.
1983
«Как наплывы горящей ангины…»
Как наплывы горящей ангины,
Как бредово тяжелые фразы —
Увядающие георгины
Над кристаллом синеющей вазы.
Бренным летом душ опалима.
Розой пепла цветет папироска.
И от горечи неотделима
Эта сникшая зыбкая роскошь.
Утопает в слезах отраженье…
Смята лет полинявшая мякоть…
И в груди пустота отрешенья,
И на пальцах – цветочная слякоть.
«В березовом храме Отчизны…»
В березовом храме Отчизны,
Пред образом чистых небес,
Любимая, мы беззащитны,
Беспамятны чудно и без…
рассудны…
Все верно, родная!..
Одна лишь надежда на то,
Что жизни арба заводная
Развалится до холодов.
Все тщетно: мы не отшутились,
Не спрятали, не погребли…
Ты помнишь ли, как очутились
В последнем Эдеме Земли?
Бесстрашьем возвышено счастье!
А то сладострастье молвы —
Всего лишь молвы сладострастье
Пред горним огнём синевы.
Нам кары досрочно отсчитаны
За каплю счастливой вины.
Я знаю, что мы беззащитны!
Как взгляда распах – беззащитны.
Как правды лицо – беззащитны.
Мой ангел не прочит кончину
Но шепчет, что мы
Спасены.
«Ты слушала, как платье примеряла…»
Ты слушала, как платье примеряла,
Ты слушала признание, да-да,
Признание, какая красота,
И как изящно, как тебе пристало…
Но шовчик, шов кривой, ах, ерунда!
А рюшки, здесь вот, очень уж безвкусны.
Покрой хорош, но как-то… как-то грустно.
Да, грустно. Видно, скоро холода.
Ты так мила, так явно молода.
Тебя не стоят лучшие наряды:
Вода ручья – одежда для наяды,
Но вот беда: и вправду – холода…
Два стихотворения
1. Игра с огнем
Лукавая пленительная ночь.
В прищуре глаз – бесовские соблазны.
Мы жажду тела в силах превозмочь,
Но не играть с огнём уже не властны.
Игра с огнём – не озорство, не блажь.
Над бездной
Всеми гранями играет
Твой дерзкий дух. И вот – впадаешь в раж!
И вот скользишь по самому по краю…
Не раскрывайте дольше парашют.
Целуйте змей! Ходите по канату!
Берите самый гибельный маршрут —
Пешком на полюс
иль пешком по аду!
Бессмертье – ложь.
Гниенье – та же ложь.
Судьба мужская на щите червлёном!
И пусть поёт и пляшет молодёжь
В том городе – пустом и зачумлённом.
…Игра с огнём! Не в ней ли бытия
Веками ускользавший смысл неверный?
Как к мачте Одиссей – к скелету нервным
Узлом
Душа
Прикручена твоя!
1982
2. Жестокий романс
Кошачий выгиб смел и грациозен.
И блеск смолы сквозь сомкнутость ресниц.
Как смысл твой неприступен и тернист!
Как профиль твой надменен и нервозен.
Какая осень в очертанье плеч,
Какая плавность… Но, увы, в контрасте
Сокрыта суть. Тебе не уберечь
За ленью взгляда – напряженье страсти.
Стеснение тяжелого огня
Разъест однажды эту величавость,
И под тобой затлеет простыня,
И зарево зардеет за плечами.
Так отвернись, разыгрывая грусть…
Ты пропадёшь, а я уж не вернусь.
1982
«Нет, я Вас не люблю ни сегодня, ни завтра…»
Нет, я Вас не люблю ни сегодня, ни завтра.
Но зачем же Вы снова глядите в меня?
И зачем этот голос, что волны азарта
Поднимает в душе моей день ото дня?
Это солнечный зайчик шалит безнаказан.
Не пытайте судьбу…
Повинуясь родству,
Приближается шторм,
он моралью не связан,
Он сгибает стволы,
он срывает листву.
Дошкольный роман
Гроза детсада,
бич микрорайона
Малыш Илья
Влюбился тяжело.
Забыта власть,
Заброшена корона,
И думой отуманено чело.
Принцесса неприступна и прекрасна.
Илья красой сражен и осиян.
Увы, но объяснение напрасно,
В ответ одно – «нахал и грубиян».
О, дух мятежный,
Ты рождаешь подвиг!
Перевернув все барахло семьи,
Илья взял шпагу,
полбутылки отпил
Кефиру,
Алый плащ на плечи… и,
Презрев детсад, ушел в тореадоры,
А ей сказал:
– Все кончено, прости!
Прошла любовь.
Завяли помидоры,
Сандалии жмут,
и нам не по пути.
Плавание
1
Корабельщик лихой
Развеселые лодьи
Мастерил, выпускал
На моря Беловодья.
Нос-корму загибал
Над открытостью палуб,
Чтоб от вала лодья
На волне танцевала б.
2
В Поднебесной стране
Берег облака близок.
В птицекрылой волне
Изогнулись карнизы.
И парит не спеша
Возле облака фанза,
И вступает душа
В поднебесную фазу.
3
…И – ни лодий, ни крыш.
Сон неясный и зыбкий.
Но припомни, услышь,
Ощущенье улыбки…
Облака, облака
Или волны напева?
И чему-то слегка
Улыбается Ева?
4
Знаю, доля твоя
И чиста, и бездонна;
Что подъемлет края
Губ заветных, мадонна?
И, пометив чело,
Чуть надменный как будто,
Так же тайно-светло
Улыбается Будда?
5
Будет! будет рядить
О значении тайны.
Мы-то знаем: что так
В них светает-витает,
Что хранит корабли,
Что дома согревает…
Мы-то знаем с тобой,
Как все это бывает.
«Не трожь меня, любимая жена…»
Не трожь меня, любимая жена,
Не трожь меня, посланец воли вышней.
Нет, я не пьян. И мне не будет лишне.
Допью. И даже выловлю все вишни
Со дна…
И что мне бог, что – сатана?..
Никем из них душа не спасена…
Я все равно уеду, дорогая.
Нет, не герой…
не спятил…
не другая…
И не твоя – ничейная вина.
Все просто.
И, как водится, одна
Причина…
Ну, зачем ты? Надоело!
Тоска жива.
Вот в этом все и дело —
Она сильнее страсти и вина.
Я знаю – на краю Большой земли,
На берегу арктического моря
Гудит скала,
И северные зори
Над ней колышет сумрачный залив.
По галечнику хрусткому дойду
И, обдирая рыжую штормовку,
Взберусь наверх,
на краешек,
на бровку
И помолчу у моря на виду.
Один лишь миг —
Полярная скала,
Да чаек гвалт
у глаз и под ногами.
Лишь ощутить,
как холоден тот камень,
И как земля огромна и светла.
«Разве?..»
Разве?
Разве бьют часы?
Это гвозди.
Гвозди всасывает древесина.
Здравствуй.
Ты, знать, будешь
Звезда Немезида.
Молоток или молот
Вбивает те гвозди?
Сизиф или Молох?
Труд не жертва,
А жертвы – не труд…
Что за солнечный город,
Что за странные зданья меня ожидают?
Пирамиды и стелы.
Что за мрачная вышивка черным по белому?
И знаки.
И звезды, как стрелы.
Застарелая родина —
Робкая,
Как снежинка на ощупь.
В нашем веке
Еще дровами топили печи.
В нашем веке
Еще говорили «очи».
В нашем веке,
Наверное, все было проще.
А в прочем?..
Говорите мне «ты»,
Любимые
И нелюбимые люди.
Перелетные руки
Уже улетели к ненастной планете.
Перелетные очи,
Наверное, жажду свою утоляют.
А я —
Удаляюсь.
Я – ветер…
Я утихающий ветер.
Эх,
Как моя мама сказала б:
«Гроза да к ночи».
И вы мне тоже не верьте.
Я сочинитель.
Страшно любил бесплатно проехать,
И вот – изловили
ЭТИ.
И теперь я
Ни знаменатель и ни числитель,
А просто ветер.
А вы меня сдуру снова на «вы»:
«Володя, вы ли?»
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Слышите, плахи поют
И гвозди сладостно стонут?
Вы говорите «не стоило»?
Думаю,
Стоило…
«Я пришел непрошено незвано…»
Я пришел непрошено незвано
В мир, где травы держат навесу
Сизых рос белёсые поляны.
И лишь солнце трогает росу.
Цедит утро млечный ток тумана,
Тёкот дятла слышится в лесу.
Как войду и что с собой внесу
В тишину, что стынет изваянно?..
Тень тропы… Но поперек пути мне
Капель зернь висит на паутине —
Знать, туман запутался в сети.
Где найти дороги серединной?
Наклонюсь, пройду под паутиной:
Пустяки, но лучше обойти.
1985
Голос древнего поля
Есть ли какое подобье тебе,
предрассветное степи дыханье?
Эта начальная тёмная дрожь, эта остуда в груди…
Вот уже тронуло ветром поля,
колыхнулись овсы и пшеницы,
Облако зреет на гребне зари,
слышится ржанье коня.
Вот уже вновь возникает во мне
в нескончаемом рокоте славы
Давняя-давняя песнь, древняя-древняя жизнь.
Снова мне чудится дивная весть
в набегающем гуле пространства.
Что так далёко поёт? Что так высоко звенит?
1985
«А река не полней полыньи…»
А река не полней полыньи.
А погибель не более боли.
Колесо не длинней колеи.
Боже мой, то, что жизнью зовём, —
Точно так же дороже любови…
Комья глины. Лопата и лом…
А река уже с морем сомкнулась.
Уж измерен весь путь колесом.
Боже мой, то, что жизнью зовем, —
Чем же, милая, обернулось?..
«В пустыне в закатном покое…»
В пустыне в закатном покое
Я слышал – камни поют.
В безмернейшей из колоколен
И ныне, вспомню, стою.
И звёзды по куполу зреют.
И кремни, блестя как стекло,
Искрят меж собою, теряют,
Что за день с небес натекло.
И шорох разрядов, и гравий
Чуть вздрагивает на миг.
И кажется – вот заиграет
Мне благовест меркнущий мир.
Пространство могуче и голо.
Огулом рождается звук.
Ты в космосе пробуешь голос.
Ты музыкой рвёшься из рук.
Та песня безводных угодий,
Те шорохи звёзд и камней…
И страх, словно льдина, уходит
И влагою тает во мне?..
«Одиночество, одиночество…»
Одиночество, одиночество…
Ничего не ждёт, не пророчится.
Ничего не ждёт
На обочине.
Лишь весной душа
Заморочена.
В мёртвом городе
Тихо бродится,
Словно люди здесь
И не водятся —
Люди сгинули
В скорлупе квартир,
В мёртвом городе
Только я один.
Утро брезжится.
Лето близится.
Мне об щеку май
Ветром лижется…
1979
«Что же сталось, друг мой одинокой?..»
Что же сталось, друг мой одинокой?
Что же скажем, не кривя душой?
День над Иртышём и Ориноко
Стал нам одинаково чужой.
Слышишь, милый, пусто человеку.
Или он уже не человек?
Начертили мелом соловейку,
Но какой без песни соловей…
Вскрикнула душа и улетела.
Не слышна пичуга за леском…
Говорят, что боги (было дело)
Здесь гуляли в облике людском.
Боги удалились на Олимпы,
Лишь один остался горевать.
Он отбросил молнии и нимбы,
Сердцем стал вражде повелевать.
Видно, дело вовсе не в подобье —
В жертве!..
Боже, сколько нас – калек!..
Я бы помолился о Потопе,
Да боюсь – не выплывет Ковчег.
«Я у Бога не много просил …»
Я у Бога не много просил —
Лишь таланта:
– Дай поднять! – сколь достанет сил,
Столь и ладно…
И упало на плечи мне
Бремя света.
И услышал – гудит в огне
Голос ветра:
– Ты свободен отныне. Но —
Доли счастья
Уж не даст тебе ни вино,
Ни причастье.
Пусть наверх до небесных вех —
Путь утраты:
От восторгов, борьбы, утех
До расплаты.
Не меня ли потом кляня,
Полный силы,
Будешь зрить средь ночи и дня
Край могилы?
Недоступно тоске грудной
Взмыть за тучи.
Непосилен – любви земной
Сон горючий.
И раздавит тебя гора
Слез и свет…
Расступись же, Земля-Сыра,
Мать-Планета!
«Выбор пал…»
Выбор пал.
И не игрушка, не жертва
И не лет мотылька на огонь.
Лишь привиделось – мчит скаженно
Белый Конь,
Белый Конь,
Белый Конь.
Подлетел,
И – копытом оземь.
И подумалось второпях:
– Для чего? Разнесёт и сбросит…
Только некому, кроме тебя.
Может, плакал о доле иной он?
И уже невесом-невесом
Прокричал:
– Ни в чем не виновен!..
Но навстречу:
– Виновен во всем…
Вспоминая о русских поэтах
Не взорвать болтовней да с налету,
Дело прочно —
Круши не круши…
Надо жизнью платить за свободу
Мысли, слова,
в итоге – души.
…Вот теперь она – вольная птица,
А не вол, что бредёт колеёй…
Все простится,
И все разрешится,
Все останется только её…
Маковский. Биография
Он был последним дворянином,
Вернее просто сиротой,
И декабристская равнина
Его прияла на постой.
В военном сумраке детдома
Просыпал золото кларнет.
И вот в оркестре Сибревкома
Он кларнетист, а не корнет.
Не снятся пяльцы. Мерзнут пальцы.
Но выдувается мотив
Того вселенского скитальца,
Что гибнет, беса укротив.
Маковский будет музыкантом,
Эстетом культпросветных лет,
А после младшим лейтенантом
И укротителем ракет.
А грянет сокращенье армий,
Поступит в университет
Еще не знающий о карме
То ль математик, то ль поэт.
Увы, не то – ни то, ни это:
Ни диссертаций и ни книг.
Он – бич. Он орфик туалета,
Хоть Канта с Гегелем постиг.
Навеки нищая свобода!
Нет меценатов, Обь – не Тибр.
Звучи ж, сибирского рапсода
Апполинеровский верлибр!
Последний дворянин Маковский,
Той революции послед,
Ни по-французски, ни по-польски
Не знал. Хотя ценил балет,
Хотя любил после попойки
Шарденом и Ватто блеснуть,
Иль на краю больничной койки
Ружевича перелистнуть.
Иль жестом шляхты Посполитой
Он запрокидывал кадык
(Уже седой, три дня не бритый)
И пил, как музыку, язык.
Но он устал тащить свободу
На старческом уже горбу:
Поэзия глядела в воду,
Вода перетекла в судьбу.
И, вспомнив Лермонтова свойски,
Как в прошлый век, как в прошлый раз,
Махнул рукой… Собрал авоськи
И тихо сгинул на Кавказ.
В Коломенском
…Я знаю – истина в вине.
А. Блок
Какие сумрачные краски.
Какая ширь и тишина.
Внизу Москва едва видна
За дымкой.
Здесь же – домик царский,
Дубы, церковки и простор…
Простор —
Его мне не хватало
В теснящем сумраке квартала,
Что так похож на коридор,
Который кончится стеною…
Туман ложится на ладонь.
Недалеко до холодов,
И зябко чувствовать спиною
Дыханье чье-то.
Не понять —
То время, осень или ветер…
А может, совесть ждет ответа?..
Приспели сроки заполнять
Пустоты юного задора,
Но вот, увы,
Не знаю чем.
Виной – что грузом на плече?
Иль ощущением простора?
Но толку,
Что в моей вине
Дух истины?
Ведь горе – наше.
И слаб я, истину познавший…
…Церковный колокол во мне
Звенит светло и похоронно.
Обрыв высок.
Судьба крута.
Традиционная ворона
Кричит
на краешке
креста…
Сон
Процежен тишиной, рассеян и высок
Дымок рассвета. Вздох…
Как будто и не снилось,
Как тягостно и зло нагрузлой тьмы кусок
Давил, и все росло и в воздухе носилось
То чувство, где близки и тьма и высота.
Ты грезил – ну, вот-вот, и то, что не бывало,
Свершится. И не сон, не бред, маета
Металась в темноте, на части разрывала.
Как женщине, в ночи почуявшей исход,
Когда живот, ожив, уж не удержит плода,
Тебе хотелось жить и вырваться из-под,
За грань удушья тьмы и временного хода.
В кромешности слепой до тошноты душе
Желалось претворить себя – превоплотиться!
До капли просветлеть, открыться. И уже
Миг близился и жег. И заново родиться,
Быть может, предстояло. Скоро! Только где?
И кем? И почему? – ты не имел понятья.
Роились тени сна в предутренней звезде…
И вот, освободясь как будто от проклятья,
Ты ощутил себя, бредущим и немым,
В полях, среди ветров проселочной дороги,
В ладонях той родной, прогорклой синевы.
И – пусто за спиной. И – ничего в итоге.
Дорога на подъем. Суглинок. Скользота.
По щиколотку грязь. И словно больше нету
Кого-то… Вовсе нет! И жёлтого листа
На веках у земли тяжелые монеты…
Ты плавился, ты плыл – как горная руда,
Когда металл течет из тающего камня…
Любовью всей и не!.. любовью ты рыдал!
Достигнув всех вершин, закончив все исканья…
Миф о пророке. Вариации
I
Поплачем о несбыточном, поплачем,
Вина испивши с пеплом пополам.
Свой причет старой притчей обозначим.
Воспомним храм, перебирая хлам.
Поплачем о несбыточном… Давно ли
Пророк речь шатала голытьбу?
И варвар из нагорной Анатолии
К ногам пророка рвался сквозь толпу.
Он жаждал исцеления.
Угрюмо
Вдыхал пары проказы и дерьма.
И лез – как раб из запертого трюма —
По головам без веры и ума,
По язвам спин, не знавших ветра воли,
По лицам – и убогим, и тупым,
Он лез по шевеленью зла и боли,
Сшибал калек, плевал в глаза слепым.
Но был наказан…
Схлынул проказа,
Однако знака вещего лишен,
И сник, и смят был – более ни разу
Он к страждущей толпе не подошел.
Не так ли волчью грудь сминает стадо? —
Так голос горний свой запрет изрек:
– Не для тебя спасенье и награда,
Жестокосердый гордый человек…
Нам не достичь любви ценой насилья.
Нам не избегнуть краха, множа кровь.
Чернеют даже ангельские крылья,
Коль ими помавает не любовь.
II
А как же те, что днесь у ног пророка
Внимают очистительным речам?
Увы, Увы!.. Ни совести, ни бога,
Тем паче – состраданья к палачам.
И даже крохи смысл тех речений
Апостолы не в силах восприять.
Первейшее из их предназначений —
Сознаньем приближенности сиять.
Забыли светоч жертвенного пыла,
И призваны, и живы для чего.
И с ними дева блудная забыла
Раскаянья святое торжество.
Они давно и прочно приобщились,
И в сонме слуг – горды и велики.
Хлеба делить искусно научились
И изгонять бесовские полки.
А если кто прорвётся сквозь завалы
Смердящих тел, во злобе и крови,
Бог милосерд – зачислят в подпевалы:
Живи, живи – уже не до любви.
III
Поплачем о несбыточном… И – амен!
Сладка кутья. Томительна звезда.
И на распутье каркающий камень.
Гласит – и так, и эдак пустота.
И немо бродит бывший прокажённый,
Ловя в прошедшем ясные слова.
И пьют мужья. И увядают жены.
Ни счастья, ни покоя… И права
Текучая наука Гераклита:
«Сухое – влажно, хладное – тепло».
И зеркало весеннее разбито,
И на ладони талое стекло.
Не так ли я, взыскующий о чуде,
По головам шагал, по головам.
На свет, на голос шел, еще бы чуть и…
Но дар исчез. Но жребий миновал.
Лишь солнечный осколок на ладони.
Сожму кулак до алого тепла…
Поплачем… пока талою водою
Вся жизнь, вся жизнь
меж пальцев потекла.
«А за озером горы прозрачные…»
А за озером горы прозрачные,
Прямо в небе те горы витают.
Складки скальные, снежники вечные,
Мхи и камни, и пропасти мрачные,
Облака, словно призраки встречные,
На тропе сокровенной к Китаю.
Я пройду по тропе той заброшенной
На пустынное плато Тибета
К старой хижине Вэя-отшельника,
Азиатской пургой запорошенный,
Добреду накануне сочельника,
Иль к исходу буддийского лета…
Обернется старик, опечалится,
Со спины, словно небо, покатой
Сбросит хвороста связку гремучую,
Не спрося – как же так получается,
Кто таков, что за бедами мучаюсь —
Долго взглянет на пламя заката…
Даст полыни метелку продрогшую,
Даст синицу… Еще даст китаец
Риса горсть, ломтик сыра пастушьего,
Повернет меня в сторону прошлую,
И по свитку пространства застуженного
Я прочту: «Возвращайся, скиталец».
«А по дну Иссык-Куля блики…»
А по дну Иссык-Куля блики,
Блики солнца
Словно ангелов перекличка,
Солнца блики.
Словно спящих младенцев улыбки,
Блики солнца.
Дро-дрожат на губах у моря
Капли меда!
Звень-зерном в душе раскатилась
Нежность жизни!
«Выходи же, тяншаньская ель…»
Выходи же, тяншаньская ель,
К очагу в половине шестого
На щербатый хребет Кюнгей-Тоо
Тень монашья, тяншаньскя ель.
Крылья траура, вздохи потерь
Ты волочишь по мшистому камню,
Как мой предок – месть Шароканью.
Крылья траура, вздохи потерь…
Близость неба и дикая грусть.
Это время шумит, не хвоя.
Пройден путь и оплачен с лихвою.
Пики мрака и дикая грусть…
Изострилась заветная скорбь.
Звезды чутко скользят по вершинам.
Страшно здесь онемевшим машинам:
Горы, ели и горняя скорбь…
«Будет поле, тропа и рожь…»
И снилось мне тогда, что, отрешась от тела
И тяжести земной, душа моя летела
С полусознанием иного бытия…
В. Бенедиктов
Будет поле, тропа и рожь
С упованьем вечного лета,
Будет берег этого света,
Тяга почвы и жатвы нож…
Свет – не прах! Соломон не прав:
Пусть погрузят жизнь на телегу —
Даже пылью своих молекул
Я запомню творенья нрав!
Верь поэту – бессмертна душа.
Он заглядывал за неизбежность,
Он угадывал тайную смежность
Почвы с небом.
Страшась, кружа
За границей родного тела,
Над воронкой тлена времен,
Он за память любимых имен
Зацепился осиротело
И вернулся…
Упало зерно,
Миновав равнодушный жернов,
Возле сфер поющего жерла
И взошло, и тепла полно…
Я свободен.
И я любил.
Я глядел в глаза коридора,
Жизнь и смерть идут сквозь который,
По которому в громе хора
Светлый предок мой уходил.
«Когда нет сил ни жить, ни умирать…»
Когда нет сил ни жить, ни умирать,
Когда тебя неведомой воронкой,
Невидимой сосущею дырою
Зовет и тянет Черная дыра,
И шахтой открывается в груди
Бездонный мир,
Вращающий во мраке
Нагую душу,
В ропоте и страхе
Ступившую на тайные пути:
Нет времени,
Ни лиц,
Ни просто тел,
И ты, пока лишь медленно,
По краю
Скользишь,
Полубезумно замирая,
Предчувствуя, что вовсе не предел
И свет бег мгновенный,
И вселенной
Межзвездные просторы,
И когда
Уже готов ты кануть в никуда,
Вдруг… устрашишься:
Горестный и пленный,
Гребешь назад, наверх, на божий свет,
Возрадуешься, вынырнув из мрака!..
Ты не свободен от любви и страха.
Покуда счастья нет, и смерти нет.
«На апрельский протал…»
На апрельский протал
Осыпается хвоя.
А небесный портал
Отворен синевою.
Осыпается лес,
Обновляясь на лето.
Отступает болезнь
Сотворенья поэта.
Вот и сник мой восторг
Добывания света
Страсть рассеял простор.
А избранника мета
Поистерлась, как лэйб
На заношенных джинсах.
Ах, скорей бы, смелей б
Это все завершилось:
Стрый эксперимент,
Где душа – инвалюта.
Что ж на здешний момент
Тошно этак и люто?..
Можно с небом на «ты»,
А со словом играя
Всяко…
Только плати,
Дорогой, дорогая,
Дорогие мои,
Дорогое веселье…
Вот и все соловьи,
Все весны новоселье.
«Поделю свою душу на части…»
Поделю свою душу на части,
На мильоны ничтожных частей,
Чтобы выяснить формулу счастья
И константу добрых вестей.
Разложу до первичной основы,
До начального чувства тепла,
До не ставшего звуками Слова,
До черты, где колеблется мгла.
Бесконечно ничтожная малость,
Первобрешь рокового Ничто,
Точка света, где образовалось
Галактическое решето.
Ну, еще раз! Анализ покажет,
Отчего эта жизнь хороша.
Делим! Но – перед нами все та же
Бесконечно большая душа.
Не постигнешь пытливою волей
Сокровенную тайну кольца.
Так не прячь перед вольною волей
Потемневшего думой лица.
Лучше спой, молодой и беспечный,
Выходя за отцовский порог,
О душе неделимой и вечной.
Это Пушкина добрый урок.
Бор
Шумит хвоя так высоко и густо,
Что чудится – ты в детстве у печи,
А в доме тихо, сумрачно и пусто,
Труба гудит да мятник стучит.
В бору иголок сыплющийся шорох,
И медленно,
Почти не наяву,
Сухая шишка сквозь смолистый морок,
Стуча о ветви, падет в траву.
И ты упал в небесные палаты,
Летишь, кружась, и наблюдаешь, как
Сосновой медью свитые канаты
Теряются в зеленых облаках.
Бор отразился в лужицах и росах,
Он раздробился, переломился и
Земля висит на трех простых вопросах:
О времени, о смерти, о любви.
Но в данной точке синего пространства
Любви полна вселенная моя,
Застыло время знаком постоянства,
И смерти нет в пределах бытия.
Лишь в капле смолки иглисто искрится
Большого леса детская душа
Да, зноем на прогалинах дыша,
В колоннах солнца марево струится…
Созерцательные стихи
I
В закатных травах, нем и одинок,
Я вспоминал, что значит слово «совесть»…
II
Едва ли есть понятье невесомей
И неподъёмней…
Я искал итог
Минувшему.
А травы золотились,
Лились с откоса, млели на ветру.
Я думал: насовсем ли закатились
Златые звезды в черную дыру?
Шуршали травы и шептали травы:
«Живи как мы, забудь про слово «я»
И выходило, вроде, травы правы —
Я лишь досадный промах бытия.
И надо жить, свой путь соизмеряя
С высокой вестью космоса души…
Но ум глумился: «Травам доверяя,
Бреши, приятель, да стихи пиши.
Мол, благодать – слияние с природой,
Соитие с великой пустотой,
Совокупление с пустой породой,
Созвучие с извечной немотой.
Себе, себе же в творческом задоре
Бреши о неизбывности души!..
Ловить себя за хвост, с собою споря,
Напрасен труд…
Меж тем уже в тиши
Звезда возникла над зарей вечерней,
Мерцаньем мне сигналила
О ЧЕМ?
Воспоминаньем,
Вестью ли – свеченье
Ее во мне откликнулось?
А может —
Надеждою на то, что подытожат
Все к лучшему?
И по щеке у Бог
Слезою метеорной
Не стечем?..
«Он любил только небо и деву…»
Жил на свете рыцарь бедный…
А. Пушкин
Он любил только небо и деву,
Воевал, чтоб себя победить,
Чтоб, не веря ни страху, ни гневу,
И просторно и праведно жить.
Дело было в погибшей державе
Под рябиной среди снегирей,
Дальше Токио, ближе к Варшаве,
Между трех океанов-морей.
Может, Молли, а может, Людмила
Звали деву мечтаний и грёз.
И она б его тоже любила,
Бес не выдал – за море унес.
Он сидел под рябиной кудрявой,
Под развесистой клюквой сидел…
Бросил меч, распростился со славой
И остался совсем не у дел.
Свиньи-ироды рыщут младенца.
Дева за морем… Как же тут быть?
Только Ваня с куском полотенца
Приглашает прощать и любить.
Только рыцари каркают хором,
Защищая чужие права.
Только ветер бушует над бором,
И торчит из земли голова.
Только небо, как водка прозрачно,
Так прозрачно, что хочется петь.
«Как же быть? – Вновь он вымолвил мрачно. —
Неужели и вправду терпеть?»
И не смысля ни ухом, ни рылом
В этом мире, лежащем во зле,
Он подался, палимый светилом,
По блаженной и милой земле…
«Куст пионов и розовый воздух…»
Куст пионов и розовый воздух.
Лебединое озеро. Смех.
Это музыка трогает возраст.
Это перышко кружит, как снег.
Я забыл о печалях полночных
И невинности нежной боюсь.
Лепестками усыпана почва.
Лебединая музыка. Грусть.
Холодает. К ночи холодает.
Тает облако. Падает мгла.
Нега-бабочка в ночь улетает:
Взмыла-ахнула, изнемогла…
Так и будем следить за полетом
И томиться холодным умом…
Спят бутоны…
Где музыка?.. Кто там?..
Кто там, Господи, в небе пустом?
1991
Овраг
Сумрак в заусеницах оврага
С ландышем под рухлядью коры…
Где струит извилистая влага,
И ступают сосны за обрыв.
Страх-овраг у дачного поселка.
Крик-обрыв с клубничным козырьком.
От оврага никакого толка,
Что ж без толка я сюда влеком?
Здесь таится липкая тревога,
Здесь кружится старая сова,
Здесь я у какого-то порога.
У какого?..
Прячутся слова.
Прячутся под листьями коряги.
Теплится под облаком закат.
Не хватает веры и… отваги —
Сделать полшага.
Лишь сова кружится слепошаро,
Словно тьмы и свет на весах.
Падает во тьму…
И впрямь, пожалуй,
Лучше ей не знать о небесах.
«На море штиль. Оплавилась волна…»
На море штиль. Оплавилась волна.
Увяли паруса катамарана.
Не подписать ли грустный меморандум
О прекращеньи мяса и вина?..
Страстям потрафить не запрещено.
Но лень – она послаще заграницы.
В глазах лукавят солнечные блицы.
На море штиль. И степлилось вино.
И штиль да штиль кругом…
Какая дрянь —
Все эти ваши страсти по свободе!
Душа в отгуле. И застой в природе.
Стой. Обернись. Не заступи за грань.
Благословенна праздная игра…
Спаситель тоже трогал погремушку;
А рифму, как чудесную игрушку,
Нам дали в час воскресного добра.
Аз, многогрешный, не велик стилист,
Но, словно чёлн, объят высоким штилем,
– Плыви! – скажу, – коль семь небес под килем,
Коль светел пред тобой покоя лист…
«Либо-либо…»
Либо-либо…
Оплыли следы.
Травы в инее. Синь проступает.
Много холода. Много воды.
Радость осени не искупает.
То ли плыть по зеркальным горам,
То ли падать в отвесное море?..
Умирает старик Авраам,
Сыновья перессорятся вскоре.
Облака, словно демона крик…
Пусть я нищ, но не ведаю боен!
Пусть в зените скользит материк
С фиолетово-сизым подбоем.
Это плавится в море закат.
Это все, что осталось от славы…
Путь высок и, как прежде, покат —
От земной до небесной державы.
Демон
Живу на даче с бронзовым жуком:
Жук под диваном, я – все больше в кресле.
Когда б я знал, что демоны воскресли,
То посчитал бы, что с одним знаком.
Под вечер, когда слышен на стекле
Мохнатый шелест нечисти мотыльной,
Выходит он походкою костыльной
Ко мне под лампу – нежиться в тепле.
Мерцают латы – бархатен отлив.
Стучит хитин, как будто трость виконта.
И грозен вид. Но больше так – для понта.
Он стар, горбат и, видимо, брюзглив.
Еще хватает сил вспугнуть жильца
Да пообедать полудохлой мухой.
Но – гордостью и старческой разрухой
И он казнен и сломлен до конца.
Играю с ним. Никак не применю
Ни крестное знаменье, ни булавку.
Щипни за палец и ступай под лавку —
Во тьму, поближе к серному огню.
«Парусами сизыми сырыми…»
Парусами сизыми сырыми
Два дождя уходят по воде.
Паруса дождей…
А имя, имя…
Имя дня?..
Ильин сегодня день.
Спас медовый… Господи, не помню,
Завтра?.. Завтра будет мед жбан.
Хорошо, разведрило бы к полдню:
Сласть как славно – медом по губам.
Временное летнее спасенье —
Яблоки с орехом на меду.
И преображенье в воскресенье —
Воскресенье осени в саду.
Следом – угасающее пенье
Вечеров над чашами стола,
И плодов блаженное успенье
В чистых слитках плавного стекла.
Света ток сквозь облако тугое
Сном душистым в воздухе висит.
Светлый крест. Лучение покоя.
Только смерчик тропкой колесит.
Все забыл.
А то, чего не знал я,
Вспоминать мучительней всего.
У соблазнов – алая изнанка,
Под изнанкой вовсе ничего.
«Слепок облака в озере парусном…»
Слепок облака в озере парусном.
Словно ветра изнанка – залив.
Даль клубится полотнищем гарусным.
Резь простора. И – неба размыв.
Чем усердней, тем боле бесплоднее
Сеть плетет серебристый мизгирь…
До свидания, лето Господнее,
Исполать тебе, любя ширь!
До свиданья, корчага целебная,
Лепестками засыпана вся…
И любовь, и душа моя пленная,
И моленная света стезя.
Ничего не решается загодя.
И победа – погибельней лжи.
…Разбегаются волны по заводям
От прошедшей за мысом баржи.
Растекаются страхи по комнатам.
Разбивается ветром окно.
Звон осколков и шорох… О ком это?
Да. Но мне… мне уже все равно.
Лишь сквозняк пробегает по памяти.
Лишь глаза цепенеют на миг,
Да скользит по песку как по паперти
От небесного купола блик.
…Где очнемся от холода летнего?
Кто простит меня? Просто простит,
Не спрося не посула последнего,
Не напомня про суд
и про стыд…
«Девушка с прозрачными глазами…»
Девушка с прозрачными глазами,
С лунным камнем в мочке золотой
Замерла, склонясь пред образами,
Тихая, пред ликом Девы той,
Той, что так чиста и непорочна,
Той, что милосерднее зари…
И летали в куполе барочном
Белоснежной парой сизари.
Господи, я грешен и ничтожен,
Горб мой полон мрака и свинца,
Но обескуражен и восторжен
Благодатью этого лица.
Господи, я знаю, как непрочна
Плоть – как и лукава, и горька…
Но летают в куполе барочном
Два непобедимых голубка.
Призрак это или откровенье,
Я не знаю, только не могу
Удержать в груди сердцебиенье,
Как лучом пронзившее тоску.
Девушку с прозрачными глазами,
Кроткую в молитве о любви…
Душу ли, омытую слезами,
Господи, мою благослови.
Мне уже под тяжестью сомненья
И не встать, и не поднять лица,
Лишь глядеть с улыбкой умиленья
С тихих плит церковного крыльца…
Падение
Мне казалось – я хищная птица,
И распластан над горной страной.
Мне казалось – я волен родиться
Человеком ли тварью земной.
Круг души мне ветрами очерчен
По периметру сизой земли,
И гласят мне печати на сердце:
«Знакам силы и славы внемли!».
Я внимал и тому и другому,
Я знавал восхищенье высот.
И живущему в облаке грому
Слал перуны мой каменный рот.
Гордый выкормыш Гипербореи
Звал достойным лишь камень и сталь!
Не скорбя, не любя, не робея,
Я свивал за спиралью спираль.
Но зовет меня к язвам и вере
Человеческая ипостась.
Боже мой, не большая потеря
В зябь осеннюю соколу пасть.
Отрекаюсь от грозного крика,
От судьбы и от крови чужой,
Чтоб прижаться светло и толико
К лику слез и могиле большой.
Черный пепел над храмом закружит,
Чтобы комьями пасть на жнивье.
Дольний колокол. Давняя стужа.
В небе пусто. Одно воронье.
Дрогнет воздух. Взовьется капелла
Детским раем средь горних валторн,
И мое беспилотное тело
Протаранит кладбищенский дерн.
Золотой кол[2 - Полярная звезда, Коновязь (тюрк.).]
I
Где за гиперборейскими льдами
Космос лег,
Где живет за пустыми вратами
Божий вздох,
Он возник на холме небосвода
В той дали,
Где лишь хаоса сонные воды
Тьмою шли.
Он —
Пробивший покров сотворенья
Турий рог:
Знак рождения,
Мера вращенья,
Ось миров!..
II
Отпусти мою душу, Россия,
До звезды!
Я с Алтая взлечу без усилья,
Без узды.
Вольных мыслей усталую лошадь
У тех врат
Привяжу. И по Млечной пороше —
Наугад…
«Нету мочи жевать целлюлозу…»
Нету мочи жевать целлюлозу,
Нету права ее не жевать.
Что ж, имей не мозоль, так занозу,
Жуй, забравшись от всех под кровать.
Баю-бай, набираюсь терпенья,
Как велел господин президент.
В горле ком. Не достанет раденья
Доломать переломный момент.
То мазут, то минтай, то ментовка,
То под дых, то под зад, то под суд…
Перестройка, рекогносцировка,
И святых в экспертизу несут.
Я пойду по следам экспертизы
За причастьем в соседний ларёк,
Я увижу родные эскизы:
Два душмана, забор, пузырек…
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Что ж ты падешь, подлая баба?!
Ну, давай, доведу до беды
Иль сыщу тебе злого прораба
Из потомков Великой Орды.
Бог с тобою, я только проездом,
Как-нибудь коротай до утра.
Съеду, будет одним койко-местом
Больше в городе Piдна дыра.
Все мы бублики с маком тачали,
Все мы прыгаем лишь в ширину.
Бог с тобой, хорошо помолчали,
Лей в послед и чужую вину.
…На младенце построен Детинец,
Храм – на вере, а Спас – на крови.
Пей, старуха, запретный гостинец,
Бог с тобой,
Если можешь – живи…
Братск, 1990
«Дно колодца и неба рядно…»
Дно колодца и неба рядно,
И полёт в золотом промежутке:
Словно тает в соломенной грудке
Соловьиного смеха зерно.
Любо-дорого, лепо-красно
В новобрачных прозрачных покоях.
Никнет ветер на чистых покосах,
Льется в озеро света вино…
Тихо пей, все, что Богом дано,
Причащайся последнему счастью,
Благодати земной причащайся,
Завтра – поздно,
Потом – все равно.
Там – потом, даже днями темно,
Лихо там без любви и поруки…
Вон и листья от счастья и муки
Золотые ложатся на дно.
«Зимняя пойма…»
Зимняя пойма.
Прямая тропа.
Пой, моя радость.
Иней,
Как легкое платье, упал.
Пой, моя радость.
Снег золотится
И ждёт синевы.
Пой, моя радость.
Луч раздробился
О призрак листвы.
Пой, моя радость!..
Морской трамвай
из Азии в Европу
Из России в Россию плывет катерок
Чрез пролив, что далече когда-то
По январскому льду князь ли Глеб пересек?
Тыща лет – только камень и дата.
В лето, Боже, какое-то – я, имярек,
Проплываю по старому курсу
На корме средь мешков, где небритый абрек
Щурит глаз и грызет кукурузу.
Где болгарские перцы в корзинах скрипят,
И старухи, что клушки-наседки,
Охраняют коляски: там, вместо внучат,
Гроздья – только что снятые с ветки,
Там пушистого персика розовый ворс,
И арбузы в пижамах курортных.
Ветер торга и табора на борт занес
Разнокрашенный говор народный.
Говорят, что нас встретит чужая страна,
Здесь Тамань, а за морем – таможня.
Говорят, что очнулся от сна Сатана,
Невозможное – снова возможно.
Я плыву и не знаю: зачем так давно
Нам назначено странствие это…
Просто-напросто, просто – дурное кино,
Закольцована старая лента.
Просто-напросто, просто… Но просто ли то?
Нет, не просто, не пусто, не глухо.
Греку даст сигарету красавец-бато.
К туркам сядет хохлушка-старуха…
Из России в Россию… А море шумит,
Катер борется с ветром наверно!
И не кончен ресурс. И не выбран лимит.
И жива наша вечная вера.
И всеобщего счастья златые ключи
Не потеряны в бешенной сече.
…Тыщу лет уж стоит на пороге Керчи
Русский храм Иоанна Предтечи!
17 августа 1994
«Мессершмиты как осы…»
Тигроподобные осы роем вьются над горой тучного злато-лилового винограда. Спрашиваю у уличной торговки: «Почему этих зверей не отпугиваете? К вам покупатель близко не подойдет». «Подойдет! Если осы вьются, значит виноград медовый. Сахарный».
Мессершмиты как осы
поют над дворцом Митридата,
И закатное золото гроздьями ткет виноград,
Пыль Европы и Азии смешана с кровью солдата:
Обелиски и кости на тысячи стадий назад.
Понт Эвксинский кипит,
жадно тыкаясь в вымя Тавриды.
Над Таманским заливом упругая синяя зыбь.
Арианский монах собирает у моря акриды,
Да простудно кричит на лиманах забытая выпь.
Что-то стронулось в мире.
И время, как старая кладка,
Рассыпается в пальцах —
песчаник, саман, известняк.
Лишь разбитый кувшин,
лишь вина золотая облатка,
И на синей глазури – лишь чайки парящий зигзаг.
Над лучом маяка полыхают небес аксамиты.
Мир навылет сквозит —
грохот гусениц, топот подков.
Митридат упадает на меч…
И горят мессершмиты…
И суровый монах всех оплачет во веки веков…
16 августа 1994
Крест
На мраморном надгробии Геракл
Был грозен, как Георгий-змееборец,
Но конь врага копытом не топтал,
Копье искало славы, а не правды.
И камень, прихотливо накренясь,
Стоял среди осколков Гермонассы,
Средь городка по имени Тамань,
На берегу полуденного моря
Во дворике музея…
Где-то здесь,
Неподалеку, ночевал поручик,
И так же слушал мерный шум воды
И запах йода на осклизлой гальке,
И древней тишины степную глушь…
Но тот поручик умер.
Был застрелен.
Давным-давно.
А кажется, вчера.
Зачем я вспомнил?
Жалость? Состраданье?
Нет, нет!
Он так хотел. Он все узнал
Столь рано, что не думал о протесте.
Протест ведь пустоте равновелик,
А он был полон жизни, вечной жизни,
Хотя слова о жизни той пусты…
Но есть деталь, что не дает покоя.
Там – в глубине музея, на стене,
Средь золотых монет Пантикопеи,
Лампадок, бус, ликивчиков, колец
И прочей бижутерии ахейской
Есть крестик. Я не видывал нигде
Подобного. Конец креста обломан.
Вершина же и левый луч – целы.
На них, в кругах, таинственные знаки.
Их ведали чеканщик и монах,
И всякий раб крещенной Византии.
Но суть не в них.
Внизу креста – Христос.
Католики, воспевшие распятье,
И муки, и поруганную плоть.
И Божьей кровью полные стигматы,
Взроптали бы, увидя этот крест.
Здесь нет распятья. Иисус нисходит
С вершины мук в сияньи и любви,
Неся перед собой живые руки,
Как бы желая даровать хлеба.
За ним овал златого ореола…
Крест позади. Его не миновать,
Но он остался знаком пограничным:
Преодолей, шагни, переступи!
Иди за мной, иди и не противься.
Распятья нет, есть радости завет.
Так мне внушали древние монахи,
Носившие под рясой этот крест
Еще до русских лет Тмутаракани.
………………………………………………
Молчат надгробья. А поручик спит,
Внимая Небу. Прах летит по ветру.
И лишь Геракл в порыве роковом
Не может отыскать достойной цели,
От подвига до подвига летит,
Пронзая ветер жалом копьевидным,
Не зная, что на траурном костре
Он в тунике отравленной истлеет
В жестоких корчах.
Навсегда настигнут
Самим собой…
5 сентября 1994
«Приближается край… Но не хочется верить…»
Приближается край… Но не хочется верить.
На краю затоскую о крае родном.
А Потерянный рай назван именем зверя,
А грядущий Эдем мечен страшным числом.
Я был вдрызг одинок без любви и России.
Я был просто дурак, обреченный на жизнь.
Но, прозрев, я объят тьмою невыразимой,
Где позор на разоре и злоба на лжи.
Треугольная мгла в треугольном убранстве —
Этот проклятый знак врезан в сердце стране.
Шесть грехов бытия.
Шесть зияний в пространстве.
Шестипалый захват, что присущ Сатане.
А меж тьмою и мной – только крестик нательный,
Только слово прощенья за ради Христа.
А иначе не снесть этой муки артельной,
Этой трассы над бездной, что страхом пуста.
25 августа 1994
Восточные стансы
Я запрягаю мрака караван
На берегу полуночном и диком.
Мечтавший о труде равновеликом
Таланту, что Отец мне даровал,
Я запрягаю скорби караван.
Тот, кто пророку диктовал Коран,
Архангел или Столп громоподобный,
Молчит поныне в области загробной,
Не избран я, хотя, быть может, зван
Тем, кто пророку диктовал Коран.
Горит Синай. Безмолвствует Ливан.
И облака плывут над Аркаимом.
И на Алтае в воздухе сладимом
Золотоносный цедится туман.
Горит Синай. Безмолвствует Ливан.
Узда и шпоры – дьявольский обман.
Ведь пустоту ничем не оседлаешь.
Пророк велик. Но ведает Аллах лишь —
Кому я нужен и зачем со-здан!
Я запрягаю мрака караван.
Тамань
Тмутаракань, Тументархан,
А много раньше – Гермонасса…
Накрой, кунак мой, дастархан
На глади синего паласа.
Твой предок возлагал халву
На ворс ковров Бахчисарая.
А я татарином слыву,
В роду татарина не зная.
Чингиса дух меж нами жив,
Но не скажу – кому он ближе.
За друга душу положив,
Мы оба пасынки Парижа.
Мы оба, щепоть чабреца
Бездумно растерев меж пальцев,
Впадаем в сон, где без конца —
Лишь песня воина-скитальца.
И здесь, на дальнем берегу,
Где много нас легло за правду,
Мы нынче общему врагу
Готовим общую награду.
Пусть в ножны вложены мечи,
Мечтает холм о граде прежнем.
…И чайка, ноги замочив,
Стоит на камешке прибрежном.
«Под бубенцы цикад в эпоху полнолунья…»
Под бубенцы цикад в эпоху полнолунья,
Когда стучит в окно засохший абрикос,
Вслепую поведу по черному стеклу я
И вспомню светлый шелк ночных твоих волос.
За Млечным пустырем – родной Сибири дали…
А здесь такой разлив безоблачной луны,
Такая благодать сухой степи миндальной,
Такой безмерный вздох оставленной страны.
И петушиный залп. И пустобрех собачий.
И море фосфорит, забвением дыша.
Я уловлю твой свет. На мой талант рыбачий —
Сокровищем твоя полночная душа.
Родная, трепещи! Ты вся в моих ладонях.
Ты не уйдешь уже из мрежей голубых.
А в ячеях поет, такое молодое,
Сиянье, что сильней превратностей любых.
22 августа 1994
Ореховая девочка
Ореховое дерево,
Ореховый загар,
Дуреха, моя девочка,
Не спи ты на закат.
Морской белесой горечью
Обметан губ овал.
Такую диво-горлинку
Я чуть не прозевал.
Ты треплешься по берегу,
Играешь и поешь.
Ты в профиль – ангел стрелянный,
А спереди – Гаврош.
Орехи с перестуками
Обсыпятся на стол.
Подобными поступками
Я уж по горло зол.
Соломенное солнышко.
Гремучий перезвон.
Как ведрышко до донышка:
Дин-дон, дин-дон, дин-дон.
Рябит в прозрачном лепете
Древесная метель.
Коленца любо-летние,
Сквозная канитель.
Мой грех,
Мой Спас ореховый,
Земной и Божий дар…
За морем древнегреческим
Пожар, пожар, пожар.
19 августа 1994
Видение Беловодья
Дольним берегом тучи плывут
В дымке матовых складок таежных.
И разливом надежд потаенных
Дышат сумерки…
Горний сосуд
Переполненный солнечной цедрой
Серафим ли веселый разбил?
И разлился, и словно застыл,
Тучи обняв, состав драгоценный.
Берег призрачный.
Плавни. Залив.
Море в небе. И небо сквозь море.
Явь, что явлена нам на Фаворе.
Мир надмирный…
Но больше, чем жив,
Тот простор над простором реальным!
Сколь полна благодатью вода!
Что за ладьи стремятся туда?
Что за звон над затоном зеркальным!?
Стой, душа моя! Верь и внемли
Стройной выси небесного хора,
Вторь живому мерцанью простора
Кем-то обетованной земли.
«Если песок и вода…»
Если песок и вода,
Значит вернулся туда,
Где от воды до воды
Тянутся ветра следы…
Пасмурна серая гладь,
Серая пасмурна высь…
И вне возможности лгать,
Выше и больше, чем жизнь —
Каждая щепоть трухи,
Каждый прибрежный откос.
…Не отпускают грехи.
И остается вопрос:
В чем благодать пустоты
И одиночества лик?
И от воды до воды —
Только любви материк.
Провод свистит на ветру.
Я никогда не умру…
Вздрогнет черемухи гроздь.
Я только гость, только гость.
«Мне горше горя и греха…»
Мне горше горя и греха
То воздаяние земное —
Что влагу трепета и зноя
Не вместят старые меха!..
Я скуп, как тот полуслепец,
Что пламень уподобя камню,
Усердно молится богам, но
Не верит в жертвенность сердец.
А ты без памяти щедра,
Ты без изъяна терпелива,
Смиренна, но не сиротлива —
Сиренью росною с утра.
Какою, Господи, ценой!..
Какой?.. не ведаю какою
Я заплачу за век покою,
За пламя, ставшее виной.
Тот камень – накрепко со мной…
«Я сплавляююсь по речке Торопке…»
Сронила колечко…
Я сплавляююсь по речке Торопке,
Не гребу, но держусь на плаву,
На порожней, как горе, коробке,
Средь порожнего дня, наяву.
Знаю, знаю, что это за речка —
Не Гуменка, не Бердь, не Ояш…
Коль сронила девчонка колечко,
Коли Божия воля не блажь,
Коли выгорит тело пустое,
Коли праздники не про меня,
Коль скользнуло кольцо золотое
В омут серый, прощально звеня,
Коли грешен… Уже не поспорить.
Душу живу лишь убереги.
Никогда мне не быть на Боспоре,
Хоть в четыре лопатки греби.
Никогда не понять, не изведать
Далеко ль закатилось оно —
Дарование воли и света?..
Неужели на дно?
Пред наступлением
красного месяца
Все в поездах мое солнышко-лелюшко,
Катимся, катимся – не устоять.
Сквозь погорелыцину, Ванька-Емелюшко,
Сладкой, как водочка, жизни поять.
Темное месиво… Светлое крошево…
Лермонтов с тучки глядит на меня.
Много хорошего. Мало хорошего.
Чище и льдистее день ото дня.
Эко хватил! Почему не покаялся?
Каюсь, родимые, каюсь во всем.
Тарскою степью, Барабинской, Каинской
Еду в заросший крапивою дом.
Осень такая, что хочется выстрелить,
Чтобы за эхом осыпался лист…
– Истина там, где отрезана истина. —
Молвил безногий, как хмель, баянист.
Лесоповальные, скотопригонные
Лики родные Марусь-Магдалин
Вновь уплывают в оклады оконные,
В дождь и безденежье русских долин.
Поле, пространство, полет и безмолвие —
Даль, словно хлеб, не пресытит во век.
Вновь с мукомолия на богомолие,
В преображающий родину Снег.
Сны роковые в душе не поместятся,
Но сохранятся в небесном краю.
Пред наступлением красного месяца
Простоволосый и тихой стою.
Скажешь ли правду мне, Ванька-Емелюшка,
В час, когда будешь не пьян, а блажен:
Скольких прияла льняная постелюшка
Ширь-белизной в миллионы сажен.
Боже, простишь, ли нам неразумение
Или рассеешь как израильтян?..
Стыки вагонные.
Гужи ременные.
И горизонт неохватен и рдян.
24 сентября 1994
Братан
В дворах, запутанных крапивой,
В железно-кислых гаражах
Живет мой брат светолюбивый,
Что с целым светом на ножах…
Питомец матери поблеклой
Он безотцовщиной крещен.
Как в перевернутом бинокле,
Он смотрит бесконечный сон,
Он смотрит мир прекрасно-дальний.
По вечерам, по вечерам…
Мир сладко-розово-миндальный
Под звездным выхлопом реклам.
В героике заморских весей,
В водовороте зол и злоб
И в отблесках чужих агрессий
Он круто выбривает лоб.
Но не монах из недр Тибета,
Не зэк, не хиппи, не лама
Ему сказали сделать это —
А страсть, а кровь, а жизнь сама.
Дар веры в собственное тело
Ему талантом силы дан!
Он стал солдатом передела,
Он верный кореш и братан.
За наши и за ваши вины
На горьких поприщах страны
Я вижу – в группы и дружины
Встают смурные братаны.
Потоком общим увлекаем,
Склонюсь пред гибельной судьбой.
Нет, я – не Авель, он – не Каин…
Ну, здравствуй, брат.
И – Бог с тобой.
Колея
Где бы не правил лошадью,
Что бы не говорил,
Как бы над Красной Площадью
Голубем не парил,
Где бы не спал с любимою,
С кем бы водку не пил,
Как бы Неопалимую
Я Купину не любил,
Чем бы дитя не тешилось —
Китежем иль ножом,
Сколько б собак не вешалось —
Порознь иль гужом…
Сколько бы не загадывал
Слов над разрыв-травой,
Сколько бы не разглядывал
Небо над головой,
Все колея глубокая
Тащит меня туда,
Где чернотой пологою
След
Залила
Вода.
Лифт
Ртутный глаз электронной мухи
тлеет рябью телеэкрана.
Словно соль из прорехи драной,
по билборду просыпан шрифт.
Жжот реклама. Дымится рана.
Догорает строка Кумрана…
А по сальному следу мухи
ходит, чавкая сталью, лифт.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/vladimir-beryazev-10786521/moya-oykumena-lirika-1979-2009/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
древнее название Афганистана.
2
Полярная звезда, Коновязь (тюрк.).
Владимир Берязев
В 4-й том шеститомного собрания сочинений вошли три сотни лучших лирических стихотворений, написанных автором в период с 1979 по 2009 гг. Многие из них присутствовали в разного рода публикациях на страницах толстых журналов и других периодических изданий России, Казахстана и Беларуси. Кроме того, массив этих стихотворений рассредоточен в 10 поэтических сборниках, выпущенных автором за последние 30 лет его литературной деятельности. Берязев Владимир Алексеевич – поэт, проживает в Новосибирске.
Моя ойкумена
Лирика 1979-2009
Владимир Берязев
Иллюстратор Сергей Дыков
© Владимир Берязев, 2021
© Сергей Дыков, иллюстрации, 2021
ISBN 978-5-4490-3280-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Боязнь забыть слово
А кто бы мог подумать, что…
А кто бы мог…
…И разве мог автор этих заметок двенадцать лет назад, на последнем Всесоюзном совещании молодых, уже в качестве руководителя семинара слушая и читая стихи тогда совсем еще молодого новосибирца В. Берязева, представить, в какие формы и в какой масштаб выльется и взрастет его и в те поры несомненный дар? Вот кто в минувшем десятилетии удивил меня сильнее других своих сибирских сотоварищей по перу, пришедших в литературу вслед моему поколению. (Так разве что читинец Михаил Вишняков, ныне ушедший, радостно поражал меня своим взлетом в начале 80-х). В. Берязев за прошедшее после упомянутого совещания время вырос, вызрел не просто в настоящего поэта – что и само по себе было бы прекрасно, – нет, он стал писателем универсального, крупного лироэпического плана, способным соединять свое осмысление нынешнего часа отечества и мира с историко-философским и гражданственным охватом глубин русской и мировой истории, создавать в творчестве небывало новый «архетип» Евразии – с ее нередко страшной, кровавой, и все-таки прежде всего исполненной трудов и созидания, дивной и волшебной судьбой…
Одна из значимых граней этой лироэпики В. Берязева – роман в стихах «Знамя Чингиса». Образ создателя и предводителя монгольского «движущегося» государства стал подлинным открытием поэта-историка: здесь Тэмуджин не схож ни с одним из своих прежних книжных воплощений. Ни с героем романа В. Яна, ни с героем романа Исая Калашникова «Жестокий век», когда-то потрясшего меня и возмутившего официозных наших историков. Если бы последние имели нынче какое-то влияние, они бы автора «Знамени Чингиса» живьем съели. Такого Чингисхана мы еще не знали – о котором можно сказать словами шекспировского героя: «Он человек был в полном смысле слова». И только потому – велик и мудр даже в немыслимой по «европейским цивилизованным» меркам жестокости своей, – пожалуй, лишь два аналога есть ему (т.е. образу, созданному новосибирским поэтом) в ушедшем тысячелетии: Александр Невский и Сталин… Головокружительное произведение: прочитав его, почти физическую боль почувствовал от того, что оно не стало достоянием всероссийского читателя.
…Из чувства суеверия не стану высказывать в этих заметках свои суждения о другой поэтической «расширяющейся вселенной» моего младшего новосибирского товарища – ибо его новый роман в стихах, героями которого стали наши современники-сибиряки, еще продолжает рождаться под пером автора. Замечу лишь одно: для меня несомненно, что, когда эта вещь будет завершена и увидит свет, читателей поразит необыкновенный сплав чувственно-эротической энергетики с высочайшим духовным взлетом любви, сплав, что стал самим «воздухом» произведения – но этот воздух пропитан духом самой почвы, земли сибирской…
Другое скажу более уверенно.…
В феврале минувшего года вместе с настоятелем псковского храма Св. Князя Александра Невского, что вновь стал воинским храмом, с протоиереем о. Олегом три дня довелось мне пробыть в Чечне, прежде всего – среди земляков-десантников, воинов 76-й Черниговской дивизии, что более известна сегодня как Псковская. Среди окормляемых воинским пастырем и моих слушателей были и десантники 6-й роты. Той самой, что через две недели почти полностью погибла, защищая проход через горный перевал… Ни слова до сих пор я не могу написать о них: перо не слушается, слезы гнева и отчаяния душат горло. Вот уж точно: «Большое видится на расстоянии». Когда уже летом прошлого же года выступал в полку перед товарищами погибших, читал не свои стихи – читал фрагменты из присланной мне автором поэмы В. Берязева «Псковский десант»:
Нам сказали «духи»: «Уходите!
Разойдемся тихо, без огня.
В Турцию, а может, на Гаити
Все уедут через два-три дня.
И еще сказали: «Дело худо,
Вы – одни, а против – легион.
Русский царь – не боров, он иуда
И безбожник. Вас не вспомнит он!»
…В узком горле горного прохода
На пути из выжженной Чечни,
Словно кость, торчала наша рота.
Поперхнулись ротою они.
…Капитан кричит: «Товарищ Трошев!
Весь огонь на нашу высоту!
Добивайте их! Всего хороше…»
Взрыв!.. переходящий в пустоту.
…Невозможно передать словами, как слушали выжившие в чеченской бойне десантники эти стихи! Если б только вы могли видеть их лица! – лики 20—25 летних пареньков, обожженные дыханием смерти… Этим ребятам было все равно, кто автор услышанных ими строк. Они спрашивали меня, как будто я их написал (хотя я четко объявил их авторскую принадлежность), – «Откуда ты это узнал? они ведь и взаправду нам обещали и в Турцию нас переправить, и в Штаты, и на Багамы…»
И впрямь, спрашиваю сам себя, откуда Володя Берязев, живущий в дальней дали и от Чечни, и от Пскова, мог такое почувствовать, мог так сказать о подвиге этих десантников, что сравнение их с воинами легендарного эллина Леонида, спасшими родину под Фермопилами, не выглядит литературным приемом.
Ответ лишь один: на это способен лишь талант, боящийся забыть Слово…
Народ свое слово не забывает.
Другое дело – на его устах оно оказывается лишь тогда, когда ему становится совсем невмоготу.
Санислав Золотцев
Могила великого скифа
Исход
Одним Эней, десятым – Моисей,
А мне корнями не найти могилу:
Сухая глина, пепел да песок,
Да глыбы, что титанов задавили…
А, может быть… и так… и поделом.
Да будет снег на вымершие тундры,
Да будет гром и дождь на те поля
И рощи, что пустынны и безвидны
C каких-то пор…
С каких-то смутных пор.
Могилы нет…
Но с ужасом ромеи
Аттилы погребенье поминают.
Тогда-то реку обратили вспять
Враждой обуреваемые гунны
И русло обнажили, и вождя,
Что был бичом вселенной просвященной,
На дно спустили…
Был ли человек?
А христиан, что рыли погребенье,
Прирезали, как жертвенных овец.
И хлынула волна реки безвестной,
И поглотила страшные дела.
Могилы нет…
Покоится вода.
Под толщей лет пороги Борисфена.
Что – Святослав?! хазарский каганат
Развеявший… Доныне иудеи
Проклятья шлют на голову его.
Но нет ни печенегов, ни хазаров.
А мы… мы пьем из черепа отца
Чужую кровь, похожую на правду,
Давно забывши предков имена.
Могилы нет…
Я помню черный день,
Как хоронили воины Темучина
В глухой степи, бесплодной, как такыр,
За десять переходов от стоянки
Уйгурских пастухов и за двенадцать
От белых юрт и алых кошм Орды.
Над телом, что вернулось в лоно Степи,
Три дня текли стада овец и яков,
Потом пошли верблюды Семиречья,
Потом быки Ирана и Китая,
И, наконец, как грохот камнепада,
Помчались табуны коней любимых,
Коней монгольских, скакунов арабских,
Кавказских кобылиц и знаменитых
Угорских иноходцев.
Было так.
От края и до края той пустыни
Земля стенала топотом и ржаньем,
И криками, и воплями животных,
И лишь спустя неделю после тризны
Сквозь траурную мглу пробилось солнце
И на пометом крытую равнину
Осела тихо шелковая пыль.
Могилы нет…
Ищите в чистом поле,
На дне морском,
Средь звёзд на небосклоне.
Нигде, нигде ни знака, ни приметы.
А, может быть?..
Я с ужасом подумал —
И к лучшему, что не было и нету,
Что внук не знает, где зарыли деда:
Ни камня, ни плиты, ни поминанья,
Кресты погнили, холмики пропали,
А часто вовсе не было крестов.
Ну, жили. И прошли. И растворились.
Покуролесили, побушевали,
Но не хотели мертвого величья,
По ветру прах…
По ветру светлый прах.
И вот еще!
И вот еще, постойте:
Ведь нас не все под этим небом любят,
А коль уйдем, не замочив подошвы,
Рассеемся, как сонные созвездья,
И станем миром вновь,
тогда, быть может,
Уж не придет никто на место праха,
Чтобы гроба проклясть
и поглумиться,
и плюнуть, и покой наш
осквернить.
«Слово о слово. Ладонь о ладонь…»
Слово о слово. Ладонь о ладонь.
Кремень о кремень.
Братья шумят во пиру молодом.
Родина дремлет.
Братья мои! Государи мои!
В чем наша участь?
В том ли, что бьём для других колеи,
Веря и мучась?..
В том ли, что в игры кровавые мы
Яро играем,
Чтобы пройти от сумы и тюрьмы
К русскому раю?
В том ли, что род наш – раздрай и позор?
Мерзости мера?..
Что же ты плачешь над талой лозой,
Враг Агасфера?!
Снег задыхается! Очи во рву,
Как незабудки…
Крест в синеве, и «Варяг» на плаву —
Вечные сутки…
1990
Кентавр
Эй, даурских степей кентавр!
Или – Таврии конный скиф!
Вас несли океаны трав,
Жгли копыт вам лепестки
Солнцелобых ночных костров,
Полпланеты топтали вы —
Так гуляла конская кровь
В скифском вылепе головы,
Так срослись человек и конь
На просторах Дешт-Ы-Кыпчак,
Чтоб небесной тоски огонь
На звериных нести плечах.
О, кентавр, кто тебя родил?
Амазонка ли, что, любя
Конский смех – вороной ли пыл,
Жеребцу отдала себя?!
Чье тавро на твоем бедре?
Не Колхиды ли знак оно?
Знак беды, что кален в костре
За похищенное руно.
Та печать и на мне видна…
Спит княжна и кровав калым,
Канул храм…
Вам не счесть руна,
Рим, Царьград, Иерусалим!
Мы Гераклом побеждены
За безумную к ветру страсть
И за то, что были хмельны
Перед тем, как в могилу пасть.
Мы растоптаны, как помёт
Под копытами битвы той.
Нас герой лишь и помянёт —
Ты кентавром учён, герой!
Помнишь символы той земли,
По которой прошел с мечом?
Вновь олень в золотой дали
Мчит и все ему ни по чём.
Слышишь космоса рык и стон?
За оленем несется барс,
Лапу краха заносит он
И опять в предпоследний раз.
Павлу Васильеву
Брат мой первый и брат мой последний,
Здравствуй, брат!
Белый беркут меж нами посредник,
В жар-закат
Улетающий за нелюдимый
Перевал,
Там печатью неизгладимой
Мир сковал
Дух возвышенный и дерзновенный,
Хан-Алтай.
Где красою неприкосновенной
Длится даль.
На Сумере, где мир безглаголен,
Словно сон,
Ты, сбивавший кресты с колоколен,
Ты спасен.
Ты прощен не за муки бесчестья,
Плен земной,
А за песен свободные вести
Над страной.
Ты не пулей, что в сердце остыла,
Вознесен,
А любовью, чья страдная сила
Гнёт закон.
Здесь крови твоей вольное знамя
Отцвело.
Там души твоей буйное пламя —
Всклень светло.
Брат мой радостный, брат мой могущий,
Брат живой!
Нежный, хищный, раздольнотекущий,
Ножевой…
Грозной Азии сын белокурый,
Хан стиха!
Солнца знак над твоею фигурой —
Свастика!..
Могила великого скифа
…нас – тьмы, и тьмы, и тьмы
А. Блок
Последний русский умер и зарыт.
А кем зарыт и как все это было —
Не вызнать у безродного дебил…
Придите все! Отныне путь открыт.
И вечный горб рассыпал позвонки.
И прочный герб распался на колосья.
От праха отреклись ученики
Под петушиных горл многоголосье.
Идите все и на, и за Урал!
Живой душой уже не залатаем
Простор, что нас воззвавши, нас попрал —
Пусть Дойче-банк братается с Китаем.
Пускай пройдет премудрый Лао Цзы
Степями, где мы жили яко обры.
Поплачь, поплачь над нами, старец добрый,
Ты тих, мы… мы жаждали грозы.
Ты говоришь о праведном пути,
Ты в созерцанье видишь созиданье,
А мы взрывали древо мирозданья:
«И вечный бой», «наш паровоз, лети!»
Но от Берлина и до Колымы
Во тьму вселенской пашни революций
Легли, увы, не зерна – люди…
Мильоны нас, нас тьмы, и тьмы, и тьмы.
Оплачь наш опыт, старый человек.
Не обойти гигантскую могилу!
России нет… Лишь кружит многокрыло,
Как наши души, беспокойный снег.
России нет…
Внезапно и навзрыд
Заплакали химеры Нотр-Дама
И все народы семени Адама:
Последний русский умер и зарыт…
Булавка
Грёз завсегдатаи —
Сроду не чтили Закона,
Мы заклинали судьбу о продлении сна.
Вдруг я очнулся:
Взяла зажигалку икона,
Газ запылал,
она факел к глазам поднесла.
Вспыхнули очи.
Младенца огнем затянуло.
Он только крепче прижался к родимой щеке.
Пламя по алой порфире
на грудь соскользнуло
И запле-
пля-
пле-плясало на белой руке.
Стой, Богоматерь!
Отдай мне мою зажигалку.
Господи-Боже,
ну, кто ж теперь крест понесёт?
Сон обратился
в гнилую чадящую свалку.
Стол содрогнулся
под волнами желчных икот.
Звякнули ложки,
И рюмка скатилась под лавку.
Черную доску
заткали в углу пауки.
Все что нашёл —
на полу золотую булавку
Да белоснежный дымок непорочной руки.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Выстыла печь.
За окном одиноко и мглисто.
На чердаке домовой непохмельно мычит.
Высохла килька,
Испортился «Завтрак туриста»,
Помер Гефест,
Продырявился ядерный щит…
В левом углу
сквозь экран гомункулус плешивый
Что-то бубнит
И пытается цифрой замкнуть
Вечный пожар…
Но мы живы, поганец, мы живы!
И сквозь огонь
Наш последний единственный путь.
Пусть твои дьяки
Навыворот Слово читают,
И говорит о добре механический гроб.
Вот заикнись лишь о совести,
выкормыш стаи,
С бранью бутылкою бросит в тебя протопоп.
Уж Аввакуму
на полке аукнулся Клюев,
С тихим смиреньем
зарей занялась купина.
Игорев лебедь
несёт землю Родины в клюве,
Чтоб в океане ином возродилась она…
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Никнет сирень под росой.
Отсырело полено.
Даже две мухи уснули в стакане на дне.
Только булавка
горит на ладони нетленно
Напоминаньем
о нашей нетленной вине.
Что же мне делать?
Убог я и деда не помню.
Может быть, за море сгинуть,
а дом подпалить?
Может, зарыть золотинку в ограде у комля
Строго тополя?..
Или же проще пропить?
Справа ломбард…
Напрямую живет участковый…
Слева Хазанов – известный в народе дантист.
Что же мне делать
с булавкой твоей лепестковой,
Капелькой неба,
упавшей на вянущий лист?
Благодарить?
и хранить?
и с любовью молиться?
Но для молитвы, как минимум, надо иметь
То, чем душа возгорится
и умилится —
Ту безоглядность,
для коей не ведома смерть.
Мы, одичав,
без прививки уж не плодоносим.
В уши мамлюка
не дозваться родным голосам.
О, Матерь Божья,
обрежь свои девичьи косы,
Мы позабыли пути к золотым небесам.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Тихо в избе.
Баба Поля давно на погосте.
Серою поступью
тронулись в утро кусты.
Тень за оградой
стучит командорскою тростью.
Острый скулеж
издырявил покров темноты.
Пса кличут Фустом,
Он дрожит от соседского стука.
Страшно, кобель?
Так ползи же к хозяйским ногам.
Как мне знакомы
холодные руки испуга,
Лихо глядеться
в пустые глазницы векам.
Страшно, кобель.
Ты сегодня вдвойне одинокий:
Не разделю
я твоих инфернальных скорбей.
Теплится весть
на последнем незримом пороге.
Жизнь закругляет,
священный жучок-скарабей.
Бабушка Поля приходит,
садится на лавку,
Пальцем маячит, сквозит, улыбается мне,
И все глазами, лицом —
про святую булавку,
И все про деда,
чьё фото висит на стене.
Я посажу
ту булавку в горшок на оконце,
Охрой полью,
купоросом и горькой сурьмой,
Может быть, вырастет
синего неба иконка
С той, золотою по краю,
чеканной басмой.
1989
Колпашевский яр
Рухнул берег.
Замутились воды.
Накренилась на яру сосна.
Из могилы вышли на свободу
Преданные богом племена.
Тени ледникового распада,
Крестоносцы классовой борьбы
Потекли из глины,
тлена,
ада…
Немо и далеко вдоль Оби
Плыли трупы…
Прошлое поплыло
Кадрами загробных кинолент.
Милые, да здесь же не могила!
То кошмара гиблый континент!
Тени страха вышли на свободу,
Всплыли, переполнили собой,
Возмутили память. И народу
Тошно в тесноте береговой.
Что там грозно погребенье роет?!
Что стремится хлынуть напрямик?
Волны века вымыли такое,
Что кренится русский материк.
«Мимо вехи Полярной звезды…»
Мимо вехи Полярной звезды
Под покровом октябрьской ночи
Пролетают по небу кресты
И скрипят, и кричат что есть мочи.
Деревянные призраки мчат,
Полусгнившие крылья расправя.
И стоит божий мир непочат
У границы безумья и яви.
Ледяное гнездовье могил
Там – за тьмы роковой параллелью:
Даниил, Михаил, Гавриил
Потянулись к родному поселью.
Тень за тенью: станицы крестов,
Перелетные клинья и стаи
Держат путь на Смоленск и Ростов,
На погосты Твери и Валдая.
Вот и здешние! Только взгляни,
Как кружатся, как просят покою…
С отчим прахом мешаясь, они
Осыпаются рыжей трухою.
Скрипом край и раздет, и разъят,
Кличет лебедем крестная мука:
Не грозят, не клянут, не казнят,
А смиренно взывают к кому-то…
«Товара нет. И деньги отцвели…»
Товара нет. И деньги отцвели.
Нет капитала. Нет рабочей силы.
И Бога нет.
И даже нет России.
Куда ж нам плыть?..
Похоже: в Сомали.
Пойдем в кабак, мой брат-каракалпак,
Зальем кумысом кладбище Арала!
Пока к стенам кремлевского хурала
Идет-бредет Нагорный Карабах.
То чудище огромно и лайя…
– Аятолла! – восплачут сулеймане
И ежики заблудятся в тумане.
И в панике удавится змея
Сионская.
И бедные арабы
От радости и счастья перемрут.
Мы Май помянем, Братство, Мир и Труд,
На небо глянем: господи, пора бы!..
Пора сдавать порожнее стекло.
Сливай надежду! Рай уже не купишь.
Вон вылупился в небе жирный кукиш:
Знаменье, бред, архангел, НЛО…
«В краю ворья течёт Амударья…»
В краю ворья течёт Амударья,
Течет в печальный стан Каракалпака,
Где бедный Ленин на стене барака
Висит, не понимая ничего.
На всю семью наварена кутья.
Господь, спаси!..
Но – кабы не Россия…
Не выбирайте между двух насилий:
И там и здесь достаточно вранья.
Однажды разворована река —
Вода ушла на лживые помои.
Лишь испарений облако немое
Стоит над нами в форме колпака.
Пока, мой друг,
Покоя сердце про…
Про что то бишь я?
Ах, да – про азиатов!
Где стол был яств,
Там нынче мирный атом,
И по песку кораблики плывут…
«Я лозунгом в мозгу поковырял …»
Я лозунгом в мозгу поковырял —
Тупая боль отозвалась в желудке.
«Пора просить взаймы у проститутки» —
Сказал и плюнул,
И ушел в астрал!
Но там застрял.
Меня обволокла,
Темна, как волоокий взор коровы,
Любовная парная тяга слова.
Да жуть, какой полны колокола.
Густая медь высасывает боль
До точки в ослепительном зените.
Я не реален, леди, извините!
Я там, где светит абсолютный ноль…
Или не светит?
Ясно лишь одно:
Увы, не светит – стать Наполеоном.
Ни баобабом, ни хамелеоном…
Самим собой – и то не суждено.
Я нереален.
Кто меня любил,
Те знают эту тягу ускользанья,
Но лишь они создатели сказанья,
В котором я не числился,
А жил…
Очередь
Мы вновь за водкой,
Словно в Мавзолей,
А в Мавзолей,
Как в праздники за водкой…
Не все ль равно —
Здесь с пробкой, там с бородкой?
– Кто крайний?..
И чем очередь длинней,
Тем наша цель прекрасней и родней.
1986
«Где Бакунин и Мор погребли рукомёсла…»
Где Бакунин и Мор погребли рукомёсла,
Племя нищих воскресло во славу стыда.
Беглый вор и монах воротились сюда,
И забор обесточел, под которым замерзла
Без еды и суда роковая мечта.
Вор последний патрон подарил конвоиру
И с народным контролем пошел по рядам,
Крикнул «Гоп!» (а бродяги за ним по пятам),
– Погуляем ужо! – вынул пачку «Памиру»,
Плюнул: – Эх, я ли нынче не штабс-капитан?!..
Вот и спичка зажглась над кровавой геранью.
Вот и ветхие головы пали на стол.
То ли будет, коль старец, унижен и гол,
Просит милостыню
не с молитвой, а с бранью…
И презренье швыряет монеты в подол.
Лишь монах, лишь монах не теряет надежды,
Впопыхах и впотьмах обходя городок.
– Милость близко. Ступайте за красный порог.
Зрящий – видит. Омойте туманные вежды.
И молитесь, молитесь любя.
Да поможет вам Бог.
«Крыша съехала с Дома Советов…»
Крыша съехала с Дома Советов
И на площадь Победы легла…
– Что же делать? – спросили поэтов.
– Надо бегать в чем мать родила…
Обнажились в покорной отваге,
Смастерили в кумирне сортир
И, подъявши партийные стяги,
Ритуальный устроили пир.
Мед по жилам и мухи на яствах!
Жир на пальцах и пляс на костях!
Покаяньем себя опоясав,
Князь поет о славных вестях!
Но метельной фатою столицы
Покрывает змеиный год…
На лету загораются птицы.
И кольчуга под кожей растёт.
«Здесь я родился с горбатой душой троглодита …»
Здесь я родился с горбатой душой троглодита —
В копоти, тьме, в каннибальской пещерной стране.
И золотая, как облачный храм, Атлантида
Только в обломках богов доходила ко мне.
Здравствуй, Венера! ау, допотопная вера, —
Юных страстей зарастающий мемориал…
Давняя эра! Хрустальная певчая сфера!
Недостижимый, ах, боже ты мой, идеал…
Здравствуйте, Музы, зарытые в общей могиле.
Боги живут, пока ищет любви человек…
Звездное небо да тайные знаки на глине —
Все, что тревожит в нас память божественных вех.
Где вы, герои, – гераклы, тезеи, ахиллы?..
Свет Елисейский и крики кровавой звезды…
Вы погубили друг друга, ваши могилы —
Место пиров безъязыкой пещерной орды.
Рожденным в тридцатых
Вы мечены
экватором столетья.
Вы – чтившие
вождя заместо бога —
Сороковыми
скованные дети,
Вы не нашли
достойного итога.
Из-под обломков
пьяную от крови
Не вы ль страну тащили,
надрываясь?
Вы верили – Он знает,
Он откроет…
Но до сих пор,
как видно, открывает.
Отцы блаженны —
умирали веря.
В безверии
вольготны ваши дети.
А вера?
Вы снесли её потерю.
Не это ли
тягчайшее на свете?..
Бездействие, насмешка, отчужденность…
Подсолнух чёрен…
Но болит изнанка
Стороннего цинизма.
Но ведь жжёт вас
Иных надежд незажившая ранка!
Мечта и долг времён и власти выше.
Мечта и долг!
Ведь мысль подслеповата.
Что – человек?
Он был,
а завтра вышел.
И лишь земля
ни в чём не виновата.
«Не упомнить родные черты…»
Не упомнить родные черты
За победами.
Сон о снящемся сне, словно вязкая явь.
Это иго Победы от нас
Заповедно.
Из болотного круга – ни вброд и ни вплавь.
Из квадратного глаза земной
Околесицы
Мерно сыплется пепел задачи благой.
Заступлюсь ли за призрак пустой
И болезненный?
Уловлю ли блуждающий лживый огонь?
Из обиды не выковать рог
Изобилия.
Пусть с очей, как сугробы с полей, сходят сны.
Ведь апостольский голос любви
Не забыли мы.
Ведь не вечен парящий соблазн крутизны.
Вот и ангел, чумаз и картав,
За бараками
Пишет мелом, небо горит со стыда.
Пусть светятся во веки веков
Те каракули.
Пусть он чертит, ага, написал:
Пусть всегда…
«Россия, я весь на ладони!..»
Россия, я весь на ладони!..
Уж воздух прогорк от тоски,
Уж ветер охрип от погони.
Коней своих побереги!
По горло!..
Я глохну от эха
Гремящих слезами времен.
Заплата, проруха, прореха,
Работа, варяжий закон…
Увы, ни коня,
Ни кобылы.
В забвении вещий Олег.
Змеятся кувшинные рыла,
Уже ни преград, ни помех.
Останься!
Мне страшно подумать.
Останься.
Я как на духу.
Таким безобразьем подуло,
Такое висит на слуху!
А я не могу…
Что за притча —
Рыдать над живою землей?
Ты будешь и ныне, и присно!
Так светит во ржи василек.
Так плавает около сердца
Любви златоперый сазан.
Поганая воля, рассейся,
Длань Сына скользит по глазам!
Россия, над степью светает,
До сыта сваты напились!
И дивная птица слетает
В твою двуединую высь.
Нет стрел грозового металла.
Нет стражей небесных путей.
И почва навеки впитала
Весь опыт крамольных смертей.
Какие просторные мысли!
Какие святые дела!
Вновь солнца на коромысле.
Вновь льются колокола.
Заржали за Сулой комони,
И рушится, рушится ад.
И пишет: «Я весь на ладони!»
Кузнецких земель
Азиат.
«Снова созвездья полны мощью влаги…»
Снова созвездья полны мощью влаги,
о коей не знаю.
Снова очи Петровой страны
бесовиденьем искажены.
Снова вспыхнула белым крылом,
поплыла колокольня лесная…
До-о-лгая дрожь…
О зачем, Боже, звоны твоей тишины?
Каплею лишней готов я скользнуть
с твоего коромысла:
Нам ли искать благодати на дорогах
из загса в собес…
Дай лишь молекулой быть,
золотой кислородинкой
смысла
Мне в светоносных твоих голубых
альвеолах небес!
«Я уехал от нашего Бога…»
Я уехал от нашего Бога,
Я покинул родимый барак,
Я не помню, чем пахнет эпоха
И почем оскверняемый прах.
Берег рухнувший мне не помеха.
Крики гордые – мне не указ.
Я уехал от красного смеха
И от злого безмолвия масс.
Отломи мне, чужбина, для пробы
Неба, хлеба и тьмы кабака,
Дай спросить у царевны-Европы
Про горячую спину быка.
Пусть же снова Летейские воды
Тронут русских стихов колесо.
Пусть Улисса из грота природы
Вновь «Ты мой!» позовет Калипсо.
Но спокойной и сытой картиной
Здесь кончается подвиг любой.
Здесь и камень, покрытый патиной,
Дремлет в своде, довольный собой.
Чести Рима ждет каждая веха.
Тело дряхнет. Коснеет язык.
И не рифма, мертвое эхо
Мне звучит: «Умер Пан… Умер Бык…»
Ариана[1 - древнее название Афганистана.]
Ручьями и небом гремело ущелье,
И змеи скользили, и дальние льды
Сияли грядущим…
Друзья, неужели
Здесь песни Ригведы когда-то звенели,
Здесь воды той смой первокупели?
Не здесь ли тибетские ветры напели
Нам разума радость и муку мечты?..
Но
чувства
забыты!
Четвер-
тый день
Солью
на спинах —
Борьба
идей.
Солью
и потом,
И пылью
троп —
Просто работа!
Просто работа!
Просто работа! —
ВОЙНА
МИРОВ.
Топот архара.
Круги орлов.
Сухости ярость.
И клекот слов.
Скалы и камни.
И грань хребта.
Камни!
Не видно ни черта.
Камни!
И как бы
Не шёл вперед,
В камень уткнется
Кровавый рот.
Русло сухое.
И сух арык.
Каменным кажется
Даже крик.
Друг каменеет,
Лопатой стуча.
Ах, до чего
Земля горяча!
Камни! И как бы
Не шёл вперед,
В камень уткнется
Кровавый рот…
Вчера лейтенант подорвался на мине.
Сегодня в заслоне, истратив запас,
Серега побрел по тюльпанной долине
С последней гранатой…
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
В какой-то час,
В мгновенье какое-то
Не забудьте,
Как закружили тюльпаны синь!
Как улыбался
Аллаху и Будде
В небо
взлетающий
с-ы-ы-ыын!
Руси…
«А сын сказал: «Желаю, батя…»
А сын сказал: «Желаю, батя,
Повоевать в Джелалабаде!»
Он был и молод и горяч,
Он ухватил свой верный молот,
Чтоб молнией живой расколот
Был сарацинов клич и плач.
Но что ж молчание хранишь
Ты, знавший Шипку и Париж?..
В последний раз ты видел сына…
Охрипло горло муэдзина.
Над Гиндукушем встал набат,
И запылал Джелалабад.
О чем лепечет перепелка?
О чем напомнила карболка?
О чем ты стонешь, исполин,
Харбин знававший и Берлин?
О том, что рушатся ущелья,
О том, что нет тебе прощенья,
Хоть ты ни в чем не виноват…
(Когда б не этот «хазават»…)
О том, что ночью на Саланге
По-русски молятся «салаги».
Струятся души их, как пар,
Под смертный вопль – «аллах акбар!»
Спасать силком – пустое дело.
О доброте душа радела,
Но ты не в те пришел края
Класть жизнь «за други за своя».
Здесь на последний оклик: «Брат!»
Огнем дохнет Джелалабад.
Довольно, друг…
Довольно, друг, проклятий и хулы,
Довольно преждевременных прощаний.
Я не прошу ни мира, ни пощады,
Я правды не хочу из-под полы.
Из-под полы, с оглядкой, на ушко,
В кармане кукиш, холодок под сердцем:
– Слыхать, опять не спится иноверцам!
Ан, золотым крикливым петушком
Кудахчет с телевышки комментатор.
– Что комментатор! Поголовно врут.
В Америке, слышь, отыскался Брут,
А победил – так сволочь и диктатор.
– Нет, нет святых, наглеет сатанизм.
И Брут нет, есть транснациональный
Картавый спрут – он силой инфернальной
Сосет народы…
– Этак пароксизм
Последний грянет.
– Непременно грянет!
Пошлятина и серость так и прут,
Ползут и душат – тоже добрый спрут.
– Да, доигрались. Мол, стираем грани,
А стерли зубы…
Милые мои!
Радетели России и семьи,
Родители намеков и шептаний,
Политик, экономик знатоки
Провидцы руку моющей руки,
Пророки всех брожений и шатаний,
Вам горла поперёк! – любой успех,
Вам невдомёк, что, может, больше всех
Вам! вам он нужен – лжи фальшивый колос.
Вы все рабы бесплодной молотьбы…
Неотделимо слово от судьбы.
Без голоса – не гаркнуть во весь голос.
Почти греческая эпитафия
Петру Степанову
Я погиб возле Трои.
Мы там с корешами троили.
Меня звали Патроклом.
А мать называла Петром.
Возле стен коммунизма
друзья меня в яму зарыли.
Возликуй, Капитал!
Пошевеливай вёсла, Харон!
«– Какая же вера у вас, мужики?..»
– Какая же вера у вас, мужики?
– Нема ей! Своёму своя.
– А доля какая у вас, мужики?
– Работа, забота, семья.
– А где ж ваша воля?
Вольны ль, мужики?
– Вольны. Но не знаем про то.
– А слава-то, слава
есть, мужики?
– В вине она,
в ём – золотом.
– Не пьян, не с похмелья,
Но жажда палит.
Уймите же душу, друзья!
– Все выпито, парень.
А кроме того —
иная жажда твоя.
Рядовой
Я умер возле вечного огня…
Под стук ночной капели, в карауле.
Шел снег. Собаки лаяли в ауле.
С плаката вождь косился на меня.
Почетный пост. Или великий пост?..
Зима кончалась. Лишь один Корчагин
Сознанье леденящими очами
Смотрел на слёзы ангелов и звёзд.
А пламя трепетало на ветру,
Плясало в самом центре пентаграммы…
От лозунга-плаката из Программы
Мне тупо – стало муторно к утру.
Корявый огнь лизал мне сапоги.
«Калашников» мой сглатывал обойму.
Тьма не имела смысла. Было больно.
Упало сердце, и пошли круги-круги-круги…
Ночь без молитвы – каинова ночь.
Прерывен пульс на судорожном вдохе!
И чем короче очередь в итоге,
Тем пулевидней смысл многоточь…
и я
ушел
путем
метампсихоза…
Огонь погас.
А остальное – проза.
«В белый полдень на синем кладбище…»
В белый полдень на синем кладбище
Он глядел в молодое лицо…
На овальную гладь фотоснимка,
На эмаль, что уже пожелтела,
На зернистый гранит пирамидки
И опять в молодое лицо.
Да… лицо… Вот и дата. И имя.
Имя… Чье?.. Имя было… Зачем…
Тень-лицо улыбалось открыто,
Так открыто, что чудиться стали
В нем какие-то искры движенья.
Блики снежного дня?.. Торжество,
Торжество было в этой улыбке!
Почему торжество?
Он запнулся,
Он смутился под взглядом прошедшим,
Так что паникой спертое сердце
Заметалось по камере тела.
И, не выдержав, он отвернулся.
…Креп морозец. Сорока присела
На рябину в соседней оградке
И просыпала снег на тропинку,
И пронзительно так закричала
В ледовитой пустыне кладбища,
Что шарахнулось эхо в кусты.
Он пошел торопливо и мутно
По тропе мимо старых и новых,
Мимо братства солдатского тлена,
Мимо пленных останков германцев,
Мимо наших, задушенных шахтой
Иль раздавленных, или убитых
Пылью, водкой, трудом, пустотой…
Он стремился, не видя дороги,
Побежденный, зажатый испугом,
Знак иной, непонятной свободы
Не приняв, как мессию еврей.
И сорока его провожала,
Стрекоча, и кресты обступали,
И светилось таинственно Имя,
И лицо улыбалось вослед…
Тоска по призраку
Все больше нас – надменных и сухих,
Свободных и безапелляционных,
Размерявших на блюдцах порционных
Любовь и смысл,
Страдание и стих.
Все в пользу, все рассчитано, все в срок:
Когда войти, о чем распространяться.
Диета – символ веры сыроядца.
Разумность – долголетия залог.
Но не бессмертья…
Боже упаси,
От сытости и самосозерцанья.
…Рябит в глазах от звездного мерцанья.
И оглашая космос бубенцами,
Из топота и храпа вырастая,
Косматый призрак мчится по Руси.
Ненастный пляж
Я шагаю за белой стаей
По песку ползущих газет.
Глин гусиный летит в Потайю,
Вслед за чувством грядущих бед.
Надрываются волны шумом,
И валы в нахрапе идут.
В небе реющем и угрюмом
Чайки тоже кричат беду.
Ветер рвет края покрывала,
Кем-то брошенного в песке…
Света мало и горя мало —
Дайте горя моей тоске!..
По причала скрипучим плахам
Выйду в море, где свист и гром.
Пусть идет все, что было, прахом!
Все, что будет, – горит огнем!..
1982
Метаморфоза во время
крымской грозы
Я смотрел, как над зданьем клубилась гроза,
Прозревая всем сердцем, как душно, в упор
Сила дыбится – вот она!
Больно глазам…
Но неведомо мощно
и наперекор:
Ниоткуда,
Из мирно дремавшей души,
В дерзком, злом ликованье смертельной борьбы,
Словно в тесном сосуде очнувшийся джинн,
Вдруг восстала гордыня моя на дыбы.
Для чего это, боже?
И будет ли толк?
Но не волен! – свиваем в тугие жгуты
Я влекусь…
Где-то рядом запел водосток,
Где-то вынесло раму…
Огня и воды
Дайте досыта!
Вот уже в водоворот
Превращаюсь…
Все выше круженье смерча.
Подо мной —
Отупевший от страха курорт.
Надо мной —
Мрак небесный рассечен сплеча.
Кто ослеп от лихого зигзага судьбы?
Кто не выдержал молнии белую спесь?
Там внизу по углам – болтуны и рабы.
Не ищите их здесь.
Не ищите их здесь.
Проклятие
…И будет день безоблачен и светел,
Но упадет
проклятие в траву,
Замечется, залихорадит ветер
И растерзает лапами листву.
Огромный горб
затмит сиянье буден,
Займет полнеба
тушей жировой.
Придёт гроза,
Прокатит черный бубен
И хлынет наземь влагой горловой.
Здесь молниям ветвисто низвергаться
С тяжелым хряском сломленных дерев.
Здесь в низком беге тучам содрогаться,
Влача сплетенья
вывернутых чрев.
В ожесточенье брошенное слово
Подымет тьмы-стихии на дыбы
И вызовет из бездны духа злого,
И все смешает в заверти борьбы.
И, гибкий конус
выпустив из тучи,
Тяжелым смерчем по небу кружа,
Заплачет
Утолённо и тягуче
Проклятие
исторгшая
душа.
1981
Преодоление
…И тошно по миру влачиться,
И невозможно напролом,
И страсть загнали, как волчицу
Под непролазный бурелом.
Как это было?..
Я остался,
Гордыней горе разрубя,
На бесконечности дистанций
И без тебя,
И без себя…
Автобус уносился в осень.
И солнце – молньей шаровой —
Скользило по верхушкам сосен
Под свист судьбы
над головой.
1981
«На песке…»
На песке
у самого моря
Строил дом архитектор Боря.
В три обхвата,
Крутой детина,
Самоучка,
Оригинал,
Гнул он творческую дубину
И порядком
перегибал.
Разворотит скалу на блоки,
Дом построит в один присест,
Глянет, плюнет,
шмяк! – и обломки…
После – спать
под сырой брезент.
А назавтра,
Глухим запоем,
Дом помянет,
И наяву —
Рим, Акрополь и Персеполис
Через бред его поплывут:
Храмы, фрески, пилястры, фризы,
Барельефы, фронтона скат,
Алебастровый блеск карнизов,
Строй колонн над грудами скал,
И ваятели,
И ваянья,
И богини,
И мудрецы,
И в отсутствии богобоязни —
Звуки лир да слепцы-певцы…
Но – похмелье.
И проклят Бахус.
А прояснится голова:
Выйдет к морю,
Рванет рубаху
И орёт
таковы слова:
– Смыслу нету!..
Ий-эх, роди ты,
Окаянная хлябь – окиян,
Хоть каку ни на есть
Афродиту,
Чтобы я с нутра
просиял!..
1981
Молитва Робинзона
Господи, друг мой единственный,
Островитянину дай,
Нет, не покоя, не истины,
Дай зацепиться за край…
Пусть и неверный, и призрачный,
Дай зацепиться за край
Только надежды… А иначе
Прямо сейчас забирай.
Из одиночества вызволи,
Смой мою утлую суть!
Ради чего, справедливо ли
Кару такую несу?
Все эти тропики райские,
Вся эта жизнь через край:
С грозами, зорями, красками,
Граем играющих стай,
Все это острова таинство
В гулкой пустыне морей!..
Господи, ужели станется
Так одному умереть?..
Пусть и неверный, и призрачный,
Дай зацепиться за край
Только надежды… А иначе
Прямо сейчас забирай.
1983
«Как наплывы горящей ангины…»
Как наплывы горящей ангины,
Как бредово тяжелые фразы —
Увядающие георгины
Над кристаллом синеющей вазы.
Бренным летом душ опалима.
Розой пепла цветет папироска.
И от горечи неотделима
Эта сникшая зыбкая роскошь.
Утопает в слезах отраженье…
Смята лет полинявшая мякоть…
И в груди пустота отрешенья,
И на пальцах – цветочная слякоть.
«В березовом храме Отчизны…»
В березовом храме Отчизны,
Пред образом чистых небес,
Любимая, мы беззащитны,
Беспамятны чудно и без…
рассудны…
Все верно, родная!..
Одна лишь надежда на то,
Что жизни арба заводная
Развалится до холодов.
Все тщетно: мы не отшутились,
Не спрятали, не погребли…
Ты помнишь ли, как очутились
В последнем Эдеме Земли?
Бесстрашьем возвышено счастье!
А то сладострастье молвы —
Всего лишь молвы сладострастье
Пред горним огнём синевы.
Нам кары досрочно отсчитаны
За каплю счастливой вины.
Я знаю, что мы беззащитны!
Как взгляда распах – беззащитны.
Как правды лицо – беззащитны.
Мой ангел не прочит кончину
Но шепчет, что мы
Спасены.
«Ты слушала, как платье примеряла…»
Ты слушала, как платье примеряла,
Ты слушала признание, да-да,
Признание, какая красота,
И как изящно, как тебе пристало…
Но шовчик, шов кривой, ах, ерунда!
А рюшки, здесь вот, очень уж безвкусны.
Покрой хорош, но как-то… как-то грустно.
Да, грустно. Видно, скоро холода.
Ты так мила, так явно молода.
Тебя не стоят лучшие наряды:
Вода ручья – одежда для наяды,
Но вот беда: и вправду – холода…
Два стихотворения
1. Игра с огнем
Лукавая пленительная ночь.
В прищуре глаз – бесовские соблазны.
Мы жажду тела в силах превозмочь,
Но не играть с огнём уже не властны.
Игра с огнём – не озорство, не блажь.
Над бездной
Всеми гранями играет
Твой дерзкий дух. И вот – впадаешь в раж!
И вот скользишь по самому по краю…
Не раскрывайте дольше парашют.
Целуйте змей! Ходите по канату!
Берите самый гибельный маршрут —
Пешком на полюс
иль пешком по аду!
Бессмертье – ложь.
Гниенье – та же ложь.
Судьба мужская на щите червлёном!
И пусть поёт и пляшет молодёжь
В том городе – пустом и зачумлённом.
…Игра с огнём! Не в ней ли бытия
Веками ускользавший смысл неверный?
Как к мачте Одиссей – к скелету нервным
Узлом
Душа
Прикручена твоя!
1982
2. Жестокий романс
Кошачий выгиб смел и грациозен.
И блеск смолы сквозь сомкнутость ресниц.
Как смысл твой неприступен и тернист!
Как профиль твой надменен и нервозен.
Какая осень в очертанье плеч,
Какая плавность… Но, увы, в контрасте
Сокрыта суть. Тебе не уберечь
За ленью взгляда – напряженье страсти.
Стеснение тяжелого огня
Разъест однажды эту величавость,
И под тобой затлеет простыня,
И зарево зардеет за плечами.
Так отвернись, разыгрывая грусть…
Ты пропадёшь, а я уж не вернусь.
1982
«Нет, я Вас не люблю ни сегодня, ни завтра…»
Нет, я Вас не люблю ни сегодня, ни завтра.
Но зачем же Вы снова глядите в меня?
И зачем этот голос, что волны азарта
Поднимает в душе моей день ото дня?
Это солнечный зайчик шалит безнаказан.
Не пытайте судьбу…
Повинуясь родству,
Приближается шторм,
он моралью не связан,
Он сгибает стволы,
он срывает листву.
Дошкольный роман
Гроза детсада,
бич микрорайона
Малыш Илья
Влюбился тяжело.
Забыта власть,
Заброшена корона,
И думой отуманено чело.
Принцесса неприступна и прекрасна.
Илья красой сражен и осиян.
Увы, но объяснение напрасно,
В ответ одно – «нахал и грубиян».
О, дух мятежный,
Ты рождаешь подвиг!
Перевернув все барахло семьи,
Илья взял шпагу,
полбутылки отпил
Кефиру,
Алый плащ на плечи… и,
Презрев детсад, ушел в тореадоры,
А ей сказал:
– Все кончено, прости!
Прошла любовь.
Завяли помидоры,
Сандалии жмут,
и нам не по пути.
Плавание
1
Корабельщик лихой
Развеселые лодьи
Мастерил, выпускал
На моря Беловодья.
Нос-корму загибал
Над открытостью палуб,
Чтоб от вала лодья
На волне танцевала б.
2
В Поднебесной стране
Берег облака близок.
В птицекрылой волне
Изогнулись карнизы.
И парит не спеша
Возле облака фанза,
И вступает душа
В поднебесную фазу.
3
…И – ни лодий, ни крыш.
Сон неясный и зыбкий.
Но припомни, услышь,
Ощущенье улыбки…
Облака, облака
Или волны напева?
И чему-то слегка
Улыбается Ева?
4
Знаю, доля твоя
И чиста, и бездонна;
Что подъемлет края
Губ заветных, мадонна?
И, пометив чело,
Чуть надменный как будто,
Так же тайно-светло
Улыбается Будда?
5
Будет! будет рядить
О значении тайны.
Мы-то знаем: что так
В них светает-витает,
Что хранит корабли,
Что дома согревает…
Мы-то знаем с тобой,
Как все это бывает.
«Не трожь меня, любимая жена…»
Не трожь меня, любимая жена,
Не трожь меня, посланец воли вышней.
Нет, я не пьян. И мне не будет лишне.
Допью. И даже выловлю все вишни
Со дна…
И что мне бог, что – сатана?..
Никем из них душа не спасена…
Я все равно уеду, дорогая.
Нет, не герой…
не спятил…
не другая…
И не твоя – ничейная вина.
Все просто.
И, как водится, одна
Причина…
Ну, зачем ты? Надоело!
Тоска жива.
Вот в этом все и дело —
Она сильнее страсти и вина.
Я знаю – на краю Большой земли,
На берегу арктического моря
Гудит скала,
И северные зори
Над ней колышет сумрачный залив.
По галечнику хрусткому дойду
И, обдирая рыжую штормовку,
Взберусь наверх,
на краешек,
на бровку
И помолчу у моря на виду.
Один лишь миг —
Полярная скала,
Да чаек гвалт
у глаз и под ногами.
Лишь ощутить,
как холоден тот камень,
И как земля огромна и светла.
«Разве?..»
Разве?
Разве бьют часы?
Это гвозди.
Гвозди всасывает древесина.
Здравствуй.
Ты, знать, будешь
Звезда Немезида.
Молоток или молот
Вбивает те гвозди?
Сизиф или Молох?
Труд не жертва,
А жертвы – не труд…
Что за солнечный город,
Что за странные зданья меня ожидают?
Пирамиды и стелы.
Что за мрачная вышивка черным по белому?
И знаки.
И звезды, как стрелы.
Застарелая родина —
Робкая,
Как снежинка на ощупь.
В нашем веке
Еще дровами топили печи.
В нашем веке
Еще говорили «очи».
В нашем веке,
Наверное, все было проще.
А в прочем?..
Говорите мне «ты»,
Любимые
И нелюбимые люди.
Перелетные руки
Уже улетели к ненастной планете.
Перелетные очи,
Наверное, жажду свою утоляют.
А я —
Удаляюсь.
Я – ветер…
Я утихающий ветер.
Эх,
Как моя мама сказала б:
«Гроза да к ночи».
И вы мне тоже не верьте.
Я сочинитель.
Страшно любил бесплатно проехать,
И вот – изловили
ЭТИ.
И теперь я
Ни знаменатель и ни числитель,
А просто ветер.
А вы меня сдуру снова на «вы»:
«Володя, вы ли?»
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Слышите, плахи поют
И гвозди сладостно стонут?
Вы говорите «не стоило»?
Думаю,
Стоило…
«Я пришел непрошено незвано…»
Я пришел непрошено незвано
В мир, где травы держат навесу
Сизых рос белёсые поляны.
И лишь солнце трогает росу.
Цедит утро млечный ток тумана,
Тёкот дятла слышится в лесу.
Как войду и что с собой внесу
В тишину, что стынет изваянно?..
Тень тропы… Но поперек пути мне
Капель зернь висит на паутине —
Знать, туман запутался в сети.
Где найти дороги серединной?
Наклонюсь, пройду под паутиной:
Пустяки, но лучше обойти.
1985
Голос древнего поля
Есть ли какое подобье тебе,
предрассветное степи дыханье?
Эта начальная тёмная дрожь, эта остуда в груди…
Вот уже тронуло ветром поля,
колыхнулись овсы и пшеницы,
Облако зреет на гребне зари,
слышится ржанье коня.
Вот уже вновь возникает во мне
в нескончаемом рокоте славы
Давняя-давняя песнь, древняя-древняя жизнь.
Снова мне чудится дивная весть
в набегающем гуле пространства.
Что так далёко поёт? Что так высоко звенит?
1985
«А река не полней полыньи…»
А река не полней полыньи.
А погибель не более боли.
Колесо не длинней колеи.
Боже мой, то, что жизнью зовём, —
Точно так же дороже любови…
Комья глины. Лопата и лом…
А река уже с морем сомкнулась.
Уж измерен весь путь колесом.
Боже мой, то, что жизнью зовем, —
Чем же, милая, обернулось?..
«В пустыне в закатном покое…»
В пустыне в закатном покое
Я слышал – камни поют.
В безмернейшей из колоколен
И ныне, вспомню, стою.
И звёзды по куполу зреют.
И кремни, блестя как стекло,
Искрят меж собою, теряют,
Что за день с небес натекло.
И шорох разрядов, и гравий
Чуть вздрагивает на миг.
И кажется – вот заиграет
Мне благовест меркнущий мир.
Пространство могуче и голо.
Огулом рождается звук.
Ты в космосе пробуешь голос.
Ты музыкой рвёшься из рук.
Та песня безводных угодий,
Те шорохи звёзд и камней…
И страх, словно льдина, уходит
И влагою тает во мне?..
«Одиночество, одиночество…»
Одиночество, одиночество…
Ничего не ждёт, не пророчится.
Ничего не ждёт
На обочине.
Лишь весной душа
Заморочена.
В мёртвом городе
Тихо бродится,
Словно люди здесь
И не водятся —
Люди сгинули
В скорлупе квартир,
В мёртвом городе
Только я один.
Утро брезжится.
Лето близится.
Мне об щеку май
Ветром лижется…
1979
«Что же сталось, друг мой одинокой?..»
Что же сталось, друг мой одинокой?
Что же скажем, не кривя душой?
День над Иртышём и Ориноко
Стал нам одинаково чужой.
Слышишь, милый, пусто человеку.
Или он уже не человек?
Начертили мелом соловейку,
Но какой без песни соловей…
Вскрикнула душа и улетела.
Не слышна пичуга за леском…
Говорят, что боги (было дело)
Здесь гуляли в облике людском.
Боги удалились на Олимпы,
Лишь один остался горевать.
Он отбросил молнии и нимбы,
Сердцем стал вражде повелевать.
Видно, дело вовсе не в подобье —
В жертве!..
Боже, сколько нас – калек!..
Я бы помолился о Потопе,
Да боюсь – не выплывет Ковчег.
«Я у Бога не много просил …»
Я у Бога не много просил —
Лишь таланта:
– Дай поднять! – сколь достанет сил,
Столь и ладно…
И упало на плечи мне
Бремя света.
И услышал – гудит в огне
Голос ветра:
– Ты свободен отныне. Но —
Доли счастья
Уж не даст тебе ни вино,
Ни причастье.
Пусть наверх до небесных вех —
Путь утраты:
От восторгов, борьбы, утех
До расплаты.
Не меня ли потом кляня,
Полный силы,
Будешь зрить средь ночи и дня
Край могилы?
Недоступно тоске грудной
Взмыть за тучи.
Непосилен – любви земной
Сон горючий.
И раздавит тебя гора
Слез и свет…
Расступись же, Земля-Сыра,
Мать-Планета!
«Выбор пал…»
Выбор пал.
И не игрушка, не жертва
И не лет мотылька на огонь.
Лишь привиделось – мчит скаженно
Белый Конь,
Белый Конь,
Белый Конь.
Подлетел,
И – копытом оземь.
И подумалось второпях:
– Для чего? Разнесёт и сбросит…
Только некому, кроме тебя.
Может, плакал о доле иной он?
И уже невесом-невесом
Прокричал:
– Ни в чем не виновен!..
Но навстречу:
– Виновен во всем…
Вспоминая о русских поэтах
Не взорвать болтовней да с налету,
Дело прочно —
Круши не круши…
Надо жизнью платить за свободу
Мысли, слова,
в итоге – души.
…Вот теперь она – вольная птица,
А не вол, что бредёт колеёй…
Все простится,
И все разрешится,
Все останется только её…
Маковский. Биография
Он был последним дворянином,
Вернее просто сиротой,
И декабристская равнина
Его прияла на постой.
В военном сумраке детдома
Просыпал золото кларнет.
И вот в оркестре Сибревкома
Он кларнетист, а не корнет.
Не снятся пяльцы. Мерзнут пальцы.
Но выдувается мотив
Того вселенского скитальца,
Что гибнет, беса укротив.
Маковский будет музыкантом,
Эстетом культпросветных лет,
А после младшим лейтенантом
И укротителем ракет.
А грянет сокращенье армий,
Поступит в университет
Еще не знающий о карме
То ль математик, то ль поэт.
Увы, не то – ни то, ни это:
Ни диссертаций и ни книг.
Он – бич. Он орфик туалета,
Хоть Канта с Гегелем постиг.
Навеки нищая свобода!
Нет меценатов, Обь – не Тибр.
Звучи ж, сибирского рапсода
Апполинеровский верлибр!
Последний дворянин Маковский,
Той революции послед,
Ни по-французски, ни по-польски
Не знал. Хотя ценил балет,
Хотя любил после попойки
Шарденом и Ватто блеснуть,
Иль на краю больничной койки
Ружевича перелистнуть.
Иль жестом шляхты Посполитой
Он запрокидывал кадык
(Уже седой, три дня не бритый)
И пил, как музыку, язык.
Но он устал тащить свободу
На старческом уже горбу:
Поэзия глядела в воду,
Вода перетекла в судьбу.
И, вспомнив Лермонтова свойски,
Как в прошлый век, как в прошлый раз,
Махнул рукой… Собрал авоськи
И тихо сгинул на Кавказ.
В Коломенском
…Я знаю – истина в вине.
А. Блок
Какие сумрачные краски.
Какая ширь и тишина.
Внизу Москва едва видна
За дымкой.
Здесь же – домик царский,
Дубы, церковки и простор…
Простор —
Его мне не хватало
В теснящем сумраке квартала,
Что так похож на коридор,
Который кончится стеною…
Туман ложится на ладонь.
Недалеко до холодов,
И зябко чувствовать спиною
Дыханье чье-то.
Не понять —
То время, осень или ветер…
А может, совесть ждет ответа?..
Приспели сроки заполнять
Пустоты юного задора,
Но вот, увы,
Не знаю чем.
Виной – что грузом на плече?
Иль ощущением простора?
Но толку,
Что в моей вине
Дух истины?
Ведь горе – наше.
И слаб я, истину познавший…
…Церковный колокол во мне
Звенит светло и похоронно.
Обрыв высок.
Судьба крута.
Традиционная ворона
Кричит
на краешке
креста…
Сон
Процежен тишиной, рассеян и высок
Дымок рассвета. Вздох…
Как будто и не снилось,
Как тягостно и зло нагрузлой тьмы кусок
Давил, и все росло и в воздухе носилось
То чувство, где близки и тьма и высота.
Ты грезил – ну, вот-вот, и то, что не бывало,
Свершится. И не сон, не бред, маета
Металась в темноте, на части разрывала.
Как женщине, в ночи почуявшей исход,
Когда живот, ожив, уж не удержит плода,
Тебе хотелось жить и вырваться из-под,
За грань удушья тьмы и временного хода.
В кромешности слепой до тошноты душе
Желалось претворить себя – превоплотиться!
До капли просветлеть, открыться. И уже
Миг близился и жег. И заново родиться,
Быть может, предстояло. Скоро! Только где?
И кем? И почему? – ты не имел понятья.
Роились тени сна в предутренней звезде…
И вот, освободясь как будто от проклятья,
Ты ощутил себя, бредущим и немым,
В полях, среди ветров проселочной дороги,
В ладонях той родной, прогорклой синевы.
И – пусто за спиной. И – ничего в итоге.
Дорога на подъем. Суглинок. Скользота.
По щиколотку грязь. И словно больше нету
Кого-то… Вовсе нет! И жёлтого листа
На веках у земли тяжелые монеты…
Ты плавился, ты плыл – как горная руда,
Когда металл течет из тающего камня…
Любовью всей и не!.. любовью ты рыдал!
Достигнув всех вершин, закончив все исканья…
Миф о пророке. Вариации
I
Поплачем о несбыточном, поплачем,
Вина испивши с пеплом пополам.
Свой причет старой притчей обозначим.
Воспомним храм, перебирая хлам.
Поплачем о несбыточном… Давно ли
Пророк речь шатала голытьбу?
И варвар из нагорной Анатолии
К ногам пророка рвался сквозь толпу.
Он жаждал исцеления.
Угрюмо
Вдыхал пары проказы и дерьма.
И лез – как раб из запертого трюма —
По головам без веры и ума,
По язвам спин, не знавших ветра воли,
По лицам – и убогим, и тупым,
Он лез по шевеленью зла и боли,
Сшибал калек, плевал в глаза слепым.
Но был наказан…
Схлынул проказа,
Однако знака вещего лишен,
И сник, и смят был – более ни разу
Он к страждущей толпе не подошел.
Не так ли волчью грудь сминает стадо? —
Так голос горний свой запрет изрек:
– Не для тебя спасенье и награда,
Жестокосердый гордый человек…
Нам не достичь любви ценой насилья.
Нам не избегнуть краха, множа кровь.
Чернеют даже ангельские крылья,
Коль ими помавает не любовь.
II
А как же те, что днесь у ног пророка
Внимают очистительным речам?
Увы, Увы!.. Ни совести, ни бога,
Тем паче – состраданья к палачам.
И даже крохи смысл тех речений
Апостолы не в силах восприять.
Первейшее из их предназначений —
Сознаньем приближенности сиять.
Забыли светоч жертвенного пыла,
И призваны, и живы для чего.
И с ними дева блудная забыла
Раскаянья святое торжество.
Они давно и прочно приобщились,
И в сонме слуг – горды и велики.
Хлеба делить искусно научились
И изгонять бесовские полки.
А если кто прорвётся сквозь завалы
Смердящих тел, во злобе и крови,
Бог милосерд – зачислят в подпевалы:
Живи, живи – уже не до любви.
III
Поплачем о несбыточном… И – амен!
Сладка кутья. Томительна звезда.
И на распутье каркающий камень.
Гласит – и так, и эдак пустота.
И немо бродит бывший прокажённый,
Ловя в прошедшем ясные слова.
И пьют мужья. И увядают жены.
Ни счастья, ни покоя… И права
Текучая наука Гераклита:
«Сухое – влажно, хладное – тепло».
И зеркало весеннее разбито,
И на ладони талое стекло.
Не так ли я, взыскующий о чуде,
По головам шагал, по головам.
На свет, на голос шел, еще бы чуть и…
Но дар исчез. Но жребий миновал.
Лишь солнечный осколок на ладони.
Сожму кулак до алого тепла…
Поплачем… пока талою водою
Вся жизнь, вся жизнь
меж пальцев потекла.
«А за озером горы прозрачные…»
А за озером горы прозрачные,
Прямо в небе те горы витают.
Складки скальные, снежники вечные,
Мхи и камни, и пропасти мрачные,
Облака, словно призраки встречные,
На тропе сокровенной к Китаю.
Я пройду по тропе той заброшенной
На пустынное плато Тибета
К старой хижине Вэя-отшельника,
Азиатской пургой запорошенный,
Добреду накануне сочельника,
Иль к исходу буддийского лета…
Обернется старик, опечалится,
Со спины, словно небо, покатой
Сбросит хвороста связку гремучую,
Не спрося – как же так получается,
Кто таков, что за бедами мучаюсь —
Долго взглянет на пламя заката…
Даст полыни метелку продрогшую,
Даст синицу… Еще даст китаец
Риса горсть, ломтик сыра пастушьего,
Повернет меня в сторону прошлую,
И по свитку пространства застуженного
Я прочту: «Возвращайся, скиталец».
«А по дну Иссык-Куля блики…»
А по дну Иссык-Куля блики,
Блики солнца
Словно ангелов перекличка,
Солнца блики.
Словно спящих младенцев улыбки,
Блики солнца.
Дро-дрожат на губах у моря
Капли меда!
Звень-зерном в душе раскатилась
Нежность жизни!
«Выходи же, тяншаньская ель…»
Выходи же, тяншаньская ель,
К очагу в половине шестого
На щербатый хребет Кюнгей-Тоо
Тень монашья, тяншаньскя ель.
Крылья траура, вздохи потерь
Ты волочишь по мшистому камню,
Как мой предок – месть Шароканью.
Крылья траура, вздохи потерь…
Близость неба и дикая грусть.
Это время шумит, не хвоя.
Пройден путь и оплачен с лихвою.
Пики мрака и дикая грусть…
Изострилась заветная скорбь.
Звезды чутко скользят по вершинам.
Страшно здесь онемевшим машинам:
Горы, ели и горняя скорбь…
«Будет поле, тропа и рожь…»
И снилось мне тогда, что, отрешась от тела
И тяжести земной, душа моя летела
С полусознанием иного бытия…
В. Бенедиктов
Будет поле, тропа и рожь
С упованьем вечного лета,
Будет берег этого света,
Тяга почвы и жатвы нож…
Свет – не прах! Соломон не прав:
Пусть погрузят жизнь на телегу —
Даже пылью своих молекул
Я запомню творенья нрав!
Верь поэту – бессмертна душа.
Он заглядывал за неизбежность,
Он угадывал тайную смежность
Почвы с небом.
Страшась, кружа
За границей родного тела,
Над воронкой тлена времен,
Он за память любимых имен
Зацепился осиротело
И вернулся…
Упало зерно,
Миновав равнодушный жернов,
Возле сфер поющего жерла
И взошло, и тепла полно…
Я свободен.
И я любил.
Я глядел в глаза коридора,
Жизнь и смерть идут сквозь который,
По которому в громе хора
Светлый предок мой уходил.
«Когда нет сил ни жить, ни умирать…»
Когда нет сил ни жить, ни умирать,
Когда тебя неведомой воронкой,
Невидимой сосущею дырою
Зовет и тянет Черная дыра,
И шахтой открывается в груди
Бездонный мир,
Вращающий во мраке
Нагую душу,
В ропоте и страхе
Ступившую на тайные пути:
Нет времени,
Ни лиц,
Ни просто тел,
И ты, пока лишь медленно,
По краю
Скользишь,
Полубезумно замирая,
Предчувствуя, что вовсе не предел
И свет бег мгновенный,
И вселенной
Межзвездные просторы,
И когда
Уже готов ты кануть в никуда,
Вдруг… устрашишься:
Горестный и пленный,
Гребешь назад, наверх, на божий свет,
Возрадуешься, вынырнув из мрака!..
Ты не свободен от любви и страха.
Покуда счастья нет, и смерти нет.
«На апрельский протал…»
На апрельский протал
Осыпается хвоя.
А небесный портал
Отворен синевою.
Осыпается лес,
Обновляясь на лето.
Отступает болезнь
Сотворенья поэта.
Вот и сник мой восторг
Добывания света
Страсть рассеял простор.
А избранника мета
Поистерлась, как лэйб
На заношенных джинсах.
Ах, скорей бы, смелей б
Это все завершилось:
Стрый эксперимент,
Где душа – инвалюта.
Что ж на здешний момент
Тошно этак и люто?..
Можно с небом на «ты»,
А со словом играя
Всяко…
Только плати,
Дорогой, дорогая,
Дорогие мои,
Дорогое веселье…
Вот и все соловьи,
Все весны новоселье.
«Поделю свою душу на части…»
Поделю свою душу на части,
На мильоны ничтожных частей,
Чтобы выяснить формулу счастья
И константу добрых вестей.
Разложу до первичной основы,
До начального чувства тепла,
До не ставшего звуками Слова,
До черты, где колеблется мгла.
Бесконечно ничтожная малость,
Первобрешь рокового Ничто,
Точка света, где образовалось
Галактическое решето.
Ну, еще раз! Анализ покажет,
Отчего эта жизнь хороша.
Делим! Но – перед нами все та же
Бесконечно большая душа.
Не постигнешь пытливою волей
Сокровенную тайну кольца.
Так не прячь перед вольною волей
Потемневшего думой лица.
Лучше спой, молодой и беспечный,
Выходя за отцовский порог,
О душе неделимой и вечной.
Это Пушкина добрый урок.
Бор
Шумит хвоя так высоко и густо,
Что чудится – ты в детстве у печи,
А в доме тихо, сумрачно и пусто,
Труба гудит да мятник стучит.
В бору иголок сыплющийся шорох,
И медленно,
Почти не наяву,
Сухая шишка сквозь смолистый морок,
Стуча о ветви, падет в траву.
И ты упал в небесные палаты,
Летишь, кружась, и наблюдаешь, как
Сосновой медью свитые канаты
Теряются в зеленых облаках.
Бор отразился в лужицах и росах,
Он раздробился, переломился и
Земля висит на трех простых вопросах:
О времени, о смерти, о любви.
Но в данной точке синего пространства
Любви полна вселенная моя,
Застыло время знаком постоянства,
И смерти нет в пределах бытия.
Лишь в капле смолки иглисто искрится
Большого леса детская душа
Да, зноем на прогалинах дыша,
В колоннах солнца марево струится…
Созерцательные стихи
I
В закатных травах, нем и одинок,
Я вспоминал, что значит слово «совесть»…
II
Едва ли есть понятье невесомей
И неподъёмней…
Я искал итог
Минувшему.
А травы золотились,
Лились с откоса, млели на ветру.
Я думал: насовсем ли закатились
Златые звезды в черную дыру?
Шуршали травы и шептали травы:
«Живи как мы, забудь про слово «я»
И выходило, вроде, травы правы —
Я лишь досадный промах бытия.
И надо жить, свой путь соизмеряя
С высокой вестью космоса души…
Но ум глумился: «Травам доверяя,
Бреши, приятель, да стихи пиши.
Мол, благодать – слияние с природой,
Соитие с великой пустотой,
Совокупление с пустой породой,
Созвучие с извечной немотой.
Себе, себе же в творческом задоре
Бреши о неизбывности души!..
Ловить себя за хвост, с собою споря,
Напрасен труд…
Меж тем уже в тиши
Звезда возникла над зарей вечерней,
Мерцаньем мне сигналила
О ЧЕМ?
Воспоминаньем,
Вестью ли – свеченье
Ее во мне откликнулось?
А может —
Надеждою на то, что подытожат
Все к лучшему?
И по щеке у Бог
Слезою метеорной
Не стечем?..
«Он любил только небо и деву…»
Жил на свете рыцарь бедный…
А. Пушкин
Он любил только небо и деву,
Воевал, чтоб себя победить,
Чтоб, не веря ни страху, ни гневу,
И просторно и праведно жить.
Дело было в погибшей державе
Под рябиной среди снегирей,
Дальше Токио, ближе к Варшаве,
Между трех океанов-морей.
Может, Молли, а может, Людмила
Звали деву мечтаний и грёз.
И она б его тоже любила,
Бес не выдал – за море унес.
Он сидел под рябиной кудрявой,
Под развесистой клюквой сидел…
Бросил меч, распростился со славой
И остался совсем не у дел.
Свиньи-ироды рыщут младенца.
Дева за морем… Как же тут быть?
Только Ваня с куском полотенца
Приглашает прощать и любить.
Только рыцари каркают хором,
Защищая чужие права.
Только ветер бушует над бором,
И торчит из земли голова.
Только небо, как водка прозрачно,
Так прозрачно, что хочется петь.
«Как же быть? – Вновь он вымолвил мрачно. —
Неужели и вправду терпеть?»
И не смысля ни ухом, ни рылом
В этом мире, лежащем во зле,
Он подался, палимый светилом,
По блаженной и милой земле…
«Куст пионов и розовый воздух…»
Куст пионов и розовый воздух.
Лебединое озеро. Смех.
Это музыка трогает возраст.
Это перышко кружит, как снег.
Я забыл о печалях полночных
И невинности нежной боюсь.
Лепестками усыпана почва.
Лебединая музыка. Грусть.
Холодает. К ночи холодает.
Тает облако. Падает мгла.
Нега-бабочка в ночь улетает:
Взмыла-ахнула, изнемогла…
Так и будем следить за полетом
И томиться холодным умом…
Спят бутоны…
Где музыка?.. Кто там?..
Кто там, Господи, в небе пустом?
1991
Овраг
Сумрак в заусеницах оврага
С ландышем под рухлядью коры…
Где струит извилистая влага,
И ступают сосны за обрыв.
Страх-овраг у дачного поселка.
Крик-обрыв с клубничным козырьком.
От оврага никакого толка,
Что ж без толка я сюда влеком?
Здесь таится липкая тревога,
Здесь кружится старая сова,
Здесь я у какого-то порога.
У какого?..
Прячутся слова.
Прячутся под листьями коряги.
Теплится под облаком закат.
Не хватает веры и… отваги —
Сделать полшага.
Лишь сова кружится слепошаро,
Словно тьмы и свет на весах.
Падает во тьму…
И впрямь, пожалуй,
Лучше ей не знать о небесах.
«На море штиль. Оплавилась волна…»
На море штиль. Оплавилась волна.
Увяли паруса катамарана.
Не подписать ли грустный меморандум
О прекращеньи мяса и вина?..
Страстям потрафить не запрещено.
Но лень – она послаще заграницы.
В глазах лукавят солнечные блицы.
На море штиль. И степлилось вино.
И штиль да штиль кругом…
Какая дрянь —
Все эти ваши страсти по свободе!
Душа в отгуле. И застой в природе.
Стой. Обернись. Не заступи за грань.
Благословенна праздная игра…
Спаситель тоже трогал погремушку;
А рифму, как чудесную игрушку,
Нам дали в час воскресного добра.
Аз, многогрешный, не велик стилист,
Но, словно чёлн, объят высоким штилем,
– Плыви! – скажу, – коль семь небес под килем,
Коль светел пред тобой покоя лист…
«Либо-либо…»
Либо-либо…
Оплыли следы.
Травы в инее. Синь проступает.
Много холода. Много воды.
Радость осени не искупает.
То ли плыть по зеркальным горам,
То ли падать в отвесное море?..
Умирает старик Авраам,
Сыновья перессорятся вскоре.
Облака, словно демона крик…
Пусть я нищ, но не ведаю боен!
Пусть в зените скользит материк
С фиолетово-сизым подбоем.
Это плавится в море закат.
Это все, что осталось от славы…
Путь высок и, как прежде, покат —
От земной до небесной державы.
Демон
Живу на даче с бронзовым жуком:
Жук под диваном, я – все больше в кресле.
Когда б я знал, что демоны воскресли,
То посчитал бы, что с одним знаком.
Под вечер, когда слышен на стекле
Мохнатый шелест нечисти мотыльной,
Выходит он походкою костыльной
Ко мне под лампу – нежиться в тепле.
Мерцают латы – бархатен отлив.
Стучит хитин, как будто трость виконта.
И грозен вид. Но больше так – для понта.
Он стар, горбат и, видимо, брюзглив.
Еще хватает сил вспугнуть жильца
Да пообедать полудохлой мухой.
Но – гордостью и старческой разрухой
И он казнен и сломлен до конца.
Играю с ним. Никак не применю
Ни крестное знаменье, ни булавку.
Щипни за палец и ступай под лавку —
Во тьму, поближе к серному огню.
«Парусами сизыми сырыми…»
Парусами сизыми сырыми
Два дождя уходят по воде.
Паруса дождей…
А имя, имя…
Имя дня?..
Ильин сегодня день.
Спас медовый… Господи, не помню,
Завтра?.. Завтра будет мед жбан.
Хорошо, разведрило бы к полдню:
Сласть как славно – медом по губам.
Временное летнее спасенье —
Яблоки с орехом на меду.
И преображенье в воскресенье —
Воскресенье осени в саду.
Следом – угасающее пенье
Вечеров над чашами стола,
И плодов блаженное успенье
В чистых слитках плавного стекла.
Света ток сквозь облако тугое
Сном душистым в воздухе висит.
Светлый крест. Лучение покоя.
Только смерчик тропкой колесит.
Все забыл.
А то, чего не знал я,
Вспоминать мучительней всего.
У соблазнов – алая изнанка,
Под изнанкой вовсе ничего.
«Слепок облака в озере парусном…»
Слепок облака в озере парусном.
Словно ветра изнанка – залив.
Даль клубится полотнищем гарусным.
Резь простора. И – неба размыв.
Чем усердней, тем боле бесплоднее
Сеть плетет серебристый мизгирь…
До свидания, лето Господнее,
Исполать тебе, любя ширь!
До свиданья, корчага целебная,
Лепестками засыпана вся…
И любовь, и душа моя пленная,
И моленная света стезя.
Ничего не решается загодя.
И победа – погибельней лжи.
…Разбегаются волны по заводям
От прошедшей за мысом баржи.
Растекаются страхи по комнатам.
Разбивается ветром окно.
Звон осколков и шорох… О ком это?
Да. Но мне… мне уже все равно.
Лишь сквозняк пробегает по памяти.
Лишь глаза цепенеют на миг,
Да скользит по песку как по паперти
От небесного купола блик.
…Где очнемся от холода летнего?
Кто простит меня? Просто простит,
Не спрося не посула последнего,
Не напомня про суд
и про стыд…
«Девушка с прозрачными глазами…»
Девушка с прозрачными глазами,
С лунным камнем в мочке золотой
Замерла, склонясь пред образами,
Тихая, пред ликом Девы той,
Той, что так чиста и непорочна,
Той, что милосерднее зари…
И летали в куполе барочном
Белоснежной парой сизари.
Господи, я грешен и ничтожен,
Горб мой полон мрака и свинца,
Но обескуражен и восторжен
Благодатью этого лица.
Господи, я знаю, как непрочна
Плоть – как и лукава, и горька…
Но летают в куполе барочном
Два непобедимых голубка.
Призрак это или откровенье,
Я не знаю, только не могу
Удержать в груди сердцебиенье,
Как лучом пронзившее тоску.
Девушку с прозрачными глазами,
Кроткую в молитве о любви…
Душу ли, омытую слезами,
Господи, мою благослови.
Мне уже под тяжестью сомненья
И не встать, и не поднять лица,
Лишь глядеть с улыбкой умиленья
С тихих плит церковного крыльца…
Падение
Мне казалось – я хищная птица,
И распластан над горной страной.
Мне казалось – я волен родиться
Человеком ли тварью земной.
Круг души мне ветрами очерчен
По периметру сизой земли,
И гласят мне печати на сердце:
«Знакам силы и славы внемли!».
Я внимал и тому и другому,
Я знавал восхищенье высот.
И живущему в облаке грому
Слал перуны мой каменный рот.
Гордый выкормыш Гипербореи
Звал достойным лишь камень и сталь!
Не скорбя, не любя, не робея,
Я свивал за спиралью спираль.
Но зовет меня к язвам и вере
Человеческая ипостась.
Боже мой, не большая потеря
В зябь осеннюю соколу пасть.
Отрекаюсь от грозного крика,
От судьбы и от крови чужой,
Чтоб прижаться светло и толико
К лику слез и могиле большой.
Черный пепел над храмом закружит,
Чтобы комьями пасть на жнивье.
Дольний колокол. Давняя стужа.
В небе пусто. Одно воронье.
Дрогнет воздух. Взовьется капелла
Детским раем средь горних валторн,
И мое беспилотное тело
Протаранит кладбищенский дерн.
Золотой кол[2 - Полярная звезда, Коновязь (тюрк.).]
I
Где за гиперборейскими льдами
Космос лег,
Где живет за пустыми вратами
Божий вздох,
Он возник на холме небосвода
В той дали,
Где лишь хаоса сонные воды
Тьмою шли.
Он —
Пробивший покров сотворенья
Турий рог:
Знак рождения,
Мера вращенья,
Ось миров!..
II
Отпусти мою душу, Россия,
До звезды!
Я с Алтая взлечу без усилья,
Без узды.
Вольных мыслей усталую лошадь
У тех врат
Привяжу. И по Млечной пороше —
Наугад…
«Нету мочи жевать целлюлозу…»
Нету мочи жевать целлюлозу,
Нету права ее не жевать.
Что ж, имей не мозоль, так занозу,
Жуй, забравшись от всех под кровать.
Баю-бай, набираюсь терпенья,
Как велел господин президент.
В горле ком. Не достанет раденья
Доломать переломный момент.
То мазут, то минтай, то ментовка,
То под дых, то под зад, то под суд…
Перестройка, рекогносцировка,
И святых в экспертизу несут.
Я пойду по следам экспертизы
За причастьем в соседний ларёк,
Я увижу родные эскизы:
Два душмана, забор, пузырек…
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Что ж ты падешь, подлая баба?!
Ну, давай, доведу до беды
Иль сыщу тебе злого прораба
Из потомков Великой Орды.
Бог с тобою, я только проездом,
Как-нибудь коротай до утра.
Съеду, будет одним койко-местом
Больше в городе Piдна дыра.
Все мы бублики с маком тачали,
Все мы прыгаем лишь в ширину.
Бог с тобой, хорошо помолчали,
Лей в послед и чужую вину.
…На младенце построен Детинец,
Храм – на вере, а Спас – на крови.
Пей, старуха, запретный гостинец,
Бог с тобой,
Если можешь – живи…
Братск, 1990
«Дно колодца и неба рядно…»
Дно колодца и неба рядно,
И полёт в золотом промежутке:
Словно тает в соломенной грудке
Соловьиного смеха зерно.
Любо-дорого, лепо-красно
В новобрачных прозрачных покоях.
Никнет ветер на чистых покосах,
Льется в озеро света вино…
Тихо пей, все, что Богом дано,
Причащайся последнему счастью,
Благодати земной причащайся,
Завтра – поздно,
Потом – все равно.
Там – потом, даже днями темно,
Лихо там без любви и поруки…
Вон и листья от счастья и муки
Золотые ложатся на дно.
«Зимняя пойма…»
Зимняя пойма.
Прямая тропа.
Пой, моя радость.
Иней,
Как легкое платье, упал.
Пой, моя радость.
Снег золотится
И ждёт синевы.
Пой, моя радость.
Луч раздробился
О призрак листвы.
Пой, моя радость!..
Морской трамвай
из Азии в Европу
Из России в Россию плывет катерок
Чрез пролив, что далече когда-то
По январскому льду князь ли Глеб пересек?
Тыща лет – только камень и дата.
В лето, Боже, какое-то – я, имярек,
Проплываю по старому курсу
На корме средь мешков, где небритый абрек
Щурит глаз и грызет кукурузу.
Где болгарские перцы в корзинах скрипят,
И старухи, что клушки-наседки,
Охраняют коляски: там, вместо внучат,
Гроздья – только что снятые с ветки,
Там пушистого персика розовый ворс,
И арбузы в пижамах курортных.
Ветер торга и табора на борт занес
Разнокрашенный говор народный.
Говорят, что нас встретит чужая страна,
Здесь Тамань, а за морем – таможня.
Говорят, что очнулся от сна Сатана,
Невозможное – снова возможно.
Я плыву и не знаю: зачем так давно
Нам назначено странствие это…
Просто-напросто, просто – дурное кино,
Закольцована старая лента.
Просто-напросто, просто… Но просто ли то?
Нет, не просто, не пусто, не глухо.
Греку даст сигарету красавец-бато.
К туркам сядет хохлушка-старуха…
Из России в Россию… А море шумит,
Катер борется с ветром наверно!
И не кончен ресурс. И не выбран лимит.
И жива наша вечная вера.
И всеобщего счастья златые ключи
Не потеряны в бешенной сече.
…Тыщу лет уж стоит на пороге Керчи
Русский храм Иоанна Предтечи!
17 августа 1994
«Мессершмиты как осы…»
Тигроподобные осы роем вьются над горой тучного злато-лилового винограда. Спрашиваю у уличной торговки: «Почему этих зверей не отпугиваете? К вам покупатель близко не подойдет». «Подойдет! Если осы вьются, значит виноград медовый. Сахарный».
Мессершмиты как осы
поют над дворцом Митридата,
И закатное золото гроздьями ткет виноград,
Пыль Европы и Азии смешана с кровью солдата:
Обелиски и кости на тысячи стадий назад.
Понт Эвксинский кипит,
жадно тыкаясь в вымя Тавриды.
Над Таманским заливом упругая синяя зыбь.
Арианский монах собирает у моря акриды,
Да простудно кричит на лиманах забытая выпь.
Что-то стронулось в мире.
И время, как старая кладка,
Рассыпается в пальцах —
песчаник, саман, известняк.
Лишь разбитый кувшин,
лишь вина золотая облатка,
И на синей глазури – лишь чайки парящий зигзаг.
Над лучом маяка полыхают небес аксамиты.
Мир навылет сквозит —
грохот гусениц, топот подков.
Митридат упадает на меч…
И горят мессершмиты…
И суровый монах всех оплачет во веки веков…
16 августа 1994
Крест
На мраморном надгробии Геракл
Был грозен, как Георгий-змееборец,
Но конь врага копытом не топтал,
Копье искало славы, а не правды.
И камень, прихотливо накренясь,
Стоял среди осколков Гермонассы,
Средь городка по имени Тамань,
На берегу полуденного моря
Во дворике музея…
Где-то здесь,
Неподалеку, ночевал поручик,
И так же слушал мерный шум воды
И запах йода на осклизлой гальке,
И древней тишины степную глушь…
Но тот поручик умер.
Был застрелен.
Давным-давно.
А кажется, вчера.
Зачем я вспомнил?
Жалость? Состраданье?
Нет, нет!
Он так хотел. Он все узнал
Столь рано, что не думал о протесте.
Протест ведь пустоте равновелик,
А он был полон жизни, вечной жизни,
Хотя слова о жизни той пусты…
Но есть деталь, что не дает покоя.
Там – в глубине музея, на стене,
Средь золотых монет Пантикопеи,
Лампадок, бус, ликивчиков, колец
И прочей бижутерии ахейской
Есть крестик. Я не видывал нигде
Подобного. Конец креста обломан.
Вершина же и левый луч – целы.
На них, в кругах, таинственные знаки.
Их ведали чеканщик и монах,
И всякий раб крещенной Византии.
Но суть не в них.
Внизу креста – Христос.
Католики, воспевшие распятье,
И муки, и поруганную плоть.
И Божьей кровью полные стигматы,
Взроптали бы, увидя этот крест.
Здесь нет распятья. Иисус нисходит
С вершины мук в сияньи и любви,
Неся перед собой живые руки,
Как бы желая даровать хлеба.
За ним овал златого ореола…
Крест позади. Его не миновать,
Но он остался знаком пограничным:
Преодолей, шагни, переступи!
Иди за мной, иди и не противься.
Распятья нет, есть радости завет.
Так мне внушали древние монахи,
Носившие под рясой этот крест
Еще до русских лет Тмутаракани.
………………………………………………
Молчат надгробья. А поручик спит,
Внимая Небу. Прах летит по ветру.
И лишь Геракл в порыве роковом
Не может отыскать достойной цели,
От подвига до подвига летит,
Пронзая ветер жалом копьевидным,
Не зная, что на траурном костре
Он в тунике отравленной истлеет
В жестоких корчах.
Навсегда настигнут
Самим собой…
5 сентября 1994
«Приближается край… Но не хочется верить…»
Приближается край… Но не хочется верить.
На краю затоскую о крае родном.
А Потерянный рай назван именем зверя,
А грядущий Эдем мечен страшным числом.
Я был вдрызг одинок без любви и России.
Я был просто дурак, обреченный на жизнь.
Но, прозрев, я объят тьмою невыразимой,
Где позор на разоре и злоба на лжи.
Треугольная мгла в треугольном убранстве —
Этот проклятый знак врезан в сердце стране.
Шесть грехов бытия.
Шесть зияний в пространстве.
Шестипалый захват, что присущ Сатане.
А меж тьмою и мной – только крестик нательный,
Только слово прощенья за ради Христа.
А иначе не снесть этой муки артельной,
Этой трассы над бездной, что страхом пуста.
25 августа 1994
Восточные стансы
Я запрягаю мрака караван
На берегу полуночном и диком.
Мечтавший о труде равновеликом
Таланту, что Отец мне даровал,
Я запрягаю скорби караван.
Тот, кто пророку диктовал Коран,
Архангел или Столп громоподобный,
Молчит поныне в области загробной,
Не избран я, хотя, быть может, зван
Тем, кто пророку диктовал Коран.
Горит Синай. Безмолвствует Ливан.
И облака плывут над Аркаимом.
И на Алтае в воздухе сладимом
Золотоносный цедится туман.
Горит Синай. Безмолвствует Ливан.
Узда и шпоры – дьявольский обман.
Ведь пустоту ничем не оседлаешь.
Пророк велик. Но ведает Аллах лишь —
Кому я нужен и зачем со-здан!
Я запрягаю мрака караван.
Тамань
Тмутаракань, Тументархан,
А много раньше – Гермонасса…
Накрой, кунак мой, дастархан
На глади синего паласа.
Твой предок возлагал халву
На ворс ковров Бахчисарая.
А я татарином слыву,
В роду татарина не зная.
Чингиса дух меж нами жив,
Но не скажу – кому он ближе.
За друга душу положив,
Мы оба пасынки Парижа.
Мы оба, щепоть чабреца
Бездумно растерев меж пальцев,
Впадаем в сон, где без конца —
Лишь песня воина-скитальца.
И здесь, на дальнем берегу,
Где много нас легло за правду,
Мы нынче общему врагу
Готовим общую награду.
Пусть в ножны вложены мечи,
Мечтает холм о граде прежнем.
…И чайка, ноги замочив,
Стоит на камешке прибрежном.
«Под бубенцы цикад в эпоху полнолунья…»
Под бубенцы цикад в эпоху полнолунья,
Когда стучит в окно засохший абрикос,
Вслепую поведу по черному стеклу я
И вспомню светлый шелк ночных твоих волос.
За Млечным пустырем – родной Сибири дали…
А здесь такой разлив безоблачной луны,
Такая благодать сухой степи миндальной,
Такой безмерный вздох оставленной страны.
И петушиный залп. И пустобрех собачий.
И море фосфорит, забвением дыша.
Я уловлю твой свет. На мой талант рыбачий —
Сокровищем твоя полночная душа.
Родная, трепещи! Ты вся в моих ладонях.
Ты не уйдешь уже из мрежей голубых.
А в ячеях поет, такое молодое,
Сиянье, что сильней превратностей любых.
22 августа 1994
Ореховая девочка
Ореховое дерево,
Ореховый загар,
Дуреха, моя девочка,
Не спи ты на закат.
Морской белесой горечью
Обметан губ овал.
Такую диво-горлинку
Я чуть не прозевал.
Ты треплешься по берегу,
Играешь и поешь.
Ты в профиль – ангел стрелянный,
А спереди – Гаврош.
Орехи с перестуками
Обсыпятся на стол.
Подобными поступками
Я уж по горло зол.
Соломенное солнышко.
Гремучий перезвон.
Как ведрышко до донышка:
Дин-дон, дин-дон, дин-дон.
Рябит в прозрачном лепете
Древесная метель.
Коленца любо-летние,
Сквозная канитель.
Мой грех,
Мой Спас ореховый,
Земной и Божий дар…
За морем древнегреческим
Пожар, пожар, пожар.
19 августа 1994
Видение Беловодья
Дольним берегом тучи плывут
В дымке матовых складок таежных.
И разливом надежд потаенных
Дышат сумерки…
Горний сосуд
Переполненный солнечной цедрой
Серафим ли веселый разбил?
И разлился, и словно застыл,
Тучи обняв, состав драгоценный.
Берег призрачный.
Плавни. Залив.
Море в небе. И небо сквозь море.
Явь, что явлена нам на Фаворе.
Мир надмирный…
Но больше, чем жив,
Тот простор над простором реальным!
Сколь полна благодатью вода!
Что за ладьи стремятся туда?
Что за звон над затоном зеркальным!?
Стой, душа моя! Верь и внемли
Стройной выси небесного хора,
Вторь живому мерцанью простора
Кем-то обетованной земли.
«Если песок и вода…»
Если песок и вода,
Значит вернулся туда,
Где от воды до воды
Тянутся ветра следы…
Пасмурна серая гладь,
Серая пасмурна высь…
И вне возможности лгать,
Выше и больше, чем жизнь —
Каждая щепоть трухи,
Каждый прибрежный откос.
…Не отпускают грехи.
И остается вопрос:
В чем благодать пустоты
И одиночества лик?
И от воды до воды —
Только любви материк.
Провод свистит на ветру.
Я никогда не умру…
Вздрогнет черемухи гроздь.
Я только гость, только гость.
«Мне горше горя и греха…»
Мне горше горя и греха
То воздаяние земное —
Что влагу трепета и зноя
Не вместят старые меха!..
Я скуп, как тот полуслепец,
Что пламень уподобя камню,
Усердно молится богам, но
Не верит в жертвенность сердец.
А ты без памяти щедра,
Ты без изъяна терпелива,
Смиренна, но не сиротлива —
Сиренью росною с утра.
Какою, Господи, ценой!..
Какой?.. не ведаю какою
Я заплачу за век покою,
За пламя, ставшее виной.
Тот камень – накрепко со мной…
«Я сплавляююсь по речке Торопке…»
Сронила колечко…
Я сплавляююсь по речке Торопке,
Не гребу, но держусь на плаву,
На порожней, как горе, коробке,
Средь порожнего дня, наяву.
Знаю, знаю, что это за речка —
Не Гуменка, не Бердь, не Ояш…
Коль сронила девчонка колечко,
Коли Божия воля не блажь,
Коли выгорит тело пустое,
Коли праздники не про меня,
Коль скользнуло кольцо золотое
В омут серый, прощально звеня,
Коли грешен… Уже не поспорить.
Душу живу лишь убереги.
Никогда мне не быть на Боспоре,
Хоть в четыре лопатки греби.
Никогда не понять, не изведать
Далеко ль закатилось оно —
Дарование воли и света?..
Неужели на дно?
Пред наступлением
красного месяца
Все в поездах мое солнышко-лелюшко,
Катимся, катимся – не устоять.
Сквозь погорелыцину, Ванька-Емелюшко,
Сладкой, как водочка, жизни поять.
Темное месиво… Светлое крошево…
Лермонтов с тучки глядит на меня.
Много хорошего. Мало хорошего.
Чище и льдистее день ото дня.
Эко хватил! Почему не покаялся?
Каюсь, родимые, каюсь во всем.
Тарскою степью, Барабинской, Каинской
Еду в заросший крапивою дом.
Осень такая, что хочется выстрелить,
Чтобы за эхом осыпался лист…
– Истина там, где отрезана истина. —
Молвил безногий, как хмель, баянист.
Лесоповальные, скотопригонные
Лики родные Марусь-Магдалин
Вновь уплывают в оклады оконные,
В дождь и безденежье русских долин.
Поле, пространство, полет и безмолвие —
Даль, словно хлеб, не пресытит во век.
Вновь с мукомолия на богомолие,
В преображающий родину Снег.
Сны роковые в душе не поместятся,
Но сохранятся в небесном краю.
Пред наступлением красного месяца
Простоволосый и тихой стою.
Скажешь ли правду мне, Ванька-Емелюшка,
В час, когда будешь не пьян, а блажен:
Скольких прияла льняная постелюшка
Ширь-белизной в миллионы сажен.
Боже, простишь, ли нам неразумение
Или рассеешь как израильтян?..
Стыки вагонные.
Гужи ременные.
И горизонт неохватен и рдян.
24 сентября 1994
Братан
В дворах, запутанных крапивой,
В железно-кислых гаражах
Живет мой брат светолюбивый,
Что с целым светом на ножах…
Питомец матери поблеклой
Он безотцовщиной крещен.
Как в перевернутом бинокле,
Он смотрит бесконечный сон,
Он смотрит мир прекрасно-дальний.
По вечерам, по вечерам…
Мир сладко-розово-миндальный
Под звездным выхлопом реклам.
В героике заморских весей,
В водовороте зол и злоб
И в отблесках чужих агрессий
Он круто выбривает лоб.
Но не монах из недр Тибета,
Не зэк, не хиппи, не лама
Ему сказали сделать это —
А страсть, а кровь, а жизнь сама.
Дар веры в собственное тело
Ему талантом силы дан!
Он стал солдатом передела,
Он верный кореш и братан.
За наши и за ваши вины
На горьких поприщах страны
Я вижу – в группы и дружины
Встают смурные братаны.
Потоком общим увлекаем,
Склонюсь пред гибельной судьбой.
Нет, я – не Авель, он – не Каин…
Ну, здравствуй, брат.
И – Бог с тобой.
Колея
Где бы не правил лошадью,
Что бы не говорил,
Как бы над Красной Площадью
Голубем не парил,
Где бы не спал с любимою,
С кем бы водку не пил,
Как бы Неопалимую
Я Купину не любил,
Чем бы дитя не тешилось —
Китежем иль ножом,
Сколько б собак не вешалось —
Порознь иль гужом…
Сколько бы не загадывал
Слов над разрыв-травой,
Сколько бы не разглядывал
Небо над головой,
Все колея глубокая
Тащит меня туда,
Где чернотой пологою
След
Залила
Вода.
Лифт
Ртутный глаз электронной мухи
тлеет рябью телеэкрана.
Словно соль из прорехи драной,
по билборду просыпан шрифт.
Жжот реклама. Дымится рана.
Догорает строка Кумрана…
А по сальному следу мухи
ходит, чавкая сталью, лифт.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/vladimir-beryazev-10786521/moya-oykumena-lirika-1979-2009/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
древнее название Афганистана.
2
Полярная звезда, Коновязь (тюрк.).
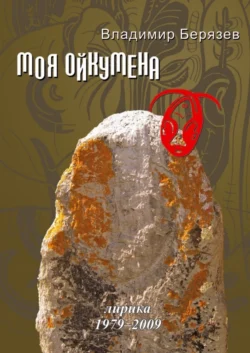
Владимир Берязев
Тип: электронная книга
Жанр: Стихи и поэзия
Язык: на русском языке
Издательство: Издательские решения
Дата публикации: 24.09.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: В 4-й том шеститомного собрания сочинений вошли три сотни лучших лирических стихотворений, написанных автором в период с 1979 по 2009 гг. Многие из них присутствовали в разного рода публикациях на страницах толстых журналов и других периодических изданий России, Казахстана и Беларуси. Кроме того, массив этих стихотворений рассредоточен в 10 поэтических сборниках, выпущенных автором за последние 30 лет его литературной деятельности. Берязев Владимир Алексеевич – поэт, проживает в Новосибирске.