Доклад генпрокурору
Доклад генпрокурору
Вячеслав Юрьевич Денисов
Важняк
«Цементные короли» сибирского города заодно с цементом приторговывают гексогеном, а ненужных свидетелей убирают без лишнего шума. Но убийство депутата Госдумы замять не удалось, и за дело берется следователь Генпрокуратуры Иван Кряжин. Он приготовил хитрую ловушку для оборотистых бизнесменов, а они сделали то же самое для него. «Важняк» попался первым: кассета с весьма пикантным компроматом не только сведет на нет результаты расследования, но и поставит крест на его карьере. Перед Кряжиным стоит выбор: играть по правилам дельцов или навязать им свои, ведь его ловушка хитрее...
Вячеслав Денисов
Доклад Генпрокурору
Тайна крупных состояний, возникших неизвестно как, сокрыта в преступлении, но оно забыто, потому что чисто сделано.
Оноре де Бальзак.
Человек, желающий найти мудреца, должен быть мудрым сам.
Ксенофан Колофонский
Часть первая
Глава первая
«Живем однова...» – подумал Иннокентий Варанов, литератор от бога, им же обделенный, сполоснул рот остатками вчерашнего пива (пить не стал – резанет горло кислотой, сожмет тело тоской по здоровой влаге), сунул ноги в кроссовки, завязал уверенными движениями шнурки и вышел из дома, что во 2-м Резниковском переулке.
Денег в карманах было до неприятного мало, что-то около шести рублей с обычным для похмельного утра обычного бродяги набором копеек. На те деньги бродяге не суждено не только выпить для удовольствия, но даже вступить в триединую формулу мужской солидарности невозможно. Что те шесть рублей? – треть в бутылке пива. А бутылку пива, как известно, на троих не пьют. Задержи его на улице любой милиционер да проверь карманы, так и выйдет. Вклиниться же в компанию знакомых, страдающих аналогичным заболеванием, вряд ли удастся (задолжал Варанов всем помногу и подолгу), а потому надежда была лишь на самого себя, болезного.
В районе пересечения переулка с одноименной улицей в голове Иннокентия Игнатьевича, как у настоящего бездомного, не озабоченного трудовой деятельностью, должны были зашевелиться мысли о наиболее доступных способах получения финансового подкрепления из известных вариантов, предоставляемых судьбой. И зашевелились.
Упоминание о судьбе не было метафорой, обязательной частью высокого штиля при изложении идей в голове пьяницы. Штиль – он был, но относился, скорее, к синоптическим определениям, нежели к литературным. Что же касаемо судьбы, то это самое что ни есть настоящее, точное мерило существования любого безработного пьяницы, остро переживающего абстинентный синдром, на коего, пьяницу, собственно, и был очень похож Иннокентий Игнатьевич Варанов. Человек с именем, но без роду, с местом жительства, но неопределенным. Как и без определенных занятий. Словом, философ в душе и пьяница по натуре.
Оглядев себя снизу вверх, Варанов убедился – так и есть.
Вернемся к судьбе. Она постоянно благоволила Варанову, периодически подкидывая случайные заработки на совершенно ровном месте. Вот и сейчас, выйдя на Резниковскую, Иннокентий (Кеша – как его звали в прошлом наиболее близкие коллеги-философы) потянулся, стараясь в этом жизнерадостном жесте не зацепиться за прохожего. Делать это в такое время суток не стоило, так как легко можно было влиться в пешеходный поток, выбраться из которого потом посчастливится лишь в районе станции метро «Сокол». Потянулся, послушал хруст суставов и впал в раздумье.
Любой прохожий, не торопись он сейчас на службу и окажись повнимательней, сказал бы – в тревожное раздумье.
Место, что он выбрал для размышлений, было подобрано со знанием дела: небольшая выемка, обозначающая подъезд с высоким крыльцом. Именно отсюда Иннокентий Варанов решил планировать день своей новой жизни. Почему новой, о том речь позже.
Имея шесть с полтиной в кармане, особо благородные поступки, как то: благотворительность, Пушкинские чтения или приезд к детдомовцам, не запланируешь, понятно. Тем паче, что ему мало кто будет в тех детдомах рад. Как, впрочем, и на Пушкинских чтениях. А зря. Ей-богу, зря.
Когда-то давно (лет двадцать назад) Иннокентий закончил филфак Саратовского института. Любил он литературу, русский роман любил, французские XIX столетия повести славил, античную драму почитал (в смысле – уважал) и преподавал по выпуске сначала в школе, а потом, увлекшись, на филфаке Саратовского института. Декламировал студентам «Эдипа-царя» Софокла, «Двух менехмов» Плавта, читал по ролям «Трильби» Нодье, но в начале девяностых филфак ликвидировали (образовали факультет кооперативной торговли), и преподавателю Варанову, дабы не нарушать его конституционных прав, предложили: либо школа в Смородинове, что под Козихой в Белгородской области, либо интернат для детей, требующих особого внимания, в Раздольном у Чанов, что за Уралом. Неготовый к таким жизненным коллизиям литературовед Варанов растерялся, собрал чемодан вещей с чемоданом конспектов и томиком Альфреда де Виньи и отправился покорять Москву.
Немного, чтобы прояснить дальнейшие пертурбации в судьбе еще молодого преподавателя, отвлечемся. Это отступление сделать можно, а потому, как говорят некоторые известные люди, должно.
Москва – город счастливых совпадений, но милостива она лишь к тем, кто шагает по ней, ничего не требуя, довольствуясь малым. К тем, кто не выясняет, какую кровь она несет в своих бесконечных кровеносных сосудах улиц, вливающихся в артерии, не пытается проверить на крепость нервишки измочаленных постоянным «Вихрем» милиционеров и не курит на ее аэродромах. Например – на Красной площади. Тех же, кто прибывает ее покорять, Москва опускает на свое дно и ставит на колени. Немало случаев известно, не стоит тратить время на судьбы тех, кого унесли артерии этого года к клоаке, да там и оставили.
Возвращаемся к Варанову.
Москва... Как много в этом звуке. Как много в нем отозвалось.
Любой, кто приезжает в Москву, чтобы его не сочли за идиота, первым делом идет на Красную площадь, что у мавзолея Ленина, потом на Арбат. Даже если сразу после этого тебя шваркнут трубой по голове и обчистят в каком-нибудь проходном дворе на Варварке, то по приезде домой в село Глухово ты можешь сказать с чистым сердцем:
– Я б-был в М-москве. Я, блин, видел ея.
На Красной Варанов побывал сразу по приезде. Ничего особенного. Единственный вопрос, который встал у него в голове сразу после выхода оттуда, был: как не ломает на ней ноги почетный караул?
Впрочем, тревога за ноги тех, кто ежедневно чеканит по двести десять шагов туда-сюда от караульного помещения до мавзолея, скоро рассеялась. Варанов нашел Арбат и побрел по нему, тая? печаль в своем сердце, в самом сердце Москвы. Совпадение напрашивалось на издание небольшого сборника стихов, но вдруг, проходя мимо четвертого ряда фонарей, Варанов полюбил.
Он полюбил внезапно, вспыхнув, как спичка. Увлекся как раз в тот момент, когда уныло размышлял над предложенным на Московской бирже труда вариантом: Белоголовица – деревня под Козихой, где-то под Москвой.
К черту литературу! – вон тот мужик в рыжей кацавейке только что продал полотно пятьдесят на восемьдесят какому-то японцу и получил от него двести долларов.
Двести долларов! – да таких денег Варанов просто не видел. А картина? – два круга, один из которых красный, второй вообще не закрашенный, кривая рожа между ними, и все это «искусство» на голубом фоне. Двести долларов, минус краски на сто рублей, минус рамка на столько же, за вычетом двух часов воспоминаний вчерашнего похмельного сна и отображения его на куске холстины ценою десять рублей за погонный метр.
Так Варанов, человек одухотворенный, из глубинки, почитающий античную литературу и Гомера, полюбил живопись. Невелики перемены, скажет обыватель. Живопись, поэзия – все едино, если ты человек от искусства. И Иннокентий Игнатьевич, еще неделю назад преподававший в вузе литературу, отправился покорять Москву новым, прибывшим в нее гением.
Некоторая сумма у него имелась, ее он получил на бирже (не путать с ММВБ), и всю, за исключением пары сотен, потратил на масляные краски, холстину, мольберт и кисти. Ему посоветовали брать колонковые – беличьи же?стки – и лучше подходят для новичков, и он взял.
Литература заставляет создавать образы мысленные, живопись – реально существующие, ощутимые зрением, поэтому в последней Варанов полюбил импрессионизм, а в нем – кубизм. В кубизме людям от литературы, впервые взявшим в руки кисти, как правило, легче передавать окружающим свою душу.
Свое первое полотно, – оно называлось «Несовместимость», – Варанов продавал три месяца и чуть не умер с голоду. Собратья по кисти его жалели, кормили, и выжил он благодаря исключительно художественному братству. Девяносто дней новоиспеченный художник сидел и не понимал, почему кубы справа и слева от него уходят за доллары, а его собственные стоят на месте, и на них никто даже не смотрит.
– Ты пойми, – увещевал Варанова арбатский старожил Пепин по прозвищу Репин, – мало написать, нужно душу вложить.
Как вкладывать в кубы душу, Варанов не знал, поэтому стал робким маринистом. Его «Парус надежды» качался в потоке туристов около трех недель, пока к нему не подошел известный мастер морских батальных сцен Вайс. Варанова жалели все: что он тут, на Арбате, делает, тоже все знали – они все тут делали это, а потому доброхотов не убавлялось.
– Что это? – спросил Вайс, ткнув пальцем в центр холста.
– Это, – сгорая от стыда за неумело выписанные барашки волн, пролепетал Варанов, – матрос плывет на яхте.
Сказал и на всякий случай добавил:
– По морю.
– Плавает говно, – резюмировал бывший моряк Вайс. – По морю ходют. А у тебя этот матрос... Кстати, где он? А? Это матрос? Ну, так вот, он действительно плывет.
И тоже добавил:
– На яхте... Бросай ты это дело.
«Несовместимость» общими усилиями втюхали туристу-докеру из Глазго за сотню, «Парус» поменяли на купюру с изображением президента Гранта какому-то негру из Чада. Знающий английский язык портретист Смелко выступил в качестве переводчика и впоследствии, когда восхищенный негр ушел, унося холст, пояснил, что покупатель живет в городишке Умм-Шалуба, что на западе Сахары, паруса не видел ни разу, а потому сделку можно считать удачно завершившейся.
Большая часть кубистов-пейзажистов была, как и Варанов, бездомной, но считала это не пороком, а совершенством души. Истый художник должен быть свободен от всего, в том числе и от квартплаты, которую так нагло и беззастенчиво навязывают московские власти. Жила эта когорта свободных художников в обветшалом доме, готовящемся к сносу, на Сахарной; на свою нужду откладывала, но малую толику в общак вносила. Тем и существовала на общежитских началах. Варанов же, прибившийся к компании работников кисти и цвета, пришелся им по нраву, так как знал годы жизни Джузеппе Бальзамо (Калиостро) и что «прозопопея» – это не мат, а стилистический троп.
В минуты отдохновения Варанов, выпивая портвейн мастеров и закусывая их же колбасой, рассказывал художникам о судьбе Шатобриана, а на Арбате, проявив недюжинный талант словохота, убеждал туристов купить выставленные полотна на языке Стендаля в первоисточнике.
– Просила Третьяковка, – говорил он приезжим из Испании, кивая на геометрию Пепина, – но за?ла импрессионизма там еще не готова. Быть может, эта картина найдет свое место в Прадо...
– Tretyakov Gallery? – удивлялись не понимающие по-русски и еще меньше по-старофранцузски испанцы.
– Си, – скромно тупил взор Варанов.
Доходы художников, благодаря так и не уехавшему в Козиху филологу, понемногу росли, получал средства и Варанов. Вскоре он смог даже снять маленькую комнатку (сырой подъезд, третий этаж, окна во двор, пружина в диване) на Моховой. Одевался, конечно, не бог весть как, но комната! – он был уже москвич.
Однако радужным мечтам о безоблачном существовании сбыться было не дано. Портвейн медленно, но уверенно делал свое дело, и теперь по утрам Варанов уже не мог идти, не выпив некоторого его количества. Доходы день на день не приходились, а жажда мучила ежедневно, и по нескольку раз. Занял раз у Пепина, потом второй у Вайса. Когда понял, что отдать невозможно, решил на время выйти из спасшей его от голодной смерти компании художников, чтобы подзаработать да отдать долг.
Москва была покорена всего один раз, Наполеоном, и то ненадолго. Варанов это понял, когда разуверился в том, что он, особо не утруждаясь, сможет «подзаработать» и для отдачи долгов, и для собственного достатка.
В первый раз его, мастера слова и знатока биографии де Вильяка, взяли на лавке у Патриарших. Как он туда попал с Моховой, Варанов вспомнить не мог. Проснулся без почти новых ботинок, джинсов и куртки, в которой лежал паспорт и несколько жетонов на метро.
Пятнадцать суток он мел какие-то улицы, одним милиционерам известные, мыл «уазики» с мигалками на крыше и пол в дежурной части. Через две недели его, вышедшего из запоя окончательно, поставили на учет и выпихнули за ворота ОВД.
В комнату на Моховой лучше было вообще не возвращаться, потому как не плачено за нее уже больше двух месяцев, и хозяйка еще до его задержания на Патриарших предупреждала, что, если назавтра плата не поступит, то он может быть уверен в том, что она заявит кражу. Кражу старуха, конечно, не заявила, в противном случае его уже давно бы из ИВС перенаправили в СИЗО (говорят, страшное место), но, оказавшись за воротами отдела милиции, он одновременно оказался и без крыши над головой.
Пять лет.
Ровно столько Москва и арбатская пишущая братия не видела Иннокентия Варанова, опустившегося художника слова, вернувшегося в нее с покаянием.
– Кажется, я видел Варана, – шепнет, получая от американской туристки доллары, Пепин Вайсу. Вообще-то, картина называлась «Сражение под Нарвой», но, увидав на груди очкастой и прыщавой мисс пацифистский медальон, похожий на поломанный знак от «Мерседеса», Пепин представил ее как «Мир над Манхэттеном».
– Ерунда, – решительно возразит маринист. – Он давно где-то загнулся, оставшись должен мне пятьсот рублей.
– Ей-ей, видел, – поклянется импрессионист. – На автобусе проезжал мимо Резниковской, он там на крыльце какого-то дома сидел и газету читал.
Вайс смолчит, но не поверит.
А вскоре окажется, что старого художника зрение не обмануло. Уже через три дня на Арбате покажется знакомая, но уже порядком подзабытая за пять лет, с неуверенной походкой фигура литератора из Саратова. Он подойдет, поклянется, что судьба била, но о друзьях помнил, раздаст долги и вынет из обветшалой сумки несколько бутылок портвейна.
Пять лет. Они прошлись по бывшему литератору, как литовкой, – это мог сказать каждый, кто знал Иннокентия. Взгляд Варанова опустел, зрачки шарили по тылам баров и кафе в поисках нужды в грузчиках, руки почернели, лицо осунулось. Жил он тем, как сам говорил, что мыл на светофорах стекла авто, выпрашивал в метро милостыню (за что был не раз бит работодателями профессиональных попрошаек), помогал разгружать фургоны с товаром у коммерческих киосков и... Вот, пожалуй, и все. Каждое утро нового дня он выходил на улицу Резниковскую и думал, где добыть так необходимые его организму деньги. Однако долги кредиторам он вернул, а как средства ему достались, особенно никто не интересовался.
Они пили, он все больше подливал, видимо, старался загладить вину. Этому тоже никто не противился, потому что так, как правило, достается больше. Разошлись художники уже под вечер, а Иннокентий, попрощавшись с Пепиным и Вайсом, ушел к себе на Резниковскую, чтобы собрать вещи и, как пообещал, вечером следующего дня снова влиться в старый коллектив. Этому тоже никто не противился. Разрушенных домов в Москве хватает, а что касается малой толики в общак, то по последним данным видно, что судьба Иннокентия била, но разума не отняла. Напротив, он стал еще более словоохотлив, и это гарантировало неплохие распродажи.
Вот и сегодня, в восемь часов (около этого часа похмелье начинает давать о себе знать особенно сильно – это знает каждый алкоголик), он вышел из комнаты очередного, подготовленного к сносу дома и сел на крыльцо под непонятной вывеской – «Статстройуправление», дверь под которой не открывалась уже несколько лет. «Вход со двора» – вещал указатель, и только по этой причине Варанова никто с крыльца не гнал.
Дома в Москве сносят не так, как, к примеру, в Саратове. Если утром к стене подошел мужик с портфелем и написал на стене: «СНОС», то это информация не для тех, кто приедет дом ломать, а для тех, кто в нем живет. А потому утром, выходя из дома и заметив такую надпись, жильцам лучше всего прихватывать все нажитое с собой, потому что уже вечером, возвратившись, вместо пятиэтажного дома можно обнаружить лишь груду кирпичей, два экскаватора и бригаду спасателей с собаками, ищущих под завалом живых.
Тонкости эти Иннокентий знал, как-никак почти коренной москвич, а потому, спускаясь полчаса назад по скрипящим лестницам брошенного образчика сталинской архитектуры, держал в руке пакет с вещами, а на голову нахлобучил кепку. Дел сегодня было задумано много, и вещи обязательно должны будут пригодиться.
Собственно, обойтись можно было и без кепки, так как на дворе июнь, и в восемь часов уже никак не меньше пятнадцати градусов в тени. Однако выхода не было, и пакет лег рядом с Кешей на крыльце. Варанов торопливо закурил и автоматически бросил кепи перед собой, ободранной подкладкой наверх. Пока мысль стремительно идет по лабиринтам мозга, не исключено, что кто-то обронит в кепку монетку. Раз пять по два рубля, и идею можно будет развивать уже с бутылкой пива в руке. В любом случае – он нищий, претензий к которому всегда по минимуму.
Насобирав за полчаса искомую десятку, Варанов поднялся и направился к ближайшему киоску. Работа началась.
Пустая тара подсказала беспроигрышную тему. Сунув бутылку в пакет, Варанов заспешил во двор. За ночь жители квартала (дальше лучше не ходить) могли набросать в мусорные баки остатки ночных пиршеств, а это гарантировало не менее двух-трех десятков стеклянных емкостей, как две капли воды похожих на ту, что уже покоилась в его пакете. В любом случае его поймут все, кто увидит. Не прогонят.
Зайдя в ближайший от киоска двор, Кеша остановился. Машинально потрогал мочку уха и стал соображать, как мотивировать свое нахождение рядом с машиной. А она стояла, огромная, именуемая джипом, посреди площадки, между разваленной детской песочницей и лавочкой подле нее.
«Лэнд Круизер» серого цвета с зеленоватыми стеклами стоял, словно ожидая кого-то, трубой не дымил, но за рулем сидел человек. Скользнув взглядом по сторонам, Варанов медленно прошел к машине. Вынул из пакета чистую тряпку с баллончиком стеклоочистителя «Секунда» и услужливо наклонился к огромному зеркалу:
– Помыть?
Обычно об этом никто не спрашивает, это глупо. Если у каждого водителя спрашивать, мыть или не мыть, то день закончится вхолостую. Лучше быстро мыть, пока горит красный, а потом с улыбкой (но милой, а не злорадной!) склонять голову к боковому стеклу. Как правило, платили. Один раз, пять лет назад, даже перепала сотня. И откуда? – из «девятки»! Парень, наверное, просто перепутал купюры – на улице вечер стоял. Теплый такой...
Варанова водитель, несомненно, видел, как видел и тряпку с баллоном в его руках. Между тем стекло не опустил и подальше не послал.
Отработал Иннокентий на славу. Стекло горело, как только что отлитое. Хозяин джипа должен быть доволен. Он, наверное, даже очень доволен, если за те несколько минут, пока Кеша тер машину, опустил руку с соседнего сиденья и развалился в кресле.
Варанов снова незаметно посмотрел по сторонам и подошел к окну. Когда стекло не опустилось, и оттуда не появились деньги, он помялся у двери, давая повод мужику, выгуливающему неподалеку собаку-монстра, заинтересоваться необычной сценкой. Мужик с силой потянул на себя поводок со слюнявой мордой на ошейнике и остановился для финальной сцены. Сейчас, по всей видимости, из машины должен был выйти хозяин или несколько громил и вышибить обнаглевшему бомжу мозги. Еще больше он заинтересовался, когда Варанов осторожно постучал грязным ноготком по ручке двери.
Но монстр рванул, и хозяин решил пойти за ним.
Теперь, подумалось ему, хозяину, два варианта. Либо водитель выйдет и набьет-таки бродяжке морду, либо, если за рулем не отморозок, расплатится. Должен же он, водитель, понимать, что на его машину потрачено некое количество сил, которые чего-то стоят! – думалось хозяину, который, несмотря на силу, неумолимо влекущую его в подворотню, верил тем не менее в разум.
Когда же дверь не открылась и на сей раз, Иннокентий Игнатьевич понял: пора.
Он щелкнул ручкой, приоткрыл дверь и заискивающе бросил:
– Доброе утро.
Да неудачно как-то открыл, переусердствовал от волнения, что ли: вопреки ожиданиям, обманутым видимой тяжестью дверцы, она распахнулась легко и ударила Варанова по переносице...
Резкая боль в носу, оранжевые, как утреннее солнце, круги перед закрытыми глазами.
Дорого в Москве дается рубль, дорого.
Последнее, что видел мужик, уходя со своим массивным псом в арку, был бомж, зажимающий рукой кровь, льющуюся из носа. Видать, добился своего бродяга, получил...
В другое время, лет пять назад, Варанов ничуть не удивился бы, если бы получил в ответ перстнем в глаз. Однако, вопреки всему разумному, Кеша, зажимая рукой капающую из носа кровь, нагло повторил:
– Доброе утро, говорю.
Лет пять назад, когда он только начинал, Иннокентий понял бы, что попал.
На водительском кресле джипа сидел полноватый мужик одних с ним лет, но в два раза шире, в пятьдесят раз чище и в тысячу раз дороже одетый.
«Он спит вечным сном» – напрашивалась аллегория в голове филолога, когда он рассматривал вылившуюся из затылка и засохшую на воротнике и груди белоснежной рубашки и серого костюма кровь.
«Это труп», – мелькнуло в голове нищего Варанова.
У Иннокентия не подкосились ноги. Напротив, мозг стал работать чище и размереннее. Любой другой, относящийся к себе нежно и бережно, ушел бы от джипа и тотчас скрылся в каком-нибудь другом административном округе, по дороге постаравшись забыть о случившемся. Но это был удел другого, не Варанова.
Не теряя более ни секунды, он протянул через труп водителя руку и забрал с соседнего сиденья пухлый портфель. Оглянувшись, похлопал по карманам толстяка в джипе, определил, в каком находится бумажник, прихватил и его. Хотелось снять еще и перстень с пальца, но как полагал Кеша, на это у него уже не оставалось времени.
Последнее, что он увидел, осторожно прихлопывая дверь, был маленький флажок российского триколора, застывший в своем трепыхании на лацкане пиджака водителя.
Через полчаса Варанов, спустившийся со второго этажа своего, готового к сносу дома, направился к станции метро. У него сегодня много дел: нужно срочно влиться в компанию Пепина и Вайса, чтобы не выходить из нее до последнего момента. Когда этот момент наступит, зависело уже не от него, а от тех, кто будет осматривать джип под запись в протоколе.
Кто знал его пять лет назад, мог бы с уверенностью заявить – настроение у него было тревожное.
Глава вторая
Координационное совещание, созванное Генеральным прокурором, обещало быть долгим и нудным. Долгим, потому что перечень тем, касающихся повестки дня, был пресыщен сочетаниями: «борьба с терроризмом», «уличная преступность», «межнациональная рознь», «результаты проверки исполнения законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность». Интересен в плане получения новой информации о деятельности отдельных структур правоохранительных органов был лишь последний вопрос, но он стоял особняком и оглашение его было назначено под конец совещания. По остальным же вопросам можно было вести разговоры в течение оставшихся лет жизни. И даже по одному, любому из них, можно было засидеться до конца квартала. Потому и нудным.
Поговорить, а уж тем паче – поспорить, было о чем. Тем не менее существующие на правовом поле пни и овраги, увеличивающиеся в числе и расширяющиеся в масштабе, заставляли Генерального все чаще пренебрегать качеством совещаний, делая основной акцент на количество рассматриваемых вопросов. Нельзя, предположим, провести координационное совещание, минуя вопрос о терроризме. Или, разобрав его по костям (что маловероятно, учитывая время совещания – оно не могло длиться вечно), упустить вопрос о вновь обострившихся отношениях среди этнических меньшинств. А меньшинств в Москве... Много меньшинств. Так что, если их из Москвы убрать, то станет ясно, почему на улицах воют собаки, а по Тверской ветер гоняет перекати-поле.
Сложно сейчас в Москве. И упрекнуть Генерального не в чем. Поддержать хочется, словом заступиться за него, да только не до этого. У каждого из присутствующих свои проблемы, сугубо специфические, хоть и единые по смыслу с остальными. Разобщение преступных сообществ, предотвращение сезонных преступлений, борьба с наркобизнесом. Каждый занимает свою нишу, делая общее дело.
Генеральный знает, что город в страхе. Хоть и вещают телекомпании и газеты – все под контролем, обстановка на самом деле сложная. О контроле особый разговор, слово свое о нем Генеральный еще скажет. А пока смотрит прокурор на близких по духу, им собранных коллег и думает, как судно развернуть, чтобы волны через борт не плескали. Понимает, что кровь льется и все труднее раны зажимать. Закон смешон, несовершенен, но кто совершенен? А это – и обвинение, и оправдание. Попробуй подступись с таким законом, начни-ка с ним воевать. В том смысле – что об руку с ним, с законом. Вступишь в бой, перешагнешь через передний край обороны – а закон из-под руки выворачивается и вместе с ворогом прет тебя на исходную. Несовершенен закон, двулик, как Янус.
Раньше в Генеральную прокуратуру заявления от граждан приходили: спасите от судебного произвола. Сейчас пачками документы приходят: спасите от произвола председателей судов и квалификационных коллегий судей. И от кого приходят? – от судей! А письма не простые, письма увесистые – по килограмму приложенных документов, подтверждающих факт того, как можно судью уничтожить, будучи председателем областного суда. Судей районных, судей областных, независимых и делу справедливости служащих, уничтожают пачками, как быдло. Председателева работа, нет сомнений. Окопается такая тварь за столом председателя областного суда и чинит расправу над всеми неугодными. Коллегия квалификационная – своя, притертая без шва, Совет судей – рядом, прирученный, с руки морщинистой, старческой, чуть дрожащей, вскормленный и вспоенный. Стоят друг за друга насмерть, команда «Варяга» по сравнению с ними – дети.
Попробуй на этом правовом поле с такими пахарями пни повыкорчевывай! Все лучшие вершители правосудия в отдельных областях из судов уже давно вытеснены, остались те, что задачи решают, далекие от правосудия, близкие к кормушке избранных. Это кто в областной суд из районников хочет? Эта? Вот пусть она и рассматривает дело по иску судьи такой-то к председателю ее суда по защите чести и достоинства. Это кто в областном суде хочет остаться? Эта? Вот она-то и будет рассматривать жалобу судьи такой-то на решение квалификационной коллегии судей о лишении последней полномочий. А там посмотрим, кто в областной суд попадет и кто в нем останется. По выполняемым задачам и заслуги. Свои своих казнят во имя чести главного старца – будьте уверены, старец еще лет пять в кресле просидит.
Шлюховатое правосудие, само себя имеющее, а во главе всего этого областного дворца терпимости – подонок мстительный, всем почему-то кажущийся застенчивым ублюдком, а потому милым и безобидным. Организует у себя во дворце празднества пошлые, отмечая годовщины суда то по календарю земского уклада от 1801 года, то от Рождества Христова, то от декрета Совнаркома. А потому в позапрошлом году суду областному двести стукнуло, в прошлом – две тысячи, а в текущем – восемьдесят. И все даты-то круглые, почетом не обойдешь, добрым словом не минуешь.
Знает Генеральный, знает, как в одном таком суде субъекта Российской Федерации юбилеи каждый год отмечали. Собрание приближенных, весь зал заполнивших (не «своих» судей, независимых, туда – ни ногой, ни туфлей!), а среди них рассеявшиеся демократической дымкой – приглашенные извне, ничуть не связанные должностными словом и делом со слепой Фемидой:
– От завода имени Струйкина областному суду – пять холодильников и два кондиционера!..
– От общества очень закрытого типа, типа акционерного – две путевки на Канарские острова!..
– От лица без юридического образования без образования юридического лица – снегоход областному суду и ружье!..
И вручают, и хвалят, и благодарствуют... О «спонсорских» суммах в незаметных конвертах сказано в громогласных поздравлениях не было ни слова, да только все эти цифры до последнего нуля – вот они, в папке Генерального, что в сейфе, на отдельной полочке.
Тут не только Генеральный, тут любой, мимо дома на Большой Дмитровке случайно идущий, спросит: а зачем суду областному две путевки на Канарские острова? Как бы не понимая, спросит, не догадываясь, кто именно из областного суда туда, на острова, направится. С ружьем все понятно. Про ружье вопросов не будет. Смертную казнь никто не отменял, мораторий, он до поры – мораторий. Он на то и мораторий, чтобы его то объявляли, то отменяли. Как операция «Вихрь-антитеррор». Все в курсе, когда он объявлен, но никто не знает, когда его отменят. Каков приход, такая и Дума. А приход последние годы такой был улетный, что понять совершенно невозможно: то ли он по вине пустившего на «косяки» предвыборные листовки электората случился, то ли по какой иной причине. Как бы то ни было, Дума наполнилась певцами, вокалистами, бардами, кинорежиссерами, бывшими спортсменами и бизнесменами, которых не успели посадить до вручения тем депутатских мандатов.
Вот раньше, помнится, еще до коренных реформ, обеспечивающих просветление правового поля, куда интересней было. Взяли и зацепили думцы, кого бы вы думали? Правильно, бывшего Генерального. Тот уже сам не рад, ничего ему не нужно, говорит – ложь это все, и низко для меня честь оправданиями марать. Мол, кто свят и чист, никогда не опустится до оправданий. Тем более на подобные темы. А темы были, надо сказать, еще те.
Но думцы (народ того созыва был, ох, кова-а-арный) сказали твердо – поддерживаем Генерального! Надо еще выяснить... тот ли это Генеральный, о ком речь идет? Не другой ли? Депутатский запрос направить, прояснить ситуацию до последней позы...
Запашок с Охотного ряда пошел, надо заметить... Сильный такой запашок.
Генеральный (бывший) говорит – ах, оставьте. Я никогда не соглашусь на это. Я лучше уйду. Уже и заявление я написал. А Дума: ну, почему же так скоро?.. Не так уж часто у нас интересные заседания случаются...
В Думу, как на Олимпиаду, каждые четыре года самых лучших шлют. Но в прошлые созывы интереснее было. Бывает, как разложит этот хор на несколько голосов тему какую да как затянет... Сейчас певцов еще больше, но раскладывать уже не получается. Не получается раскладывать, хоть убейся. Вообще-то, сказать честно, этот хор прошлогодних спортсменов главную песню еще не затянул – обустройство на улице Улофа Пальме у них продолжается, не до песен, но что-то подсказывает Генеральному, что проблем не убавится.
Знает все Генеральный, знает. Положение у него такое, знать все про вся. А что не рассказывает о сокровенном вслух, так положение молчать обязывает. Говоруны все – вон они, на экране кинозала Государственной думы.
И теперь кто пояснит, как с этим хором в пятьсот человек и судами субъектов Федерации, выше описанными, работать? А работать нужно, да при этом еще держать масть человека справедливого, вдумчивого, нетерпимого к нарушению прав человека. И преступления раскрывать, и олигархов, чьи вышки на Севере они сами подсчитать не могут, к ногтю щемить. Зажрались, лоснящиеся. Клубы футбольные приобретают, игроков оптом закупают, шале в Швейцарии к рукам прибирают – используют, словом, государственные деньги на собственные нужды. А ты попробуй с этими певунами да мерзавцами из областных судов порядок наведи!..
А Президент, он ведь, хоть в пучину погружается да в небе парит, на земле-то все видит. Раньше проще было.
– А скажи, Генеральный, – спрашивал бывший бывшего, – как у нас, понимаешь, с правопорядком в стране в плане сенсационных раскрытий громких преступлений?
– Погядок, – пожимал плечами бывший, не сводя глаз с бывшего, – все под контголем.
И брал он под контроль, и брал, и брал. Взял под контроль столько, что теперь можно с уверенностью сказать: действительно, под контролем у него было все.
А сейчас Президент не тот. Не прокатит с ним такая загогулина, ей-ей, не прокатит.
Посмотрит, чуть голову склонив, и спросит, посмотрев в глаза, как умеет делать лишь он один: кто? когда? почему? Мол: имена? фамилии? явки?
И как-то сразу нехорошо на душе становится. Тут хоть бери под контроль, хоть не бери, а все одно отвечать – и кто сделал, и когда будет раскрыто, и почему не раскрыто до сих пор. А ты попробуй с этими хористами да золотушными из областных судов поиграй в викторину! А начнешь в этой Думе концы искать да зажравшихся председателей судов (о единицах речь, понятно) к ответу призывать, сам респондентом станешь. Вопрос – ответ – привет – демобилизация. Часы на память, орден, грамота, караси в Балашихе.
Ум, честь и совесть – вот что должно присутствовать в каждом поступке Генерального. Внутри должен оставаться не заметный никому юмор, а вокруг него, доносясь до самого футбольного субъекта Федерации, – тонкий, не перебиваемый ничем аромат профессионализма.
Знал Генеральный об этом, верил в себя и помнил все обо всех. Око государево, это не наркоманский зрачок. Взглядом чистым, но тяжелым ощупывает Генеральный всех, кого на координационное совещание собрал.
Интересная картина получается, занимательная. Директор ФСБ, тот сам прибыл. Человек чуткий, внешне милый и застенчивый, хотя голову тоже чуть клонит и руку на руке на столе держит. Стаж... Всегда готов к ответам, врасплох не застанешь, единственный недостаток – бывает, работу делает чуть большую, чем нужно. Один сахар в подвале рязанского дома чего стоит. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Ребята его, дай бог им здоровья и многих лет, трудятся – позавидовать стоит. Хоть и тоже с хитрецой. Сядет, бывает, Генеральный сводки сверить да правовую сторону вопроса осветить для самого себя и странные вещи обнаруживает. Написано в документе, черным по белому написано, не сотрешь: «28.11.2003 г. оперативным подразделением по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни задержан груз героина весом в 24,5 кг, следующий из Афганистана на Дальний Восток РФ транзитом через Новосибирск».
Браво. Ребята из таможни серпом выбрили шариатские бороды и подчистили за погранцами из Таджикистана. Работают люди? Работают. А кто-то говорит, что их реорганизовывать нужно, потому как толку от них – как с козла молока. Но неплохой удой тот козел дает, надо сказать. 24,5 килограмма героина если на дозы разделить, то получится, что все население Владивостока сможет пребывать в хорошем настроении и не замечать отсутствия света и горячей воды месяца полтора. Но опера из Новосибирской таможни сработали так, что очевидного во Владивостоке не скрыть.
Отложил листок прокурор, пометил. Читает дальше. Другой документ, с другим же угловым штампом, читай – из другого ведомства: «28.11.2003 г. сотрудниками УФСБ по Новосибирской области задержан курьер межрегиональной преступной группировки, занимающейся торговлей наркотиками. Общий вес героина, переправляемого им транзитом через Новосибирск, составил 24,5 кг».
Вот-те на! Какие-то странные партии через Новосибирск ходят. Все по 24,5 кг и в один день. Новосибирск, получается, не географический центр России, а ее центр наркоторговли.
А это что?.. А это – письмо-оперативка из только что появившегося на свет, но уже начавшего «агукать» Комитета Госнаркоконтроля. Сообщают: «В ходе реализации оперативной информации сотрудниками Комитета по Новосибирской области 28.11.03 г. задержана партия героина, следующая транзитом из Афганистана на Дальний Восток». Ни много ни мало – без пятисот граммов четверть центнера.
Это что на поверку выходит-то, позвольте? С одной стороны, молодцы, ребята, профи. Однако как-то беспокойно за будущее становится. Если в одной столице Сибири за день опера срубают с приезжих по 73,5 кг тяжелого наркотика, то... Тогда почему нет сводок за 27.11? За 29.11? Или 28 – число такое, когда прут и прут? Опять же, если вдуматься, то все страны «Золотого треугольника», вместе взятые, столько мака вырастить просто не в состоянии. Площадей, простите, не хватит.
Копнул Генеральный тему, выяснил, успокоился. Глаза чуть прищурил, эмоций не сдал. «Во взаимодействии»! И как он не заметил? Полистал снова бумаги – нет, все правильно, 3 раскрытых преступления зарегистрировано. Все в Новосибирске, в один день, вес тот же. Три раскрытых преступления. Во взаимодействии... Да какая разница, если 3 преступления уже раскрыто? Работают люди, работают. Надо уметь во взаимодействии работать.
Председатель Комитета сам на совещание прибыть не смог, отзвонился, прислал зама. Генеральный – человек опытный, психолог отменный. Директор ФСБ сидит, спокоен, слушает. Замминистра МВД внимателен, глаз с прокурора не сводит, всегда готов к предложениям и дополнениям. А вот зампредседателя Комитета, полковник, пишет. Слово услышит – записывает. Возразит кто – перечеркивает. Служака, однозначно. Генеральный понимает: Комитет сформирован, можно сказать, вчера. Люди в него попали разные, притереться не успели, да и смысл работы для многих нов. Трудяга этот в полковничьих погонах – с «земли» в Комитет прибыл, в Управлении Западного административного округа работал, общественным порядком заведовал. А сейчас по наркотикам орудует, все больше учится, чем приказы отдает. Пусть пишет. Ему просто еще никто не сказал, что новые знания увеличивают объем незнаний.
Для чего, собственно, Генеральному прокурору собирать координационные совещания?
Все просто. Ответ кроется в 24,5 килограмма героина, изъятых у несчастного таджика группой в погонах разных цветовых оттенков. Нетрудно представить, в какой ужас его привело такое количество народа. Взаимодействие это называется, если таджик не понял.
Проблема лишь в том, что это не полнокровное взаимодействие, где каждый делает свою работу, а банальный дележ информации с целью регистрации работы на всех. Создай иные комитеты, министерства, ведомства, туда придут все те же люди, и никто не в силах отбить у них привычку делиться, лукавить и показывать больше, чем имеешь.
Потому и нудное это совещание, что трудно переубедить, тем более воспитать. Все будут делать то, что делали на протяжении долгих лет. Стаж!
Дверь в комнату для совещаний, дубовая дверь, на бронзовых петлях от притолоки до пола, приоткрылась, и в проеме ее появился человек в отутюженном кителе старшего советника юстиции.
– Прощу прощения, – предупредил Генеральный речь зампредседателя Комитета (мол, парой слов перебросимся, не считать за пренебрежение).
Человек в кителе пересек залу, склонился над плечом Генерального и стал что-то нашептывать, чуть добавляя энергетики в свою речь едва заметным шевелением руки. Участники совещания чертили взглядами по лицам прокурорских, пытаясь разгадать причину появления помощника Генерального, но ничего интересного из этого перекрестного осмотра не вынесли.
Едва помощник прокурора вышел за дверь (входить во время заседания кому-либо без особых на то причин запрещалось, и все это знали), как она снова подалась вперед, и появился полковник милиции.
Странно, но Генеральный пригласил его войти и направиться к тому, к кому он, собственно, и пытался прорваться сквозь кордон у наружной стороны дверей.
Перешептывание повторилось с тем лишь отличием, что в нем участвовало другое ведомство. Полковник скрылся за дверью, и Генеральный, сделав паузу, заметил:
– Простой пример того, что говорим мы много, а в действительности, на деле, как было, так и остается. «Взаимодействие», называется. А ведь, Михаил Сергеевич, и мой помощник, и ваш заместитель говорили об одном и том же.
– Пожалуй, – едва заметно, насколько допустимо в разговоре с Генеральным, улыбнулся замминистра. – Если вам сообщили об обнаружении трупа депутата Оресьева, то так оно и есть.
За столом движений не возникло: во-первых, статус собравшихся не тот, чтобы переглядываться и языками цокать, во-вторых, и покрепче вести слышали. Однако депутат – это уже нехорошо. В смысле, вдвойне нехорошо.
– Это тот Оресьев, что из «Отчизны»? – лишь уточнил зампредседателя Комитета.
Сообразительный полковник, далеко пойдет. Если не остановят.
– Из нее, – сказал директор. И добавил так, что даже полковнику это показалось навязчивым: – Из нее, из нее...
– А труп криминальный? – не унялся полковник из Комитета.
– Такое впечатление, что да, – сказал Генеральный и выскользнул из цепких лап необходимости делать серьезные заявления.
Право, тяжело бывшему полковнику из УВД по ЗАО здесь присутствовать. Язык слышится русский, а смысл сказанного доходит с трудом.
«Обвыкнешь, переведешь, – мысленно резюмировал, прочитав мысли милиционера, Генеральный. – Не такие ума набирались».
На том совещание можно было считать законченным. Возможно, оно длилось бы еще часа два, однако двойное вмешательство в привычный ход совещания указало на более важные проблемы. А проблема перед Генеральным сейчас стояла одна. Понять, что произошло, найти первые нити и выяснить хотя бы предварительную версию случившегося. Не пройдет и часа, как поступит вызов к первому лицу государства. И чего хотелось Генеральному меньше всего, так это на залп: кто? когда? почему? – ответить: «Все под контролем».
Ни черта не под контролем!
Выйдя из залы совещаний, Генеральный прошагал по коридору, сотрясая своим крепким и могучим телом пространство, и распахнул свою дверь.
– Начальника следственного управления ко мне, – не оборачиваясь, предупредил он секретаря, и вошел.
Несколько листков, поднявшихся над стопкой в момент его энергичного движения, опустились на место. Убедившись в этом, Нелли Ивановна Смешко, секретарь Генерального, подняла трубку.
– К нему? – раздался в трубке приятный голос.
– К нему, Егор Викторович, – улыбнулась секретарь и тоже предупредила: – Не в духе.
Егор Викторович Смагин, начальник следственного управления Генеральной прокуратуры, человек весьма приятный и по-своему симпатичный, работал с Генеральным уже четыре года. Должность начальника управления, совмещенная с должностью старшего помощника Генерального прокурора, обязывала ко многому, но и многое предоставляла. В свои неполные сорок восемь старший советник юстиции Смагин представлял собой фигуру заметную не только в физическом плане. Впрочем, о последнем также упомянуть стоит, ибо человека выше ростом (речь идет о сантиметрах) Смагина в Генеральной прокуратуре не было. Все свои сто девяносто восемь Егор Викторович содержал в боеготовности, крепости, и не было никого, кто решился бы тягаться с ним силой на руках, хотя предлагалось это не раз.
Смагин относился к той породе тактичных людей, которые, поняв, что ресурс политических ходов иссяк, переходят в атаку и действуют, опираясь на убеждение Гете о том, что «когда же все использованы средства, тогда разящий остается меч». Людей в следственное управление подбирал он сам, естественно, консультируясь с Генеральным. Без консультаций никак, потому что приказ подписывать, несмотря на занятость, все же последнему. Однако прокурор помощнику верил и еще ни разу не почувствовал сомнений.
Начинал Смагин с «земли», как принято говорить у понятливых в этой области людей. Начав трудиться следователем районной прокуратуры Брянска, он дорос до заместителя прокурора области, а в самом конце второго тысячелетия стал и прокурором. Генеральный, о наитии которого в прокуратуре ходили легенды, Смагина приметил, около года рассматривал в упор и, лишь когда убедился, что порчи на том нет, пригласил для беседы. Не так уж часты случаи, когда областные прокуроры становятся начальниками следственных управлений Генеральной прокуратуры. Это как если бы председателя областного суда ни с того ни с сего (просто ростом вышел) пригласили отправлять правосудие в Конституционный суд.
Это как если бы директора завода, коих в России сотни, назначили бы на должность первого заместителя министра тяжелой промышленности.
Или как если бы директора школы вдруг пригласили в Москву и усадили в кресло заместителя министра образования.
И последний пример для последней категории граждан. Это как если бы вокзального вора вдруг привезли в Сочи, на воровской сходняк, и надели бы на голову корону. Пример тоже не впечатляющ, однако теперь представителям всех социальных срезов населения страны ясно, что отличался Смагин не только ростом и удачливой ловлей жар-птицы за хвост, но и умом недюжинным, и хваткой известной.
Карьерный рост любил, но по трупам, лежащим на этой дороге, ведущей в постоянный подъем, не ходил. Никого подсидеть не успел, а потому косых взглядов не ловил. В Генеральной прокуратуре вообще со взглядами этими поспокойнее. Это Генеральная прокуратура (ребя-я-ята...), а не районная. Впрочем, кто этого не понимает, тот здесь и не трудится.
Больше всего в людях Смагин ненавидел слизь. Не ту, что из носа, в инкубационный период ОРЗ, а душевную. Доносы на коллег не терпел, хотя в его должности положено данный вид информации к сведению принимать и ее же реализовывать. Крикунов и агитаторов не любил, зная, что под сильными страстями часто скрывается слабая воля. Словом, человеком он был противоречивым, хорошо его знавшим казался не по той стороне дороги идущим, однако именно эти качества позволяли ему оставаться человеком порядочным и обаятельным.
Обаятельный начальник следственного управления Генеральной прокуратуры?.. Бывает.
Что не нравится людям в нем – покрыто пеленой туманности, хотя раз в Смагина все же стреляли, и следствием того явилась не шальная пуля, а вполне конкретная, осязаемая очередь из автомата Калашникова. Осязал он недолго, недели две, а потом снова вернулся в кресло прокурора области. Кто знает: не после ли той очереди, прогрохотавшей в центре Брянска, всегда занятый Генеральный его и приметил?
Генеральная прокуратура опутана сотнями километров телефонных проводов. Вместо них достаточно было бы по одному сотруднику на этаже, специально назначенному на эту должность, с поставленным баритоном и цепкой памятью, способной объять сотни имен и фамилий. Но цивилизация давно отошла от сигнальных костров и трещоток, а потому, вернувшись от Генерального, Смагин опустился в кресло и поднял трубку с телефона. Звонить в соседний кабинет – неловкое занятие лишь поначалу. Потом привыкаешь.
Уважал Смагин Кряжина по-мужски крепко, дружбой с ним не побрезговал бы, случись так, однако в Генеральной прокуратуре дружить не положено. Положено за исполнением законов и соблюдением прав человека надзирать, уголовное преследование в соответствии с полномочиями осуществлять, да деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью координировать.
До дружбы ли? С этим бы разобраться...
Глава третья
Все утро Кряжин искал топор.
Чтобы эта фраза приобрела более чудовищный смысл, следует выразить ее в более доступном виде.
Все утро седьмого июня 2004 года старший следователь по особо важным делам следственного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Кряжин Иван Дмитриевич, советник юстиции, искал в Генеральной прокуратуре топор.
Зачем ему понадобилось изделие, состоящее из лезвия с обухом и деревянной ручки, именуемой топорищем, предназначенное для рубки и колки, для всех оставалось загадкой. Некую подсказку давало слово «колка», но все сотрудники управления эту мысль решительно отторгали, зная воловатый внешне и интеллектуальный внутри гений Кряжина. Тому и в голову не пришло бы использовать плотничий инструмент в целях укрепления конституционных прав и свобод граждан.
Сломался, наверное, дверной замок – скажет следователь районной прокуратуры, любой из всех, кто рано или поздно обязательно сталкивается с проблемой входа в собственный кабинет или выхода из оного.
Но Генеральная прокуратура, помимо функциональной деятельности, отличается от районной еще и тем, что советники юстиции с топорами в руках по ней не ходят и собственные двери не ломают.
Так зачем топор Кряжину? – ломали головы коллеги удрученного бесперспективностью поиска инструмента следователя.
Пока все терялись в поисках ответа – новость многих отвлекла от дел и насторожила, – Ивану Дмитриевичу улыбнулось счастье. Обойдя все кабинеты и спустившись вниз, он прошел в кладовую завхоза, по пути журя себя за то, что не догадался сделать этого раньше. Справедливости ради следует заметить, что он, проработав на Большой Дмитровке три года, не знал, что в глубине первого этажа сложного по своей архитектуре здания находится кабинет такого должностного лица, как заведующий хозяйством. Дорогу показал, пусть дети его будут здоровы, прокурор-криминалист Молибога.
Выпросив у старика орудие, Кряжин завернул его в кусок холста, прихваченного у того же завхоза, и поднялся к себе наверх. Занятие это – прыжки по лестницам – Кряжин считал делом неблагодарным, здоровье изнашивающим и нервы изматывающим. В свои сорок два он был чуть более тучен, чем того требовала формула вычисления идеального веса: «рост минус сто», хотя мужчиной был крепким и к телу своему, как и Смагин, относился с уважением. Тем не менее, сказывались гены отца, закончившего карьеру тяжелоатлета в сорок лет. Сам Кряжин никакого железа, за исключением завхозовых топоров, не тягал, предпочитал футбол, особенно с участием родного «Торпедо», и пользовался тем, что ему дала природа к тридцати. То есть к периоду, когда рост и формирование организма заканчиваются окончательно.
Если бы в здании под номером 15, на Большой Дмитровке, не было Кряжина, его стоило бы придумать. Без таких людей жизнь местных сотрудников была бы скучна и однообразна. Гений Ивана Дмитриевича, перемешиваясь с его особенностью попадать в совершенно непредсказуемые для данного заведения ситуации, витал по Генеральной прокуратуре, освещал в сумрачные сентябрьские дни, грел февральскими вечерами и пах ароматом неизменного «Темперамента» от Франка Оливье.
На третьем этаже потух свет? Идите к Кряжину. Это он включил кофеварку.
Адвокат нефтяной компании «Вестнефть» дал показания на ее владельца? Спросите у Ивана Дмитриевича, как этого добиться, не используя мясорубку, шило и клещи. Спросите, да только он вам не скажет.
Любил ли он? – иногда задумывались некото-рые.
Было дело, дело прошлое. Десять или двенадцать лет назад (он сам уже не помнил) встретилась ему женщина, от которой исходило тепло. Она служила в Большом театре, специализируясь на ролях второго плана, но Кряжину хватало и этого. Это был безумный роман: цветы, фуршеты, страсть, истома... Смагин первым почуял неладное и начал издалека поговаривать о том, что у него есть друг, который два раза женился на артистках и оба раза прогорел. «Не завидую, – по пять раз на дню повторял всуе Смагин Кряжину, словно им и поговорить-то в Генеральной прокуратуре было больше не о чем, – тому, кто с артисткой свяжется».
Вышло так, как и предполагал Смагин. Вышло, как у бессмертного Булата, – ему кого-нибудь попроще, а он циркачку полюбил. А уж Окуджава, простите, знал, о чем писал. Артистка сделала некое подобие фуэте и улетела в Гагры с каким-то режиссером Якиным.
– Любовь одна, но подделок под нее – тысячи, – изрек на следующее утро после случившегося Кряжин.
Смагин смотрел на него с нескрываемым изумлением, пытаясь если не по запаху, то хотя бы по прожилкам глаз определить величину удара, постигшего Кряжина. Не обнаружив ничего из ожидаемого, Смагин понял, что этого человека просто так свалить нелегко.
Многие из знавших Кряжина считали, что Иван Дмитриевич рожден для подарков. Ему-де везет, ему светит солнце ярче, чем остальным, и напирали на то, что существует в мире категория людей, которым все дается легко волею случая, а не усилия.
«Стоит ли возражать? – думал Кряжин, когда до него запоздало доходили эти чужие мысли вслух. – Бывает, – усмехался он, – светит. Но ведь и так случается, что порою от бессонницы и бессилия с ума сходишь, прежде чем до истины дойдешь!»
Так не компенсация ли это за те ночи мучений и напряжения нечеловеческого?
Скажете тоже: везет...
Всем везет, не все видят это. А потому не все пользуются. Зато когда чужая манна мимо их голов сыплется, тут они поговорить мастаки.
Везет Кряжину, бесспорно, везет. Работает и с головой дружит – потому и везет. Кто не знает, в какую гавань плыть, для того попутного ветра не бывает.
Если кто-то полагает, что в Генеральной прокуратуре работают монстры, коим чужды секс, пиво и сауна, то он глупец, коих не видел свет. Работают там не монстры, люди, причем некоторые, такие, как Кряжин, болеют за «Торпедо», а другие (Генеральный, например) за «Спартак». И секс бушует, и пиво случается.
Для прищуривших в страшной догадке глаза следует решительное пояснение: не в пятнадцатом доме по Большой Дмитровке, не дождетесь.
Пьют и посещают сауну и ткач, и судья, и учитель математики, и следователь прокуратуры. Даже Генеральной прокуратуры следователь и тот выпивает и моется. Дяди пьют и тети. Главное, чтобы это происходило, говоря словами из уже затронутой «цирковой» темы, – «не на работе» и при точном знании трех положений: с кем, сколько и по какому поводу.
Войдя в кабинет, Кряжин поставил топор в угол, накинул на него рогожу, чтобы людей не пугал, и вызвал конвой с арестованным.
Тот, в отношении кого была избрана мера пресечения «содержание под стражей», семейного дебошира не напоминал. Скорее, в нем виделся владелец сети казино или половины морского побережья Крыма. Впрочем, почему – виделся? – он и был владельцем сети казино Москвы, небезызвестный в криминальных кругах Сажин. «Одежда весит никак не меньше двух тонн долларов – и это в июне» (цитата из пояснений Кряжина Смагину около недели назад), взгляд наглый, уверенный в незаконности избранной меры, отсвечивающий перспективой для хозяина и бесперспективностью для следователя по особо важным делам. Вменялся, между тем, владельцу игрового бизнеса, по меркам столицы, плевый «косяк» – покушение на жизнь депутата Московской городской думы, явившегося первопричиной отбора лицензии на занятие упомянутой деятельностью.
Взрыв был, никто этого не отрицал, но вот от причастности Сажина к этому взрыву решительно отмахивался сам Сажин. Был еще один, кто это отрицание мог свести к утверждению в обратном, и Кряжин искал его долго и старательно. Догадывался Иван Дмитриевич и о ста тысячах долларов, уплаченных в качестве задатка за производство небольшого хлопка под «Мерседесом» законодателя, догадывался и о том, кто тот задаток выплатил. И кому выплатил, тоже догадывался.
Работа была проделана немалая, и в тот момент, когда киллер-неудачник, уже боясь за свою жизнь, позвонил Кряжину и дал предварительные пояснения, через два часа он почему-то был обнаружен в собственном доме на Рублевском шоссе с раскроенной головой. А с раскроенной головой в суде, как и на предварительном следствии в кабинете Кряжина, хоть разбейся окончательно, веры к себе не возымеешь.
– Нечем вам меня присовокупить с делом, – полагая, что излагает высоким штилем, говорил вчера Сажин Кряжину.
– Совокупить с телом всегда есть чем, – возражал не склонный к самобичеванию Иван Дмитриевич.
И сегодня, едва Сажин вошел в кабинет, первое, что он увидел, было лезвие топора, заботливо укрытое следствием от посторонних глаз. Второе, что представилось его воспаленному ужасом сознанию, – лицо довольного Кряжина.
– Присаживайтесь, Яков Александрович, – говорил упрямый «важняк» (отказался сегодня утром, подлец, от ста тысяч «зеленых»). – Наступил момент истины. Все, что мне осталось, это выяснить, сами вы наносили удар гражданину Мыссу или это делал ваш очередной исполнитель. Он утверждает, что это делали вы. И я его понимаю. Семь-десять лет – судья точно знает, сколько – на дороге не валяются.
Игрок по жизни, Сажин, не сводя с края лезвия глаз, колебался недолго. Эту партию он продул вчистую. Шестерка Баулов должен был убрать исполнителя покушения на депутата и исчезнуть из города. Убрал топором, как и велено было, чтобы не отсвечивало откровенной «заказухой». Так, мол, залез алкаш в дом поживиться, а тут и хозяин проснулся. Что делать было алкашу? С его-то несколькими, мол, судимостями?
Сейчас топор здесь, Баулов тоже, и эта сволочь не хочет становиться «паровозом». И Сажин перестал колебаться.
Кряжин же, владеющий основами человеческого общения, уже давно уяснил для себя простую истину, изложенную некогда Владимиром Лениным в письмах к Арманд: «Если уж непременно хотите, то и мимолетная связь-страсть может быть и грязная, может быть и чистая». Известно доподлинно, что имел в виду, размышляя об этом, Владимир Ильич, обращаясь к Инессе, но для Ивана Дмитриевича эта мысль давно открылась с другой стороны: что бы ты ни делал, вступая в контакт с подозреваемым, насколько бы сомнительно ни выглядели способы достижения истины, главное, чтобы до предела распахнутой оставалась сама истина, являющаяся закону.
Самое сложное порою оказывается таким простым, что основное усилие нужно направлять не на поиск доказательств, а на банальный обман. Не вопрос, что завтра это уже не получится, но и не факт, что до этого додумался бы кто-то еще.
«Покушенца» в стиле «эсерского» выпада начала прошлого века увели через час. Отобрав письменно все самое необходимое и закрепив тем факты, Кряжин, чтобы тот не напорол в горячке лишнего, дал ему время подумать и разложить по полочкам все, на чем Сажин теперь, при помощи адвоката, будет строить свою защиту. Пусть строят. Теперь это уже не главное.
Теперь главное. На что он, собственно, потратил минут тридцать сегодняшнего утра.
Проклятый сейф снова стал дурковать, только в отличие от дней предыдущих нынче вовсе отказался открывать дверцу. А без сейфа следователю никак нельзя. В сейфе дела, а без дел следователю в прокуратуре делать нечего. Вчера металлический шкаф – как его мудрено называют инвентаризаторы – замкнулся, как пойманный с поличным вор-рецидивист, и наотрез отказался выдавать тома уголовных дел. А в томах: справки, экспертизы, допросы, осмотры... А следователю, как и участковому без свистка, без бумаг нельзя.
Нет, день наступивший преподносит сюрприз за сюрпризом. Один с утра пораньше расклад полный дает ни с того, ни с сего, второй по той же причине запирается наглухо...
Бог здоровьем не обидел, Кряжин приналег, и дверца, с возмущенным грохотом отскочив от железного уголка, ударилась о стену и стала вибрировать, как камертон.
Теперь новая напасть. Того же завхоза, возвращая топор, придется уговаривать на установку нового замка.
А вы что думали? – следователи Генеральной прокуратуры другой жизнью живут? Если бы...
А, все равно, день начался хорошо. Сажин не сдюжил, сломался, а это – главное. Да и сейф тоже не сдержался. А, говорят, Кряжину просто везет. Работает, потому и везет.
Топор же нужно было возвращать, что, собственно, Кряжин и собрался делать, однако его движение к двери остановил телефонный звонок.
Иван Дмитриевич кинул взгляд на наручные «Сейко». Для обеда с Волощуком еще рано, для совещания у Смагина поздно. Тем не менее, это был начальник следственного управления.
– Иван Дмитриевич, срочно зайди ко мне.
Было с чем идти, и Кряжин, секунду подумав, вовремя спохватился и с улыбкой положил топор на стол. Нет, не это он имел в виду, размышляя о багаже, который следует прихватить с собой на вызов...
Вот теперь можно и к начальнику следственного управления Генеральной прокуратуры следовать. На то он и следователь.
– Это хорошо, что Сажин продавился, – несмотря на откровенно приятную новость, Смагин казался не очень обрадованным.
В кабинете Егора Викторовича всегда пахло полиролью и чистотой. Есть такой запах, напоминающий букет дуновения свежего ветерка, хорошего настроения и тонкого, едва уловимого привкуса терпкого аромата одеколона Смагина. Почему некоторые считают, что пахнут только дурные дела? Чистота тоже имеет запах. У Кряжина такой атмосферы в кабинете не встретишь. У него основную палитру запахов составляют бумажные оттенки: бумага чистая, бумага, покрытая буквами компьютерной верстки, бумага, заполненная чернильными рукописями. Еще пахнет выхлопными газами, но вины Кряжина в этом нет. Кабинет его на третьем этаже, форточки в любое время года распахнуты, и в помещение каждый день врываются невидимые клубы бензинового перегара. Невидимые они лишь поначалу, если же эту копоть не удалять в течение недели, то портрет Президента и портрет Ломброзо, глядящие со стен друг на друга, покрываются тонким слоем копоти. Копоть, как и любую грязь, Иван Дмитриевич не любит, не приемлет, а потому есть у него и тряпка специальная, и стеклоочиститель для портретных рамок.
В прошлом году, когда горел торф, дело обстояло еще хуже: закроешь окна – задыхаешься, откроешь – задыхаешься еще быстрее. «Важняка» Ваина в те дни увезли на «скорой» прямо в больницу. Следователи – они только на вид сильные и важные. На самом деле – это люди, имеющие сердце, которое часто дает сбои.
Смагину проще: его кабинет на четвертом этаже, а потому газов все меньше. В период борьбы с торфяниками Егор Викторович раздобыл где-то фильтрационную вставку в форточку да так напасть и переждал.
Кабинет у Смагина больше, и это понятно. Говорят, одно время в нем сидел сам Гдлян, фамилию которого весь Советский Союз привык произносить лишь вкупе с Ивановым, как в свое время Ильфа не разлучали с Петровым. Одно время некоторые думали, что Ильф-Петров и Гдлян-Иванов – это два человека, один из которых писал о Бендере, а второй об узбекской мафии. Интересное дело, если вдуматься: Ильф, Петров... Иванов, Гдлян... Такое впечатление, что пары начинают казаться гениальными лишь тогда, когда что-то недостающее у одной национальности компенсируется избытком у второй. И, соответственно, наоборот. Кряжин часто думал об этом и готов был голову заложить на спор о том, что у Иванова с Петровым ничего бы не получилось, как не получилось бы у Ильфа с Гдляном. Когда русского слишком много, нужно тотчас искать катализатор, который направит нескончаемый поток энергии первого на разумные дела.
– В невероятное время живем, Иван Дмитриевич, – вздохнул старший помощник Генерального прокурора и стал расстегивать на рубашке пуговицу. Он пришивал ее утром самолично, но чуть перетянул нить. Раньше бывало: раз! – пальцами, и воротник отскакивает в стороны, как запружиненная кобура. Сейчас не получается. Пуговица после пришивания мужской рукой так врезалась в материал, что без второй руки никак не обойтись. – В страшное время. События разворачиваются стихийно, и окажись в любую минуту неготовым к встрече с неприятностью, окажешься за бортом этих событий.
По тому, сколько тянулась пауза, и некоторой отвлеченной лексике начальника следственного управления, которого Кряжин всегда понимал и без одухотворенных аллегорий, он догадался, что наступившее утро не столь уж безоблачно, каким казалось в первые свои часы.
– Простите за эпатаж, Иван Дмитриевич, времени для объяснений – почему вы, а не кто-то – нет, а состояние мое близко к растерянности. Я только что от Генерального, он также не в лучшем расположении. Чтобы вам было понятно: в таком состоянии духа находится присевший лев.
– Присевший для чего? – спросил Кряжин, решив оборвать затянувшуюся прелюдию сразу и навсегда.
– Для прыжка, Иван Дмитриевич, для решительного прыжка. Мы все сидим, дергая от нетерпения хвостами, а команды для решительного рывка нет.
Похоже, Смагин на самом деле был взволнован. Он опять тянет с главным, размышляя о вечном. Все от прокуратуры требуют, но вместо того, чтобы сдернуть намордник, тихо командуют: «к ноге»...
– Ладно, Егор Викторович, я понял, – следователь сделал последнюю попытку вернуть начальника на землю. – Где меня ждут?
– Ты пойми, Иван, дело на контроле у Генерального. И, похоже, не только у одного его. Резниковскую знаешь?
– Речь об улице или о сумасшедшей, которая три года назад зарезала жениха своей дочери? Если об улице, то она в Западном административном округе, если не ошибаюсь, – не дожидаясь разрешения, Кряжин присел уже давно, но сигареты из кармана потянул только сейчас. Вспомнил, что Смагин не курит, убрал.
– А фамилию Оресьев слышал?
Кряжин напрягся. В мае сего года в Генпрокуратуру поступил депутатский запрос из Государственной думы, в котором автор, депутат блока «Отчизна» Оресьев П.Ф., просил организовать проверку некоторых членов другой оппозиционной партии на предмет их причастности к событиям, которые вот уже восемь лет разворачиваются у южных границ страны. Сосредоточившись, Иван Дмитриевич вспомнил даже некоторые фамилии и фразы из запроса. Самая интересная из них звучала так: «В связи с активным ростом капитала отдельных членов партии «МИР» и участившимися финансовообъемными терактами на территории Республики Чечня просим вас организовать проверку данных лиц на причастность к финансированию международного терроризма и отмыванию средств, нажитых преступным путем...» О Пеструхине каком-то и иже с ним речь шла, кажется.
Проверку проводил «важняк» из управления Смагина Любомиров, и, когда у последнего в ходе работы начали проявляться признаки плохо скрытого раздражения (это стал замечать даже Смагин), Любомиров сам пришел к Кряжину. Говорил долго, сбивчиво, чаще произносил не указанные в запросе фамилии, а фамилию автора проекта, показывал рукой на стену (там находился его кабинет), перечислял свои дела, находящиеся в сейфе за этой стеной, и через фразу повторял:
– У меня, ... семь дел с фамилиями фигурантов, от одного упоминания которых, ... Москва, ... положение упора присев принимает, а мне дают эти... запросы, словно я только что вышел из отпуска и не знаю, чем заняться!! ... Посоветуй, что делать?
По тем выкладкам, которые представлял в Генпрокуратуру Оресьев П.Ф., Любомирову светили долгосрочные командировки в Мандози, Ашкелон, Фелис-Гомес, Ачхой-Мартан и Нурата.
Собственно, приходил-то Любомиров не возмущаться, а поделиться радостной новостью – путешествие виделось ему долгим и приятным. Когда же от своего интеллектуально одаренного коллеги Любомиров узнал, что эти города находятся в Палестине, Мексике, Чечне и Узбекистане соответственно, он посерел лицом и почему-то сразу сник.
– Ну, а Мандози? Мандози, Кряжин? Итальянское ведь название...
– Название, может, и итальянское, – согласился Иван Дмитриевич, – но дали его городу, расположенному на юге Афганистана. А что ты расстроился, Сергей? Загоришь, проветришься.
Проветриваться в Афгане, как и секторе Газа, Любомиров почему-то не хотел и всячески пытался славировать между плохим самочувствием, которое у него вызывают южные широты, и неотложными делами в столице. По акцентированным возмущенным выкрикам коллеги Кряжин догадался, что при такой загруженности в Москве, как у исполнителя депутатского запроса, тому не может помешать лишь Фелис-Гомес, тот, что в Мексике. Командировки во все остальные места отстирывания преступного капитала просто вышибут из-под ног «важняка» табурет и заставят просрочить все дела, находящиеся в производстве. По старой привычке опытного сыщика пользоваться случаем и вникать во все, что не имеет отношения к нему, Иван Дмитриевич изучил документы, после чего вернул их владельцу и сказал, что помочь ничем не может. В крайнем случае, если ориентироваться на предоставленные из Думы документы, сказал он, можно избежать поездки в Марокко.
Именно поэтому он сейчас и вспомнил фамилию Оресьева. Вспомнил сразу, как и улицу Резниковскую.
– А что делал на Резниковской депутат Госдумы? – резонно поинтересовался Кряжин, подумав вдруг о совершенном отсутствии связи между улицей, которая по планам городского комитета по архитектуре почти полностью готовилась к уничтожению по причине переизбытка ветхого жилья, и народным избранником с Охотного ряда. – Принимал наказы избирателей?
Смагин пожал плечами, явно давая понять Кряжину, что для того он сейчас и поедет на территорию Западного административного округа, чтобы ответить на этот вопрос и сотни других, которые появятся сразу после получения ответа на первый.
Окружная прокуратура, милиция, судмедэксперт – все эти люди, появляющиеся в местах обнаружения трупов, были уже на месте. Но на груди трупа сиял значок депутата нижней палаты, а это обязывало прибыть к месту еще как минимум одного человека – следователя Генеральной прокуратуры.
Правильно сказал Смагин – присевший лев. Если бы нашли труп жителя Резниковской улицы, качественный состав присутствующих ограничился бы «нижней палатой» прокуратуры округа. Ну, а поскольку депутат проживал не на Резниковской, а на Улофа Пальме, да еще и сам из нижней палаты, тут, конечно...
Кряжин, который уже мчался в черной «Волге» и разглядывал по сторонам яркие рекламные щиты, прекрасно понимал, что депутата-законодателя за пару тысяч стрелять в затылок не станут. Депутатов бьют по более веским основаниям. Но из оснований у Кряжина пока было только одно – основание черепа, пробитое пулей неустановленного оружия.
Ничего пока в активе не было, если не брать в расчет джип «Лэнд Круизер» и мертвого депутата в нем.
Глава четвертая
Иван Дмитриевич Кряжин относился к той породе следователей (не группе, не категории, а именно – породе, ибо настоящими следователями, как говаривал сам Кряжин, становятся лишь после сложных генетических трансформаций предыдущих поколений), которые очень хорошо понимают, что нужно делать, когда, приезжая к месту совершения дерзкого преступления, следователь упирается лбом в стену. Эти знания становятся востребованными, когда становится понятно, что стена гораздо крепче головы сотрудника Генеральной прокуратуры.
Следственная тактика – неизменный спутник любого, кто решается ступить на тропу распутывания клубка, уводящего в лабиринт. Без понимания необходимости тактики в таком лабиринте делать нечего. Начало распутывания сложной системы резко отрицательных человеческих отношений, именуемых «преступлением», начинается не в тот момент, когда следователю становится ясна картина происшествия: на заднем сиденье джипа раздается выстрел пистолета, и на приборную панель брызжут мозги народного избранника...
Почему окружная прокуратура сообщила об убийстве в прокуратуру Генеральную? – вот основной вопрос, которым должен задаться следователь, подъезжающий к месту преступления.
Ответ: потому что убит депутат Государственной думы. Потому что убийство депутатов всегда носит более серьезный подтекст, нежели банальная «мокруха», сотворенная над «вором в законе». Депутата убивают в двух случаях: а) он сделал все возможное, чтобы кто-то заработал очень мало денег или не заработал вовсе, и противной стороной это воспринято реально; б) кто-то решил, что нужно депутата остановить, пока он не заработал все, и это тоже для противной стороны очевидно.
Кто-то скромно назвал палату «нижней», и не всем понятно, с чем это связано. Нижняя, потому что внизу, с людьми, делает все для людей и ориентируется на их нужды? Или она нижняя, потому что выше некуда – над ней лишь Господь?
Как бы то ни было, окружная прокуратура свое слово уже сказала. Все, что касается людей – в их ведении.
Иван Дмитриевич из наиболее приметных своему образу жизни предков выделял только одного: дед Кряжина, Евграф Поликарпович Кряжин, служил околоточным надзирателем на Пречистенке. Хоть и мало похожего, а нет-нет, да и вспомнит Иван Дмитриевич предка, сходит в церковь, поставит свечку. Шутил он насчет генеалогии, конечно, шутил. Юморил с серьезным лицом, приводя многих в недоумение по поводу такого демографического анализа. Все, что Кряжин знал, что умел и чем пользовался, он вынес не в генах, а из своего тяжкого труда во Владимирской прокуратуре, откуда родом был, и где начинал службу в структуре «ока государева». Еще молодым следователем читал книги, ходил по пятам за «зубрами», распутывающими узлы «мокрух» и изнасилований на владимирских улицах и в квартирах, вникал в каждое их слово, привыкал к каждому их жесту.
Следователь прокуратуры, не важно, какой – Генеральной, окружной, районной, – должен всегда помнить несколько правил, которые отличают его от остальных людей в погонах.
Правило простое, но запоминают его не все. Не все, а потому из-под таких следователей дело «берется на контроль» и находится под тем контролем вечно.
Не бывает убийства, о совершении которого знает лишь сам убийца.
Обязательно есть еще кто-то, кто видел или слышал что-то либо «до», либо «во время», либо «после». Свидетель – спаситель всех следователей, чья карьера поставлена на кон.
Но свидетеля найти мало. Свидетеля нужно понять, а еще сделать так, чтобы он понял следователя. В противном случае это будет не свидетель, а субъект, способный без личного интереса и не подозревающий об этом укрыть преступление так, что потом распустить его по ниткам будет просто невозможно.
Всех свидетелей Кряжин, как человек умный, делил на четыре категории.
Ситуация: разбито окно, и рука хозяина квартиры крепко держит конопатое ухо маленького мерзавца, первого попавшегося на глаза после выхода хозяина на улицу. Кто он, этот шкет, – видел, как окно «выносили», или сам «выносил»? Вот вопрос так вопрос... Он тем труднее, чем дальше хозяин стоял от окна. И вопрос превращается в «глухарь», если в тот момент, когда кирпич залетал в окно, хозяин сидел в ванне и мылил подмышки.
Собственно, ничем ситуация не отличается от той, которую сейчас наблюдал Кряжин, глядя, как молодой следователь из прокуратуры Западного округа пытается разговорить деда у джипа.
Потому-то всех и допрашивают сначала, как свидетелей, что понять нужно, кто он на самом деле, этот с в и д е т е л ь. Вот кто этот дед и эта тетка сорокалетняя, возражающая на показания деда и тем окончательно сводящая с ума молоденького следователя?
Первая группа: дед обладает нужной информацией, правильно ее воспринял. И хочет и может правильно воспроизвести ее следователю, получается (то же касается и тетки).
Вторая: дед с костылем владеет нужной информацией, но понял ее неправильно, а потому неправильно следователю и передает.
Третья: дед в серых брюках и коричневом пиджаке с орденом Отечественной войны второй степени информацией владеет, но сознательно ее скрывает или выдает такую, что лучше бы не выдавал вовсе (не забыть о тетке).
И, наконец, четвертая группа, к коей вполне может быть отнесен этот старик с гладко выбритыми щеками, в голубой матерчатой кепке и с бесплатной газеткой-агиткой в правом кармане пиджака: он вообще не понимает, о чем ведет речь следователь, но следователь полагает, что дед информацию скрывает, и причин такому «непониманию» деда, по мнению следователя, может быть множество.
– Подойдите сюда, – тихо велит Кряжин следователю, старику и тетке одновременно, пресытившись их бестолковой перебранкой. – Вы кто?
Вопрос обращен к старику с клюкой, поэтому он, подбоченясь, тычет пальцем в джип и изрекает голосом, похожим на звук из сломанного кларнета:
– Я говорю: вот из этого трактора утром вышел человек с портфелей и ушел в сторону Зыряновской. Ковырялся в салоне минуты две, потом хлопнул дверцей – я аж от окна отскочил, думал – выстрел. Нет, смотрю – мужик с портфелей. Хлопнул и ушел.
– Вы кто?
Дед опешил: так его в этом дворе еще никто не унижал.
– Да Михеич это, из тридцать второй! – помогла тетка, сообразив, что это как раз тот момент, когда можно взять вожжи беседы в свои руки. – Он контужен на Висле, поэтому не все слышит.
– Как я понял, слух у него неплохой, – заметил между делом Кряжин, пытаясь понять, где в этом доме расположена тридцать вторая квартира. – А вы кто?
– А я Семиряжская, из сороковой. Вы старика не слушайте, вы меня послушайте. Сегодня сплю, вдруг, часа в два ночи – бах! – я проснулась. Подхожу к окну – стоит этот джип. В нем вот этот, с головой разбитой, и еще один. Через минуту второй вышел, а этот остался. Я думаю – ну, довез приятеля, сейчас и сам уедет, и пошла спать. А утром милиция приехала. Такие дела, товарищ милиционер.
Кряжин, чуть пошевелив шеей, освобождая кадык от воротника, задрал голову вверх. Тетка дважды указала на свои окна и теперь ждала орден за участие в раскрытии дерзкого убийства.
– А как мужчина выглядел? – и ему еще трижды пришлось уточнить: какой, когда и во сколько, что уже сейчас дало Кряжину все основания полагать, что его водят за нос.
– Лет тридцать пять – сорок, – без раздумий заявила тетка из сороковой. – Серый пиджак, черные брюки, на ногах – туфли. Да, туфли на ногах, – добавила она, давая Ивану Дмитриевичу лишнее основание думать о ее причастности к третьей свидетельской группе.
Дед тут же встрял в разговор, заявляя, что было не два часа, а половина девятого, что не тридцать пять – сорок, а за сорок и не пиджак, а обычные тряпки уличного бродяги: серая куртка, неопределенного цвета штаны и кроссовки. Спор грозил перейти в боестолкновение, каждый гнул свою линию, причем гнул так настойчиво, что могла возникнуть убежденность в правоте обоих одновременно. К джипу стали стягиваться дополнительные силы с обеих сторон, Кряжину надоело, и он решительно ткнул пальцем в окна на четвертом этаже:
– Гражданка, эти пластиковые окна ваши?
Та призналась – ее.
– Они с шумоизоляцией – раз, уличный фонарь над джипом разбит – два, из ваших окон видна лишь крыша машины – три. Вы будете продолжать настаивать на том, что слышали выстрел? И что в два часа ночи на неосвещенной улице через крышу автомобиля видели, кто там сидит и как выглядел вышедший?
Разоблаченная, она злобно пробормотала что-то о том, что «помогать милиции – дело неблагодарное», подхватила сумки, с коими полчаса назад во дворе и была застигнута врасплох молодым следователем, и заспешила в квартиру с пластиковыми окнами.
– Вы спросили – мои окна? – я ответила, мои! Но я же не сказала, что дома в два часа ночи была! – сообразив, что в горячке рассказывает всему двору свою биографию, спохватилась она и заторопилась в подъезд.
Глядя ей вслед, Иван Дмитриевич готов был поклясться, что мужа у женщины нет, острота жизни, так необходимая ей в эти годы, пропала, а потому лучшее, до чего она может додуматься, это поучаствовать в детективе.
Освободившись от злоумышленницы, Кряжин развернулся к ветерану и еще раз слово в слово выслушал историю об утренних хлопках дверью.
– В бродяжьей робе, говорите?
– В ней...
В джипе работал прокурор-криминалист Молибога, ровесник Кряжина. Судебный медик к телу Оресьева пока не прикасался, зная, что очередь его наступит лишь после того, как следователь произведет осмотр. Несколько милиционеров в кепи и высоких ботинках, в которых нынче ходят все, кому положены погоны, гнали толпу на невыгодное для той расстояние, молоденький следователь окружной прокуратуры не отходил от «важняка» из Генеральной ни на шаг. Бросая на него мимолетные взгляды, Кряжин по-доброму таил на губах улыбку. Вот так же когда-то, лет двадцать назад...
– ...Я встаю всегда в восемь. Просыпаюсь, конечно, когда бог уснуть даст, гораздо раньше, около пяти. Но лежу, потому что делать нечего, почту приносят только в половине девятого...
Узкая дорога, разделяющая дом с такими же узкими, словно встроенными в насмешку – шириной в метр – газонами. Слева – полуразрушенное здание. Похоже, валили вчера и будут валить сегодня, потому что неподалеку замер без хозяина мощный бульдозер и экскаватор с грузом величиною с комнату в малосемейке.
В Москве уже давно ничего не сносят методом подрыва, что обходится гораздо дешевле и быстрее. Где-то в конце девяностых, после Каширского шоссе, Буйнакска и Пятигорска у людей произошел психологический надлом, и от взрыва в нескольких километрах, от которого раньше не проснулся бы даже этот ветеран, страдающий бессонницей, у многих может просто отказать сердце.
Не сносят сегодня в Москве подрывом, трактор используют, по старинке. Кажется, еще пара лет, и запретят салюты. Страшно. Хоть один во время фейерверка умрет – уже убийство. А кому хочется грех на душу брать?
«Вчера домишко сносили, – думалось Кряжину. – Пыль вот она, и на дверях дома, и на тротуаре. Следов вокруг джипа натоптали – святых выноси. Расстояние большое от стройки до дороги, а потому исключается, что стреляли из развалин, с прицелом, и в окно, открытое справа от Оресьева, попали. Но сзади все-таки кто-то сидел, иначе зачем было бы депутату окошко позади себя наполовину приспускать? Слева бы приоткрыл. Да и тому не нужно было бы, если не курил».
– Молибога, – крикнул Кряжин криминалисту, не переставая слушать деда. – Посмотри-ка на земле, рядом с джипом, где окошко приоткрыто. Может, словишь удачу за хвост?
– ...Подхожу к ящику – точно, есть «Отчизна». За что уважаю депутатов, так это за печать. Вот, к примеру, не будь «Отчизны» с ее газетами, откуда бы я узнал, что в стране премьера сменили? Телевизора у меня нет, так что «ящик» у меня только один. Тот, что между первым и вторым этажами. На «Правду» на пенсию не раскошелишься, радиоточку отрезали, потому как к сносу готовят. Что старому дрищу делать?..
– Ну, это вы чересчур, – возразил Кряжин.
– Ничего не чересчур, – обреченно отмахнулся дед. – Среди прочей прессы, встречающейся в ящике, наиболее уважаю «Отчизну». Что партию, что газету. И название правильное, и власть критикуют. А вот, взять, к примеру...
«Картина, вообще, странная. Если не стреляли со стройки, а стреляли с заднего сиденья, тогда почему кровь на рубашке есть, на пиджаке есть, а на внутренней стороне лобового стекла нет? Почему ее нет и на передней панели салона?
Опять же, не вопрос. Могли стрелять из мелкокалиберного пистолета или иной прилады – сейчас их в Москве пруд пруди. Пуля пробила затылочную кость, сплющилась, уже внутри врезалась в кости лица и отскочила обратно. В голове фарш, снаружи – скромные свидетельства об имевшем место зверстве. Продумано, не вопрос... Если стреляли, конечно, с заднего сиденья. Впрочем, экспертиза на эти вопросы ответит, главное, их задать».
Молибога вернулся с целлофановым пакетиком, в котором болтался металлический предмет, похожий на крупную авторучку. В СССР такие пользовали школьники для уроков русского языка. Зеленым подчеркивается сказуемое, синим – прилагательное, черным – глагол, а красным учитель ставит двойку за то, чтобы школьник не страдал дальтонизмом.
– Что сие?
– Сие есть предмет, используемый в качестве огнестрельного оружия, – подумав, Молибога добавил: – Так, во всяком случае, мне кажется.
– Где изыскал?
– Где и надеялся изыскать, когда не нашел на ковриках – в кармашке спинки сиденья.
Молибога – хороший человек. Впервые Кряжин встретил его здесь, в Генеральной, а потому кажется, что тот трудится в ней всю жизнь. Из-за своей фамилии Николай постоянно претерпевал трудности, но никогда не соглашался изменить своему родовому имени. Предлагали фамилию сменить, жена уговаривала, с девичьей фамилией Голицына:
– Коля, я умоляю. Есть из чего выбрать. Голицыны Россией управляли.
А однажды Генеральный, застав Николая Ефремовича в лаборатории за игрой в компьютерный тетрис, сказал:
– Молибога, моли бога, тебе до пенсии всего ничего осталось.
Услышал этот дуплет Николай и впал в панику. Спасибо Кряжину, находившемуся в тот момент в лаборатории, объяснил, что именно имел в виду Генеральный, иначе ходить бы Молибоге до самой пенсии в опаске, что беда может случиться в любой момент.
Работал с Кряжиным Молибога часто, так что разговаривали они на языке, более им близком и непонятном для большинства окружающих.
Проверит Николай «предмет», проверит. Он по этой части мастак, каких в Генеральной днем с огнем не найти.
Но все же, как стреляли? Экспертиза, она, конечно, до сантиметра расстояние вычислит, но хочется узнать уже сейчас, чтобы поверить этому деду, нудящему прямо в ухо:
– Я видел его, как себя в зеркале. Роста среднего, чуть пониже вас будет. Телосложением тощий, как этот ваш эклерт (указал на выискивающего что-то под джипом Молибогу), а одет хуже, чем я. Бродяга, я так думаю.
Был ли звук выстрела? – Нет.
Торопился мужик от джипа? – Дюже поспешал.
Что в руках держал? – Пакет срамной, с коим бомжи Москву перед приезжими позорют, и портфелю черную, толстую.
Подозрений у человека тем больше, чем меньше он знает. Иван Дмитриевич относился к этому со всею своей мудростью, а потому не паниковал по поводу десятков версий, заметавшихся в его голове косяком чаек, а все больше смотрел и слушал. Уметь смотреть и слушать – главные качества следователя. Не стоит пытаться вычленять главное из услышанного в первую минуту, ибо давно Кряжину было известно, что есть ложь, есть очень большая ложь, а есть свидетельские показания.
Вот солнцу, тому было все равно. В отличие от женщин и мужчин, проявивших себя крайне любознательными, но очень боязливыми субъектами, к джипу старались пролезть все, но заглянуть внутрь не спешил никто; солнце выползло на небо, полностью завладело им и начало свою неспешную прогулку. Заглядывало в помойные баки, подчищенные еще ночью бродягами, светило в лобовое стекло большой машины во дворе, для стоянки такой машины не приспособленном, словом, любопытствовало и замараться не боялось.
Для Кряжина наступил самый нелюбимый, но один из самых важных моментов в работе. Он всегда оттягивал его, словно ждал, что выйдет какой-то указ об отмене протоколирования места происшествия осмотром, но каждый раз, понимая, что это почти главное, вынимал из пачки бланк протокола.
Следователь нерадивый производит осмотр с тем умыслом, что осмотр является частью следственной работы, и за его непроведение, мягко говоря, благодарность не объявят. А потому картина, описанная им в протоколе, являет собой некое подобие фривольных фантазий Пикассо в его бессмертной «Гернике». Читая такие протоколы при проведении судебного следствия, судьи, те, что понезависимее и беспристрастнее, начинают чувствовать легкое головокружение от невозможности мысленно обозреть и сформировать в своем понимании нарисованный сюжет. «Смешались в кучу кони, люди» – это не из батальной сцены попытки покорения Наполеоном России. Это суть протокола осмотра места происшествия следователем, не носящим в папке (ранце) погон государственного советника юстиции (маршальского жезла).
Кряжин такой подход к делу презирал, к людям, к нему склонным, относился с усмешкой и имел на сей счет свое собственное мнение. Осмотр – начало всех начал, считал Кряжин, он дает возможность следователю получить информацию для выдвижения общих и специфических версий о событии, личности преступника, совершившего убийство, и при условии слаженной работы криминалистов и оперативников получить данные для организации поиска преступника по горячим следам.
Ох, уж эти горячие следы...
Попробуй, зашагай по ним, зная, что убийство заказное, а ручка-самострел куплена вчера на Горбушке! Это при «бытовухе» частенько случается, что убийцы засыпают рядом с трупом пораженного врага и совершенно не понимают, почему наутро их будят двое в форме, двое в штатском. Будят, зачем-то бьют и надевают наручники. Вот это и есть горячие следы – настолько горячие, что с места сдвинуться не в состоянии. Бери, разделяй их в камерах и властвуй.
Условия, при которых производится осмотр, температура, освещение...
Местность... Привязка, расположение относительно объектов... Стройка. Эта стройка! – она не дает Кряжину покоя!..
Автомобиль... Марка, номер кузова, цвет, номер двигателя, его объем, запах внутри... Материал сидений, невскрытый блок сигарет «Парламент» в кармашке одного из них... Молибога получил резкий втык и сейчас показывает место, из которого он не должен был вынимать «самострел» ни при каких обстоятельствах. Понятые, кажется, внимания на этом не заострили. В любом случае замечаний и вопросов не последовало. А Молибоге за проделку втык нужно будет сделать еще раз.
Труп...
Из протокола осмотра трупа 12.06.2004 г., г. Москва, место составления – площадка перед домом 18 по ул. Резниковской:
«Труп мужчины, приблизительно сорока лет, находится на переднем водительском сиденье автомобиля в положении сидя. Голова трупа откинута на подголовник сиденья и чуть наклонена влево. Левая рука трупа располагается между сиденьем и дверцей, в момент открывания дверцы рука провисла. Правая рука ладонью вниз лежит на подлокотнике, расположенном между водительским и пассажирским сиденьями. Ноги трупа широко расставлены, ступни находятся под педалями автомобиля, чуть вывернуты внутрь...
Рот трупа полуоткрыт, в правом уголке рта видны следы запекшегося темного вещества, с левого угла рта свисает засохшая нить слюны со следами бурого вещества. Глаза трупа полуоткрыты...
На затылочной части головы трупа имеется ранение, напоминающее входное отверстие от пули. Волосы на затылке длиною около пяти миллиметров, опалены вокруг раны. Других повреждений на теле трупа на момент его осмотра в 12.47 не обнаружено...
На трупе надет пиджак и брюки из идентичного (на вид) материала светло-серого цвета в белую полоску, расстояние между полосками 10 миллиметров. На подкладке пиджака и брюк имеются вшитые фирменные ярлыки размером 60х37 мм черного цвета с вышитыми золотистой нитью надписями на английском языке: «Ricco Ponti. Design of Itali». Под указанные ярлыки вшиты ярлыки-«флажки» размером 22х15 мм черного цвета с арабскими цифрами: «44».
На левом лацкане пиджака обнаружен значок, символизирующий развевающийся вправо Государственный флаг России. На оборотной стороне значка имеется резьбовая гайка, имеющая по окружности надпись: «Московский монетный двор»...
Правый лацкан пиджака, его воротник и правая часть груди покрыта веществом бурого цвета. На задней части правого рукава (в районе локтя) имеются два пятна, оставленные веществом бурого цвета размером 20х30 мм и 24х32 мм соответственно...
На ступнях трупа обнаружены туфли черного цвета со шнурками черного цвета, каблуки имеют следы ремонта (нижняя часть каблука заменена и окрашена в черный цвет). На подошвах видны плохо видимые цифры «43». Носки хлопчатобумажные, черного цвета, без видимых следов долгого ношения...
На шее трупа обнаружена цепь из металла желтого цвета толщиной в 1 (один) миллиметр простого плетения, на цепи имеется медальон из металла желтого цвета в виде иконы Божией Матери, держащей на руках Младенца. Медальон размером 32х15 мм, толщиной 2 мм. На изделиях имеются пробы в виде вдавленных штампов женской головы в старорусской короне и цифрами: «525».
Правый внутренний карман пиджака вывернут и свисает наружу, в левом внутреннем кармане пиджака обнаружено удостоверение красного цвета. Осматриваемый документ представляет собой корочки с внутренними вкладышами, изготовленными типографским способом на бумаге белого цвета, оттеняемой красно-сине-белым фоном. На лицевой стороне удостоверения произведен оттиск краской золотистого цвета с изображением Государственного герба РФ и надписью: «Государственная Дума Российской Федерации». На внутренней левой стороне вкладыша значится номер удостоверения «2056», имя владельца «Оресьев Павел Федорович» и надпись «Депутат Государственной Думы РФ», выполненные типографским способом с использованием компьютерной верстки. В типографски выполненной графе «Дата выдачи» в правой стороне вкладыша компьютерной версткой значится: «30 декабря 2003 г.». В типографски выполненной графе «Подпись владельца» красителем черного цвета выполнена роспись от руки... В левой части вклеенного вкладыша размещена цветная фотография размером 39х58 мм без углового штампа, с нанесенной поверх фотографии печатью, исполненной синим красителем, по окружности которой читается надпись: «Государ... ая Д...ма Российской Фе...рации» с изображением в центре двуглавого орла...
Фотография в удостоверении соответствует внешнему облику лица трупа...
Иных документов в одежде трупа и среди вещей, находящихся в осматриваемой автомашине, не обнаружено»...
Щелк!.. Щелк!..
Молибога работает как заправский фотограф над выламывающейся в сексапильных позах топ-моделью. Разница лишь в том, что выламывается, пытаясь заснять разнообразие поз объекта, фотограф.
– Что думаешь, Ваня? – тихо, чтобы посторонние не обратили внимания на панибратство и тем не разочаровались, спросил Молибога. Солнце поднялось достаточно высоко, криминалист взмок и являл собой упревшего от погони за организованной преступностью голливудского полицейского.
– Думаю, что по Мальоркам этот парень ездить не привык, – доставая сигареты, бросил, еще раз взглянув на начавшую редеть толпу, Кряжин. – Точнее, не привык к моменту осмотра его трупа. За будущее его, останься он жив, ручаться не могу.
Иван Дмитриевич не зря имел среди криминалистов прозвище «мучитель тел». Там, где обычный «важняк» управлялся за пару часов, Кряжин находился по четыре-пять. Однако самим трупом уже давно занимался судебный медик, потому как Кряжин как никто другой знал – чем позже тот приступит к работе, тем шире зазор ошибки в его заключении о наступлении часа смерти. Быстро пометив себе все, что необходимо, Иван Дмитриевич отдал тело в руки специалиста, а сам писал, писал и писал...
Однако пока не дописывал, увозить труп в морг не позволял – а вдруг еще какой вопрос возникнет? За это и получил прозвище. Не штатное, за глаза произносимое, да и произносилось оно не с сарказмом, а с уважением. Что касается трупа, то, по большому счету, ему совершенно безразлично, сколько его описывать будут. По крайней мере, жалоб на Кряжина пока не поступало.
– Откуда такая уверенность? – насторожился Молибога, за годы совместной работы так и не сумевший привыкнуть к неожиданным заявлениям следователя. – Я о Мальорке.
– Костюмчик липовый, – пожевал губами Кряжин. – На ярлыках значится, что сшит в Италии, а вот размерчик не бьет.
– Почему не бьет? – удивился Молибога. – Очень даже бьет. Мужик носил вещи пятьдесят четвертого размера. А пятьдесят четвертый размер и обозначается, как «44».
– В Англии обозначается, – Кряжин, присев на порог джипа, щелкнул зажигалкой, и ветер тут же унес сигаретный дымок. – В Америке обозначается. Но в Европе, в частности, в Италии, пятьдесят четвертый размер так и значится – «пятьдесят четвертый».
– На экспорт шили, – возразил криминалист.
– Тогда в слове «Италия» не было бы ошибки. Последняя буква должна быть «уай», а не «ай». Вьетнамцы шили, Коля, – Иван Дмитриевич грустно усмехнулся. – Но не на экспорт, а для внутреннего пользования, потому как мастерская где-нибудь на Колпачной, в подвале, у нас, в Москве. Костюму не больше полугода, как раз с датой вручения удостоверения бьет. Приехал в столицу и сразу купил. Туфли хорошие, но носил в ремонт. Не по-депутатски как-то все это, брат Молибога, ей-богу. Зови врача, понятых, автографы брать будем.
Кажется, закончилось. Труп дактилоскопирован, «пальцы» внутри и снаружи джипа у криминалиста имеются, а это уже кое-что.
– Иван Матвеевич, – обратился Кряжин к своему тезке из судебно-медицинской экспертизы, – а ты что скажешь?
Зная привычку Столярова произносить сакраментальные фразы о неизбежности подтверждения первичного осмотра осмотром более тщательным, уточнил:
– До резекции?
– Исчерпывающий ответ могу дать лишь после вскрытия, – все равно не понял следователя медик, – но навскидку, на глаз...
– Лучше навскидку.
– Трупные пятна, Дмитрич, у людей полного телосложения появляются раньше, чем у худощавых. Если ориентироваться по тем, что у депутата на ягодицах, пояснице и верхнем плечевом поясе, и присовокупить к этому поверхностный анализ посредством пальпации... Сейчас который час?
– Час, – Кряжин работал со Столяровым около четырех лет, поэтому к окончанию филиппики медика уже держал левое запястье около глаз (часов у Столярова никогда не было).
– Значит, между часом ночи и двумя смерть и наступила. Хотя от последнего результата можно отнять еще один час. Уж очень рыхлый наш клиент, Иван Дмитриевич.
Глава пятая
Генеральная прокуратура, как обычно в такие дни, подверглась общественному натиску с невиданной силой. На этот раз здание на Большой Дмитровке выдерживало звонки и приезд представителей общественно-политического блока «Отчизна», чей депутат прошлой ночью был убит кровавой рукой, и журналистов, старавшихся как можно быстрее сообщить населению страны об имеющихся версиях убийства.
Телевидение пестрело логотипами блока – голубь на фоне контуров страны. Этот же значок разных величин и разных оттенков располагался за спинами выступающих от имени самого блока. Репортеры, почувствовав простор для ремарок, старались вовсю. Очередное громкое убийство в Москве, целью которого был избран очередной законодатель, уже никого не потрясло: нельзя трястись от регулярности, к ней привыкаешь, и заявления выглядели скорее стандартными, нежели шокирующими. Фразой «убийство депутата Государственной думы» уже никого не удивишь, и размышлений о наступающем неопределенном будущем она не вызывает. Выступил сопредседатель блока, Каргалин, выступил спикер с вице-спикером, выступили рядовые члены:
«Очередной удар преступности по демократии»,
«Убийство, несомненно, связано с профессиональной деятельностью депутата Оресьева»,
«Нам будет его не хватать в этой борьбе с проправительственными силами»,
«Он был хорошим человеком, отзывчивым и принципиальным. Там подскажет, здесь поможет».
Генеральная прокуратура, выслушав, как обычно, все стороны, сделала заявление в лице своего начальника пресс-службы Ропталова:
– Раскрытием данного преступления занимается следственная бригада Генеральной прокуратуры Российской Федерации, оно взято на контроль Генеральным прокурором, о ходе расследования мы сообщим дополнительно.
И ушел от выставленных в его сторону, напоминающих приманку, как палки с кусками мяса, микрофонов. Начальники пресс-служб государственных структур – высокопрофессиональные сотрудники. Сказал, кажется, много, а никто не заметил, что более половины речи занимало озвучивание должностей и ведомств.
Следственная бригада... Это он так, от сердца скорее, чем конкретно. Впрочем, почему от сердца? Скажи начальник информационной службы: «следователь» – не тот уровень, не воспримут. «Следственная бригада» – это то, что нужно. У всех на памяти и бригада Костоева, и бригада Гдляна. Бригады, они почему-то лучше работают, чем просто следователи. Одна голова – хорошо, две – лучше. Невдомек журналистам и гражданам, что одиночки только в кино водятся. Разве следователь, криминалист, судебный медик, оперативный состав, ФСБ, распутывающие один клубок в сто пар рук, – это не «бригада»? Но журналистам нужно, чтобы следователей обязательно было несколько, тогда и получится бригада.
Слово «бригада» очень уж приятно для слуха многих, и остается загадкой, почему так случилось.
От социалистического реализма люди отойти не могут, что ли? От вымпелов «ударников» и социалистических соревнований? В серьезных репортажах журналистов в первые годы перестройки даже юмор проскальзывал, хотя сами они его и не замечали. А люди замечали и выдавали за народное творчество: «Ходил по музею сюрреалист, а за ним по пятам двое социалистических реалистов в штатском». Было дело, было...
«Бригада» – это для многих уже привычка, стиль жизни.
Что касается Кряжина, то он всегда считал, что две головы – это уже некрасиво. А потому возглавлял бригады редко, по необходимости, по приказу Генерального.
Версии... Есть две из них, которые в последние пять лет приходят в голову сразу, и выбить их оттуда бывает порой труднее, чем рассмотреть нож в спине потерпевшего. Первая из них связана с наведением конституционного порядка на южной околице страны, вторая с переделом собственности в ее центральной части. Какие бы очевидные факты, уводящие следствие с этих двух дорог в ходе расследования подобных убийств ни случались, они рано или поздно все равно становятся производными от первых двух.
Подозрений у следователя тем больше, чем меньше он знает, а потому, когда он, как биатлонист, бежит по трассе следствия, пытаясь успеть быстрее собственной отставки, а по обеим сторонам стоят пресса, родственники потерпевшего, его коллеги и кричат: «Давай! Давай!», следствие начинает срезать углы и искать упомянутые первые две версии, чтобы списать труп на естественный отбор в вечной войне на Кавказе или на естественный отбор в вечной борьбе с коррупцией.
Проще всего исчерпывающий ответ о мотивах убийства высокопоставленных потерпевших искать не в имеющихся материалах следствия, а в прошлом жертвы, потому что нет ни одного высокопоставленного трупа, не оставившего грязных следов в своем «незапятнанном» прошлом. Ответ прост тем, что за ними, высокопоставленными, но потерпевшими от этого, всегда водятся малые грешки либо в виде бывшего членства в оргпреступных сообществах, либо в торговле ружьишками на Ближний Восток, либо в нефтемазутных манипуляциях. Однако собирать доказательства реального существования таких версий все равно, что слизывать мед с кактуса. Вкуса не почувствуешь, но недееспособным станешь.
Вернувшись на Большую Дмитровку, Кряжин переоделся в свой «дежурный» темно-серый костюм, под который надел лишь серую же рубашку, без галстука, заскочил на минуту к операторам, обслуживающим компьютерное обеспечение, заказал у них распечатку всей имеющейся в Интернете информации о блоке «Отчизна» и спустился вниз.
Плотно и размеренно отобедав в столовой при прокуратуре, Иван Дмитриевич заказал машину и около пятнадцати часов вошел в здание на Охотном ряду.
Но прежде чем войти, он сидел в машине у здания Госдумы, читал информацию, предоставленную ему операторами, водил по листу пальцем, жевал по привычке губами и выдувал сигаретный дым в приоткрытое окно.
У самого входа в Думу распечатку он разорвал на столько частей, на сколько позволила сила пальцев, и аккуратно опустил в урну – привычка. Политуправление блока, как ему подсказали полчаса назад по телефону, располагалось на четвертом этаже, поэтому он, помня о здоровье, двинулся не к лифту, а к лестнице.
Звонок из Генеральной прокуратуры создал некоторое удобство в общении. Почти все, кто мог хоть что-то сказать об Оресьеве, находились в Думе. Россия славится необычностью своих граждан. Их сплачивает почему-то убийство, а разобщает хорошая жизнь. И чем та жизнь лучше, тем глубже и откровеннее противоречия. Сегодня был как раз один из таких дней всеобщего сплочения: у входа в главную залу блока «Отчизна» располагался огромный портрет ее члена, стоял столик, на нем ваза, в ней цветы. Дума потеряла еще одного депутата, блок своего первого представителя. Вряд ли о таком развитии событий кто-то из рожденной для новых надежд россиян партии думал седьмого декабря минувшего года.
Тем не менее день такой наступил, и взору Ивана Дмитриевича, остановившегося на пороге залы, предстала соответствующая событию картина: за спиной следователя, за дверью, происходила суета, внутри помещения царило разочарование. Каждый выражал его по-своему, слезы были, но слезы присущи лишь женщинам, а их в зале было мало. У стола, по всей видимости, председательского, стоял на треноге еще один портрет Оресьева, тоже перетянутый траурной лентой, были и цветы, но стояли они в банках. Вероятно, лучшее содержимое было выставлено лицом к остальной Думе.
К Кряжину подошли, познакомились, посетовали на то, что не выслали машину сами, словно речь шла не о переезде следователя по особо важным делам с Большой Дмитровки на Охотный ряд, а о перевозе участкового через Волгу от деревни Красавка до села Воздвиженка, и пригласили войти. Задерживать следователя, видимо, было решено ненадолго, поэтому председатель и приближенные к нему лица провели Кряжина в кабинет.
В зале же продолжались разговоры, и Иван Дмитриевич думал о них по привычке сдержанно. Вероятно, что кто-то из этих людей свято верит в то, что председатель и его замы по политической борьбе расскажут следователю правду, какой она видится однопартийцам, после чего следователь выйдет из кабинета и через пару часов введет в залу убийцу вместе с заказчиком. Такое было впечатление у Кряжина. По обрывкам фраз этих людей, по посадке за столом, по их жестам. За годы работы в прокуратуре он привык к тому, что окружающие ждут от него, как от Копперфильда, чудес. По мере продвижения субъекта по служебной лестнице такое мнение усиливается, но чудить становится все труднее, а потому глубже претензии и шире разочарования. Найти убийцу владимирской старухи не так уж трудно, имея в голове разум, а не опилки с местной фабрики. Труднее объяснить мотивы убийства депутата, который в Москве всего полгода, а до этого являлся бардом в Кемеровской области.
Вот и председатель политсовета блока это подтверждает, говорит, что от округа Павел Федорович избирался. Люди слушали его песни, читали стихи, вспоминали былую родину и видели главным ее реаниматором Павла Федоровича, царствие ему небесное...
– Вы не представляете, какой широкой души был этот человек, – горячо, словно Кряжин ему не верил, говорил Каргалин Сергей Мартемьянович (так он представился очно, и так значилось в думском списке). – Вы хотите послушать, какие он писал песни?
Кряжин, застигнутый врасплох, пожал плечами и настроился на разговор долгий, все больше на бестолковый. Песни Иван Дмитриевич любил, творчество бардов в лице Владимира Семеновича и Юрия Визбора почитал, но более всего ему хотелось узнать: чем занимался бард Оресьев в Думе? Однако о главном принципе следователя – слушай, запоминай, встраивайся – он помнил, дети дома его не ждали, и жена за остывающим ужином не нервничала.
Песни тут слушали, как он понял, и до него, потому как один из главных людей в «Отчизне» (Кряжин выделил его как первого после Каргалина), подошел к стереосистеме и перемотал пленку назад. Система хорошая, «Kenwood», мощная. Если включить на полную катушку, то с верхнего этажа непременно раздастся стук по трубе и крики о том, что в Думе, однозначно, завелись подонки.
Дисков покойный Оресьев, по всей видимости, выпустить не успел, поэтому пришлось довольствоваться живым голосом через микрофон, под перебор гитарных струн.
Вот опять я уезжаю,
для чего-то оставляю
я тебя одну, совсем одну...
Ты меня, быть может, любишь,
может, любишь, может, шутишь,
может, даришь радость, может быть, беду...
Уловив стихотворный размер, Иван Дмитриевич понял, что следующие строфы будут еще длиннее, и рано или поздно песнь превратится в рассказ чукчи о том, как он плыл на каяке по Омолону от его истока до впадения в Колыму.
– Это про любовь, – объяснил пятидесятилетний на вид Каргалин.
Кряжин благодарно кивнул.
– Есть и о родине, – сообщил председатель. – Включи, будь добр, Константин Константинович.
Константин Константинович перематывал пленку ровно столько, сколько нужно было Кряжину для того, чтобы догадаться о заранее подобранном для него репертуаре. Три аккорда, четко вписывающихся в канву повествования, зазвучали в просторном помещении.
И схватится бедная мать за сердце,
И вскинется стая ворон над полем,
А у калитки захлопает дверца:
Ваш сын погиб в ДРА героем...
– Это из военного прошлого Павла Федоровича, – продолжил музыкально-биографический экскурс Каргалин.
Но Кряжин вдруг прервал его и повел речь совершенно не о душевном:
– Скажите, Сергей Мартемьянович, а какой пост занимал он в блоке «Отчизна»?
Казалось даже, что он этим вопросом привел председателя в растерянность.
– Павел Федорович? – повторил Каргалин, но тут же вошел в деловой ритм предложенной темы и уже спокойно отчеканил: – Он был сопредседателем блока.
– То есть, как я понял, сопредседателей у вас было двое? – Кряжин стал располагать на столе папку так, чтобы ни у кого из присутствующих не осталось сомнений в том, что он здесь надолго.
Каргалин посмотрел на Константина Константиновича, потом в окно, и объяснил:
– Нет, вы не правы. Видите ли, в чем дело... Мы решили, что два сопредседателя, это... как бы сказать. Недемократично, что ли. Либо один, либо другое нечетное число. Но, поскольку наш блок не настолько многочислен («к сожалению» – светилось на его лице), на съезде было решено избрать три сопредседателя. Ими стали я, Павел Федорович и Константин Константинович. Так мы избежали возможности авторитарного управления и необходимости вводить единицы заместителей. Несмотря на единое политическое руководство, я отвечал за общее управление, Константин Константинович Рылин ведал вопросами идеологической работы, а Оресьев... – Каргалин вздохнул и снова посмотрел на продолжающего стоять соратника по блоку. – Оресьев отвечал за связь с регионами.
Кряжин отметил, что впервые за все время разговора потерпевшего назвали по фамилии. Более того, у сопредседателя по общему управлению при упоминании этой фамилии в деловом контексте вырвался какой-то странный вздох. Сработала либо партийная привычка серьезного ко всему отношения, избавиться от которой не помешала даже смерть, либо Оресьев связывал что-то не так. Или не то, что связывать было нужно. Чирк!.. – в блокноте памяти «важняка» виртуальный карандаш сделал маленькую пометку.
– А что я должен был бы делать, возложи на меня такую обязанность, как связь с регионами? – проговорил Иван Дмитриевич, выискивая взглядом пепельницу.
Пепельницу нашли, и Кряжин закурил без всякого стеснения, потому что, войдя в это помещение, он сразу уловил тот старящий комнаты запах, который образуется лишь от постоянного курения.
К.К. Рылин, наконец-то, сел, заняв место через два стула от Каргалина, и сразу после этого образовалось то, на что Кряжин, следуя в Думу, надеялся. Появилась атмосфера работоспособности и деловитости, лишенная лирики, страстей и призывов к общественности – «знаете, каким он парнем был?». Отвечать на поставленный вопрос, по праву старшего среди оставшихся в живых сопредседателей, решился Каргалин.
Вообще, наблюдая за этими двумя людьми, Кряжин сразу уяснил для себя две вещи. Первое: меж ними отсутствуют разногласия вплоть до бытового уровня. Скажи С.М. К.К. : «Чай сегодня будем пить цейлонский, а не индийский!» – и К.К. направится искать индийский чай, на котором непременно должно быть написано: «цейлонский». Второе: верховодит здесь Каргалин. И портреты наверняка он велел расставить и указал – куда именно, и за цветами посылал, советуя, какие взять, чтобы они соответствовали моменту.
– Понимаете ли, в чем дело...
Иван Дмитриевич, вскормленный русской литературой и сам владеющий мастерством вести разговоры с вывертом, был уверен: когда разговор с тобой начинают с общепринятого среди политиков и других категорий неоткровенных граждан идиоматического оборота «понимаете ли», можно быть уверенным в том, что тебя считают за полного придурка или хотят развести на полную катушку, как лоха. Именно по этой причине Кряжин мгновенно натянул на лицо маску имбецила и наклонил набок голову. Так больше наговорят.
– Связь с регионами – труднейшее направление в деятельности политических движений...
Кряжин кивнул, и пепел упал на столешницу. Стараясь уместиться в паузу, которую ему специально для этого выделил Сергей Мартемьянович, следователь по особо важным смахнул пепел в руку и ссыпал в пепельницу.
– В связи с постоянной телевизионной агрессией правительственных каналов, пышущих ложью и откровенными призывами к гражданам лечь под власть, необходимо постоянно информировать электорат о действительном положении вещей. О направлениях политики блока «Отчизна», которому отдали свои голоса более шести процентов граждан, об исполнении наказов, о грабительских, захватнических, по отношению к селу, устремлениях действующего кабинета министров...
– Я не понял, – поморщился Кряжин. – Вы – аграрии?
Вероятно, «важняк» с мятым лицом из Генпрокуратуры был не единственным, кто задавал подобный вопрос, потому как Сергей Мартемьянович ответил сразу и без раздумий:
– Каждый, кто заботится о народе, людях, населении, будь он аграрием или либерал-демократом, будет заботиться о земле и селе. Это истоки нашей независимости. Вы знаете, сколько курей мы ежегодно закупаем в Америке?
О «курях» Кряжин знать не хотел, он только что убедился в том, что блок «Отчизна» – маленький агрегат, искусственно вживленный властью в организм оппозиционных сил Государственной думы. Власть преуспела и здесь. Образуется группа людей, именуется блоком, наделяется необходимым количеством голосов на выборах и, как искусственная почка, вживляется в противоборствующую оппозицию. Кряжин знал давно: количество закупаемых в США кур, общий размер суммы, на которую опустили ваучерами население, количество умирающих за год людей по сравнению с тринадцатым годом – это азы школы ликбеза для политиков, созданных, как клоны, для проведения развальных мероприятий внутри стана врага.
Вы знаете, сколько курей (курей! – чтоб я сдох! – подумал Кряжин) мы ежегодно закупаем в Америке?
А вы знаете, сопредседатель, что народ, люди и население – это одно и то же, и такое количественное упоминание одного и того же понятия используется лишь теми политиками, которые не отвечают за свои слова? Бесполезная оттяжка времени перед смертью в надежде на то, что если повторять одно и то же в разных формах, то на третий раз кто-то все-таки поверит.
– Я так и не понял, чем занимался Оресьев, – делая вид, что разочарован собственной бестолковостью, тихо произнес Кряжин.
А Каргалин сделал вид (и К.К. Рылин его в этом поддержал), что слишком человечен и политически терпелив для того, чтобы выражать отрицательные эмоции. Даже в этот тяжелый для блока период. Он сделал вид, что привык общаться с такими тугодумами. И объяснять по нескольку раз – его обязанность как депутата. Такой уж у нас электорат, мол, подмороженный. Но он наш, и мы его не предадим (не бросим, не кинем).
– Понимаете ли, в чем дело. Работа с руководителями в субъектах Федерации, поддержка политического течения, на которое они опираются, – важный момент в деятельности любой партии. Работа на местах, если вам угодно. Человек, занимающийся установкой и поддержанием таких связей, должен обладать достаточной выдержкой, интеллектом, работоспособностью и мобильностью. Таким был Павел Федорович. Находить контакт с людьми любого ранга он умел сразу, по всей видимости, от него исходило некое обаяние, если хотите. Не буду скрывать, я понимаю, с кем сейчас разговариваю, – на лице главного сопредседателя появилась печать достоинства. – Тем не менее скажу то, что знают все, но сказать не решаются. От помощи из регионов зависит будущее и настоящее каждой партии. Этими вопросами также заведовал покойный Павел Федорович.
«Политическое течение», – почему-то из пламенной речи Каргалина Кряжин выделил именно это. – «Именно т е ч е н и е, а не движение, он правильно сказал, не ошибся».
Следователь уже не слушал Каргалина, тот был ему неинтересен. Говорит длинно, громко, хотя кажется – стонет, и все больше – жвачка. Понятно, что разговорить его можно будет лишь одним способом – обычным для любой прокуратуры. А пока этот, с позволения сказать, сопредседатель, будет вешать лапшу до бесконечности. Спроси его сейчас о конкретных контактах Оресьева, тот снова втянет во впалую грудь воздуха на пять воздушных шариков и начнет мести языком до полного истощения. Школа... Регионы, субъекты Федерации, село...
Кряжин вдруг выдернул из папки лист бумаги и положил перед Каргалиным.
– Характеристику на Павла Федоровича.
– На мертвого? – изумился тот.
– В смысле – о нем либо хорошо, либо ничего? – не меньше собеседника удивился Иван Дмитриевич. – Но вы же только что говорили, что он будет жив в ваших сердцах вечно? Я слышал, когда заходил!
Каргалин медленно, словно делал выбор – писать или перед этим кому-нибудь позвонить, – подтянул лист к себе. Кряжин между тем сцепил пальцы и с едва заметным прищуром посмотрел на Сергея Мартемьяновича.
– Меня в данный момент не интересует, как он относился к спорту, алкоголю и сколько воспитывал детей. Перечислите, пожалуйста, конкретные направления его работы, конкретные дела и как он себя в этом зарекомендовал.
Каргалин был на десяток лет постарше, а потому самому себе казался на десяток лет умнее.
– Вы поймите, сейчас так сложно прийти в себя. Я не могу все вспомнить в минуту, когда в соседней комнате стоит гроб Павла... Дайте время до завтра, я успокоюсь и все напишу. Опять же, документы поднять нужно, а тут теряешься от одной мысли о том, как объяснить людям на местах, что депутата убили...
– Я объясню людям, – пообещал Кряжин. Играть роль дубоватого служаки он решил до конца. – Все объясню. Но вы меня тоже поймите – сроки следствия идут, не до условностей. Тут от одной мысли теряешься, что горячие следы стынут, а преступник гуляет на свободе... Значит, связь с селом, говорите?
Каргалин, поняв, что с дураком разговаривать бесполезно, подтянул к себе лист и вынул из кармана перо. Не успел он опустить его острие на бумагу, как был вынужден вздрогнуть – «важняк» из Генпрокуратуры хлопнул себя по лбу и пробормотал:
– Вот, черт!.. забыл. Вас же трое сопредседателей было. Возьмите и вы листок, Константин Константинович. То же самое, если не трудно.
Оп-па... Это, ребята, тоже школа.
Иван Дмитриевич смотрел в окно и наслаждался напряжением, застывшим на лицах политических руководителей. Чувствовал себя как в школе в роли учителя математики. Идет контрольная, и двое красавцев из старшего класса на первой парте теряются от мысли, как списать, когда преподаватель в метре от них. Не нужно умных лиц делать, господа сопредседатели. Покруче видели. И не таких разводили.
Не ожидали, это понятно. Думали, будет как принято у цивилизованных людей, как по телевизору: сначала одного на допрос, потом второго... Ну, так все ответы на все вопросы подготовить недолго. Главное, говорить об одном и том же, думать об одном и том же и не ляпать чего не следует. Грехов никаких за блоком нет, но, исходя из последних политических событий, уверенным за то, что тебя не возьмут когтистой лапой за причинное место, нет никакой. Поэтому, главное – не импровизировать. Каждое лишнее слово – очередная петелька для прокурорских крючков.
А на поверку получилось как-то глупо. Двое пожилых и опытных людей, Сергей Мартемьянович и Константин Константинович, скорее всего, написали всего помаленьку, собрав из осколков воспоминаний почти всю мозаику. А не писать нельзя – еще, чего доброго, этот дурак в подозрения ударится. Сиди вот сейчас, С.М., пиши, и думай, чего К.К. напишет, а чего не напишет...
Идиотизм какой-то! – появись на столе протокол, можно было сказать – товарищ, а не пошел бы ты на Большую Дмитровку за повесткой? Тут людей оплакивают, а ты с бланками шкурными суешься! А вышло как-то, на самом деле, глупо: протокол не появился, а двое первых людей за десять минут написали больше, чем надумали бы для протокола. И не откажешь ведь – характеристику просят, а не показания...
Собрал листки следователь, стал прощаться. Напомнил о том, что встреча не последняя, поблагодарил за участие в следствии в столь трудный для блока период, с визгом застегнул папку и вышел первым. Когда ситуация ясна в той части, что ничего ясного не узнаешь, лучше сразу уходить, взяв от встречи по максимуму.
А уже в дверях снова огорошил. Распахнул дверь в комнату плача и спросил у С.М. и К.К. – громко спросил, чтобы все слышали:
– Кто у вас занимается входящей и исходящей документацией?
Пришлось познакомить его с Ингой Андреевной Матыльской, которая встала со стула раньше, чем на нее указал перст С.М.
Отобрал Кряжин бумагу и у нее.
– О чем спрашивал? – в сердцах спросил Сергей Мартемьянович у Матыльской сразу по уходе следователя.
Та пожала плечами:
– Интересовался, помогли ли Софьянову грязевые ванны. Я сказала, что не помогли, потому что в Ессентуках он занимался не телом, а делом.
– Что? – опешил Каргалин. – Откуда он знает, что Софьянов был в Ессентуках? Чем еще интересовался?
– Спросил, насколько сильны позиции представителя нашего блока Эргашева в Костроме. Говорит, был в Костроме, спрашивал у Зиновьева, и тот сказал, что они двое с Эргашевым в одной лодке не уместятся. А поскольку прокуратура уже теребит Эргашева в Костроме, а Сучкова в Екатеринбурге, дни их сочтены, несмотря на поддержку с Ильинки. Просил передать Зиновьеву привет и пожелал ему скорейшего выздоровления от язвы.
Каргалин побледнел. Вот это фрукт сегодня был в гостях!
– Еще спросил, чем конкретно занимался Оресьев, и я сказала, что он принимал в своем лице финансовую поддержку для блока от нефтяников с Уренгоя и из Кремля.
– Ты в своем уме?!
– А что от него скрывать, если ему известно, что у Зиновьева язва?! – взвизгнула Матыльская. – Если он смеется, и мне, шутя, о ротвейлере Гуренко рассказывает, который его за руку на даче в Барвихе чуть не укусил! Говорит – «ну, и бестия, этот Граф!». Что скрывать, если он с Гуренко в его особняке выпивает?! Я так и написала...
– Что написала?!
Она подошла к кофейнику и сделала вид, что в условиях завязавшейся дружбы с человеком из Генпрокуратуры не видит необходимости отвечать на вопросы, поставленные в таком хамском тоне. Единственное, что было непонятно после разговора с Кряжиным, почему сопредседатели так злы.
– То, что его интересовало, – вдруг забеспокоившись, пробормотала Инга Андреевна. – И о последних банковских операциях блока на Кипре, которыми занимался Павел Федорович, и о кредите из терновского «Сага-Банка»...
– Ты кто, Матыльская?! – покраснел Сергей Мартемьянович, и оттого волосы его серебристые стали молочно-белыми и не такими волнистыми, какими казались до тряски головой. – Ты секретарь! Человек с зашитым ртом и чуткими ушами!.. В этом здании молоть языком – это самому себе приговор подписывать! Кстати, о приговорах... А ты знаешь, что он не имел права заставлять тебя давать какие-либо показания?!
Инга Андреевна, тридцатилетняя некрасивая женщина в роговых очках, покривила губы и бросила, глупая:
– А он и не заставлял...
Из агентурного сообщения старшему оперуполномоченному МУРа Смайлову, 12.06.2004 г. (сохранено в редакции автора):
«12 июня 2004 г. у меня была встреча, в ходе которой я узнал о том, что на Арбатских прилавках появился некий Кеша Варанов, ранее он тусовался там постоянно на правах художника. После нескольких лет отлучки по причине невозможности вернуть долги художникам Кеша исчез. Как сообщает источник, сегодня около двенадцати часов дня вновь засветился и роздал долги с процентами.
Как сообщил мне источник, Варан тратит деньги, добытые преступным промыслом. Со слов источника, ранее знавшего Варана как человека постоянно нищего и голодного, склонного к употреблению бодяги («бодяги» – зачеркнуто) спиртного сомнительного происхождения, сегодня он угощал всех шашлыками, заявлял, что обрел смысл жизни и пил дагестанский коньяк.
Агент Климат».
Из рапорта начальника МУРа начальнику ГУВД г. Москвы, 12.06.2004 г.:
«Секретно. Экз. единств. Докладываю, что сегодня, в ходе проведения встречи с агентом Климатом, состоящим на оперативной связи, мною получена информация о том, что на Арбате появился некто Варан, располагающий необоснованно крупной суммой денег. Ранее Варан занимался письмом и продажей картин собственного производства, но потом исчез, боясь расправы за невозвращенные долги. В связи с тем, что есть основания полагать, что деньги, имеющиеся у Варана, добыты преступным путем, агенту Климату дано следующее задание:
1. Прибыть на Арбат со своим человеком и войти в доверие к Варану.
2. Выяснить, кто скрывается под фамилией Варанов (Варан) и направление его деятельности.
3. Подтвердить полученную информацию личным сыском.
4. Установить причины появления у фигуранта крупной суммы денег»...
Глава шестая
Когда Варанов вернулся в комнату без дверей, с потрескавшимися стенами и свисающей с потолка, как сопля, лампочкой, помимо своего пакета-«побирушки» со всем нажитым за сорок лет жизни имуществом, он держал кожаный портфель. Бумажник вошел во внутренний карман старой куртки, как карандаш в стакан, а вот с портфелем пришлось повозиться. Не беда, если кто-то заметил бы в руках очевидного бездомного изделие из дорогой кожи. Неприятность случилась бы, когда несколько типов из тех, кто на него похож, приняли бы решение добычу отобрать. Вот это сейчас совершенно не нужно.
Поэтому, отойдя от джипа и свернув за угол, Кеша быстро сунул портфель под куртку. Пройдя несколько шагов, он догадался, что при таком способе переноски вещей он становится подозрительным вдвойне. Тогда он быстро прикинул целесообразность следующего поступка, счел его разумным и принял решение сразу, не затрачивая более на раздумья ни секунды. В подвальный люк под домом тут же вывалилось барахло, и его место в пакете занял портфель. С трудом, но занял.
Первым делом, усевшись на полуразрушенную временем кровать, он осмотрел бумажник и ухмыльнулся. Такая удача с нищими, наверное, случается редко, но каждый из них лелеет в душе надежду о встрече с нею. Тем и живет. Человек устроен так, что каждый новый день он встречает с мыслью о том, что этот день особенный. К вечеру, когда ничего не случается, человек уже думает о дне грядущем. Да тем и живет дальше.
В украденном у мертвого водителя «Круизера» портмоне находилась сумма, равная пяти тысячам долларов и десяти тысячам рублей. Любому бродяге уже было отчего ликовать, но вместо этого Кеша спокойно заглянул в портфель. То обстоятельство, что денежные знаки там отсутствовали, никак на его лице не отразилось. Несколько пластиковых папок, набитых бумагами, и еще одна, тонкая, с какими-то ценными бумагами. Как бы то ни было, сам портфель в случае необходимости можно было сбыть в районе «Горбушки» рублей за триста. Такие портфели редкость, а потому изделие сразу попадет на мушку.
Подумав, Иннокентий сунул деньги в карман куртки, распределив их таким образом, чтобы в каждом из карманов находилась равная сумма. Случаи, простите, бывают разные. Менты и жиганы заполонили всю столицу. Такой ход мысли поймет любой бродяга.
Портфель с документами он завернул в пакет, потом – в кусок тряпки, до недавнего времени игравшей роль занавеси, и снес добычу в подвал. Найдя место посуше, он портфель спрятал, а место схрона замаскировал.
Вышел во двор, потрогал нос, переставший кровоточить, и стал вспоминать, каков на вкус коньяк. Пока все складывалось удачно, и запах Москвы перестал его угнетать.
В половине второго 12 июня 2004 года Иннокентий Игнатьевич Варанов, в прошлом учитель литературы и филологии, а ныне бездомный нищий, сидел на Арбате, выпивал с довольными импрессионистом Пепиным, маринистом Вайсом и еще одним незнакомым пейзажистом Калиматовым, говорил, что пересмотрел взгляды на жизнь и высказывал желание снова взяться за кисти.
Его не отговаривали, потому что он мог обидеться и уйти. Вместе с его уходом прекратилось бы финансирование чудного вечера, и всем этого не хотелось. Вайс, обогатившись собственными же деньгами, утраченными еще пять лет назад, обещал помочь по части письма осеннего моря, Пепин, также получивший свои деньги, советовал Варанову, где лучше закупить акварель. Акварель, она дешевле, но стоимость ею написанного у проходящих по Арбату дурней по цене различается мало.
К девяти часам вечера «союз художников», обходя известные маршруты движения патрулей, унес внезапно разбогатевшего живописца в старый дом на Сахарной. Не тот, в котором они обитали раньше, – его, как и планировало московское правительство, снесли, а в другой, до которого ковш современной архитектуры еще не добрался.
Варанов проснулся в три часа ночи и стал ощупывать свои карманы. Из пяти тайников два пустовали, хотя Иннокентий Игнатьевич точно помнил, что, находясь еще в сознании, вытягивал купюры только из одного, и опустеть он обещал не скоро. В темноте ему взору предстали метровый по площади мольберт, несколько огромных упаковок красок, связки кистей, размеры которых смутили бы даже Церетели, и Кеша все понял. Покупал всего, по всей видимости, помногу, и самого лучшего качества. Сетуя вслух на неумение пить, он еще раз проверил оставшиеся деньги и поклялся следующий день провести в удовольствии, но не в таком бесшабашном.
Поутру к нему привязался Калиматов. Он был единственный, кто не ушел на Арбат продавать холсты, болел, по всей видимости, и потому принялся уговаривать Варанова сходить за бутылочкой и обозначить наступивший день как выходной. Кеша согласился и сходил за водкой.
После третьей стопки, закушенной шпротами, Гена (так звали нового знакомого), вздохнул и признался:
– Я бы тоже кого-нибудь хлопнул, если бы не боялся третьей судимости.
Кеша повел себя очень странно. Нервничать не стал, делать судорожные движения остерегся. Лишь спросил, глядя в сторону:
– Что значит – хлопнул?
«Нет, – подумал Калиматов, – с ним на дело я бы не пошел. Его даже колоть не нужно».
– Ну, обнес, – объяснил он. – Ты по наводке или так, личным сыском?..
Из телеграммы Генерального прокурора РФ начальнику ГУВД г. Москва, 13.06.04 г.:
«... В связи с обнаружением на ул. Резниковская тела депутата Государственной Думы Оресьева П.Ф. прошу вас ориентировать оперативный состав уголовного розыска на розыск преступника, по описанию свидетелей и заключению предварительных данных специалистов имеющего следующие предположительные данные:
– рост: 175—180 см, телосложение худощавое, походка торопливая;
– одежда: серая куртка, темные брюки (джинсы), светлые кроссовки;
– социальный статус: предположительно, лицо без определенного места жительства.
Возможно, имеет отношение к художественному ремеслу или работает на предприятии, выпускающем товары, используемые в своей деятельности художниками...»
– С чего ты взял, что я вор? – Варанов, вспоминая слюну, сбегающую изо рта трупа, отвечал глупыми вопросами.
– Ну, а где бродяга может взять доллары и рубли в таком количестве, кроме как не украсть?
– Мне вернули долг.
Калиматов глухо рассмеялся и откинулся на застывшую стопку кирпичей.
– Да брось ты, Кеш... Я же свой. Одну водку с тобой пью, одним хлебом закусываю. Чего тебе таить от меня?
И Варанов решил не таить. Он честно рассказал совершенно случайному человеку, как шел по улице и вдруг увидел на дороге кошелек. Кошелек оказался полон, но сегодня они тратят последние деньги, потому что им пришел конец.
– По какой улице ты шел, Кеша? – не унимался Калиматов. – По улицам, по которым ходишь ты, люди с такими «лопатниками» никогда не передвигаются. Люди с такими кошелями перемещаются, в основном, по дорогам, на «бомбах» и «меринах». Нашел на дороге... Скажешь тоже. Вот, Кеша, разговариваю я с тобой... Давай, еще по одной... Так вот, разговариваю я с тобой и чувствую скрытность. Отрицательные флюиды от тебя прут, как от райотдела милиции. Может, ты и впрямь оттуда? Послали разведать чего, разузнать, а?..
Из рапорта начальника МУРа начальнику ГУВД г. Москвы, 13.06.04 г.:
«Секретно. Экз. единств. Докладываю, что в ходе оперативной разработки агентом Климат фигуранта «Варан» установлено следующее.
Варанов Иннокентий Игнатьевич, 14.11.1962 г. рождения, лицо без определенного места жительства, бывший преподаватель литературы. Имеет высшее филологическое образование. Приехал в Москву на заработки в 1999 г., но, не сумев устроиться по специальности, стал промышлять рисованием на Арбате. В ноябре 1999 г. исчез, основанием чему явились долги коллегам по творчеству, но 12.06.2004 г. появился снова, имея на руках крупную сумму денег.
Агентом Климат была проведена отработка фигуранта на предмет причастности к совершенным ранее в г. Москве преступлениям, в результате чего получена следующая информация.
Варанов И.И. в ходе доверительной беседы признался, что в 08.30 ч. 12.06.04 г. при поиске заработка натолкнулся на джип, стоящий во дворе дома 18 по ул. Резниковская. В автомобиле Варанов И.И. увидел водителя, умершего насильственной смертью, и решил похитить из его машины и из карманов одежды ценности...»
Из рапорта начальника МУРа начальнику ГУВД г. Москвы, 14.06.04 г.:
«...В связи с имеющимися основаниями полагать, что Варанов И.И. причастен к убийству депутата Государственной Думы Оресьева П.Ф., имевшего место 12.06.04 г., мною было принято решение о задержании Варанова И.И. для выяснения его причастности к данному и другим неочевидным преступлениям.
Однако наблюдение за Варановым удалось установить лишь после сообщения агента Климат в 12.00 14.06.04 г.
В месте его постоянного пребывания – в полуразрушенном доме на улице Сахарной (место ночевок «свободных художников»), – Варанова не оказалось, однако вскоре одним из оперуполномоченных УР, проверявших места его прежнего пребывания, описанных Варановым агенту Климат, фигурант был замечен. Варанов И.И. вышел из двора 2-го Резниковского переулка на улицу Резниковскую, прошел пешком два квартала и вошел в магазин по продаже спиртных напитков. Ожидая фигуранта у входа, сотрудник УР входить в магазин не стал, однако через десять минут пребывания на улице увидел а/м отдела вневедомственной охраны, подъехавшую к крыльцу. Представившись и справившись о причине, которая заставила патруль ОВО прибыть к магазину, ст. о/у МУРа капитан милиции Смайлов получил пояснение, что в магазине находится гражданин, пытавшийся расплатиться с продавцом за две бутылки водки векселем Терновского металлургического комбината ценою в 240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей, и требующий вернуть в качестве сдачи хотя бы часть этой суммы...»
Этот день, несмотря на обещание, самому себе данное, Кеша помнил еще хуже, чем вчерашний. С усмешкой, являющейся, по всей видимости, иронией к самому себе, он мучился от недосягаемости понимания того, куда он мог потратить около тысячи долларов и пяти тысяч рублей. Калиматова не было, членов «Союза художников» тоже, а вокруг, по всей площади сырого помещения с разрушенными старостью стенами, располагалось около двух десятков бутылок. Все они находились тут явно необоснованно, поскольку обстановка вокруг мало соответствовала этикеткам на этих бутылках. «Мартини», «Вдова Клико», «Хеннесси»... Сколько Варанов ни силился, он так и не вспомнил, чтобы в бытность свою художником пил такие напитки на улице Сахарная. Не стоило труда догадаться, чьими финансовыми возможностями пользовалось братство свободных художников в эту и предыдущую ночи. Значит, праздник удался.
Раскопав за подкладкой последние сто рублей, Иннокентий Игнатьевич, свободная душа, выбрался из дома и растекающимся взглядом осмотрел раскинувшуюся перед ним панораму. Не вынес для себя ничего интересного и стал выбираться на улицу.
«12 июня должен быть самым лучшим днем в жизни бродяги, – думал он, – 14-е – самый худший». Позавчера он имел много денег, сегодня имеет сто рублей и ощущение того, что на окончательное выздоровление их не хватит. День только начался, а жить уже не на что. Кто теперь станет сомневаться, что Москва – самый дорогой в мире город?
Надежда – слабый стимул жизни для того, кто продал душу сатане в стеклянной таре. Наверное, именно надежда на то, что позавчера он не заметил в портфеле денег, повела Кешу к метро. Добравшись до Резниковской улицы, он вошел в подвал полуразрушенного строения, которое некогда служило ему домом, и начал археологические раскопки.
Денег в портфеле все-таки не было. Зато была папка, заполненная мультифорами, которые в свою очередь были заполнены интересными бумагами. Интересны они были тем, что на них были написаны суммы, от которых у любого человека должна пойти кругом голова. «Вексель терции» – было написано на каждой из десятка больших бумаг, похожих на свидетельство о регистрации прав недвижимости (Варанов видел такое в Бюро технической инвентаризации, когда подрядился на два часа побыть грузчиком). И печати, печати, печати...
Напружинив мозг, ту часть его, которая уже не находилась в состоянии взвеси и могла мыслить, Иннокентий вспомнил все, что знает о векселях.
Итак, это – ценная бумага, долговой документ, обязательство уплатить кому-нибудь определенную сумму денег в определенный срок. Посмотрев на листы, Кеша понял, что не сплоховал: даты, сумма и наименование организаций за всеми подписями присутствовали. Значит...
Кажется, самое время этими знаниями воспользоваться.
Филология, это такая наука... Чтобы выразиться мягче и пристойнее, филология – это наука, не имеющая ничего общего ни с банковскими операциями, ни с валютными, ни товарно-денежными. Пожалуй, именно по этой причине Варанов, вместо того, чтобы успокоиться и снова закопать портфель, вынул один из векселей и направился в магазин.
– Вы поймите, – увещевал продавщицу Варанов, – мне тут немного задолжали, а потому у меня нет денег. Но мы люди цивилизованные, идеологически подкованные, поэтому я предлагаю вам такой вариант: вы выдаете мне две бутылки водки и тысяч... – он задумался. – Тысяч... пять рублей сдачи, а я вам передаю вексель, по которому вы или ваш хозяин можете стрясти с Терновского металлургического комбината ... Вот, посмотрите сами, сколько.
Продавщица посмотрела в бумагу, шмыгнула носом и направилась в глубь магазина.
– Я сейчас у хозяйки спрошу! – крикнула, скрываясь за дверью.
– Только я вас умоляю, не нужно думать, что я этот вексель украл! – кричал ей вслед Варанов и тряс на себе пальцами одежду. – Директор задолжал мне за руду, я за это время чуть поизносился, бывает...
Через пять минут Кешу повалили на пол, засунули головой вперед в машину «Форд» белого цвета с синей полосой и с мигалкой под сирену повезли в МУР. Но это он потом узнал, что в МУР, а сначала, сидя на сиденье, испуганно озирался по сторонам, пытаясь понять, куда следует машина с ним, двоими в форме и одним в штатском.
Было еще какое-то подозрение на то, что взяли его из-за векселя, то есть просто за мотивацию поведения, неадекватную всеобщему пониманию. «Нашел» – было очень удачно подобранным объяснением факта наличия у него ценной бумаги, стоимостью в четверть миллиарда. То, что нужно для дальнейшего развития событий. Однако после вопроса о портфеле и бумажнике, наполненном долларами, вопрос за что скручивали, отпал. Иннокентий догадался, за ч т о скрутили. И сразу понял, что теперь ему будут шить.
Из протокола явки с повинной гр. Варанова И.И., 16.06.04 г.:
«Содержание ст. 51 Конституции РФ мне разъяснены и поняты. (Роспись.)
Чистосердечно хочу признаться в том, что, действуя из корыстных побуждений, около 04.00 12 июня 2004 года я приблизился к джипу «Тойота Лэнд Круизер» г/н А234 БН и попросил водителя отвезти меня в больницу. Водитель согласился, а я, оказавшись на заднем сиденье машины, вынул из кармана приспособление для стрельбы малокалиберными патронами, заранее купленное на «Горбушке» у незнакомого мне лица кавказской народности, и произвел выстрел водителю в затылок. После того, как он скончался, я вынул из его кармана бумажник, взял с переднего сиденья портфель и вышел из машины. Портфель я выбросил в Москву-реку, а деньги в сумме 5000 долларов США и 9500 рублей потратил на собственные нужды: спиртное, еда.
Написано собственноручно. Варанов И.И. (Роспись)».
– Еще раз, Варанов. Как дело было?
Оперативник, наклонившись над столом, медленно пережевывал «стиморол» и неморгающим взглядом смотрел в лицо Варанову.
Иннокентий Игнатьевич сидел ссутулившись, взгляд его был полон усталости и того безнадежного отчаяния, что бывает присуще человеку, которого посреди океана ссаживают в лодку с дневным запасом воды. Бродяга с высшим образованием, он был далек от всех перипетий столкновения уголовного мира с защитниками Закона, а потому совершенно не понимал, что с ним происходит. Уже почти двое суток ему втолковывают откровенный бред, склоняют к признаниям, и на исходе вторых суток, помня о провалах в его памяти после пития, оперативники стали убеждаться в том, что он сам уже уверовал в непоправимое.
– Ты слышишь меня, Варанов?
Его никто не бил, хотя ему говаривали, и не раз, что в милиции бьют, и бьют жестоко. Но его не били. В камере держали – да, он голоден вот уже два дня – да, голова трещит от похмелья, а обещанные сто граммов никто так и не налил – было дело.
Табурет этот ему уже ненавистен. Едва он садится на него, перед глазами встают шесть предыдущих допросов: тяжелых, изнурительных, но законных.
«Допрос должен длиться не более восьми часов, – говорил ему этот оперативник, – и с перерывом на час. Как видишь, в этой части закон не нарушен».
И был прав, закон в этой части не нарушался. Шесть раз по семь часов с шестью перерывами. Сейчас заканчивается последний час из последних трех с половиной оставшихся.
Соглашаться на неслыханное преступление и брать ответственность за его совершение на себя – бред. Так во всяком случае казалось еще недавно. А сегодня уже не кажется. А все по недосмотру, будь он проклят...
– Ты кто по жизни, Варанов? – спрашивали по очереди двое оперов в кабинете высокого московского здания. – Ты бродяга, нищий, причем не просто нищий, а нищий спивающийся. При таком режиме дня, какой у тебя, жить тебе осталось не более пятка лет. А на зонах сейчас: три раза в день горячее питание, отрицание алкоголя, труд на природе. Это как раз то, что тебе просто необходимо. Необходимо, – наседал на Варанова тот, что с голубыми глазами, – чтобы выжить!
Действительно, казалось Иннокентию, чем мент не прав? Пища, труд, здоровье, порядком расшатавшееся... Верно говорит. А в чем вопрос-то, собственно? Откуда такая забота о чужом духе и теле?
И потек бред...
– Я в тысячный раз говорю вам, – все тише и тише с каждым разом говорил Кеша. – Я только взял портфель и кошелек. Я не убивал...
– А вот тут ты не прав, – возражал владелец пары голубых глаз. – Кто поверит в эту кашицу, Варанов? Ты хоть понимаешь, кто в джипе был?
Варанов не знал. Или вид такой делал, что не знал.
– Барыга с рынка «Динамо». Получается – кровавый передел собственности. А потому срок получишь малый. Судья тоже человек, у нее дети в школу без конвоя ходят, муж бизнесом занимается. И она понимает, что убит не самый лучший в городе человек. А потому – по минимуму, лет пять. Власть тебе благодарна будет, что укрывателя налога и явно социально опасного элемента из города убрали, а братва на зоне тебя подогреет, потому что барыг сама ненавидит. Такие дела.
– Вы с ума сошли, – шептал Иннокентий Игнатьевич, и на лице его отражался ужас, свойственный депрессивным людям, которые скорее умрут от страха, чем оторвут ножку кузнечику. – Я украл, и сейчас мне стыдно, но я не убивал!
Разговор продолжался долго. Очень долго. Двое суток. На всякий случай, чтобы Варанов о разговоре не забывал, в минуты отдыха его каждые четверть часа будили и спрашивали, не вспомнил ли он чего-то, о чем запамятовал указать во время предыдущего допроса. «Допрос» – так называли этот разговор двое в рубашках. Однако протокола Кеша так ни разу не увидел.
– Ему стыдно, коллега Гариков, – повернувшись к напарнику, сообщил голубоглазый, словно напарник был глух. – Он не знает, куда глаза девать. Ты, урод, ты долго еще целку-находчицу из себя строить будешь? Нашел он портфель, мать его... Что ты нашел – портмоне с баксами на дороге на этой раздолбанной Резниковской?! А шагов через десять вексель валялся, за который эскадрилью МиГов купить можно, да? А контрольного пакета акций фирмы-однодневки «Сони» рядом не валялось? Да ты, парень, на убийство по найму идешь, никак не меньше.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/vyacheslav-denisov/doklad-genprokuroru/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вячеслав Юрьевич Денисов
Важняк
«Цементные короли» сибирского города заодно с цементом приторговывают гексогеном, а ненужных свидетелей убирают без лишнего шума. Но убийство депутата Госдумы замять не удалось, и за дело берется следователь Генпрокуратуры Иван Кряжин. Он приготовил хитрую ловушку для оборотистых бизнесменов, а они сделали то же самое для него. «Важняк» попался первым: кассета с весьма пикантным компроматом не только сведет на нет результаты расследования, но и поставит крест на его карьере. Перед Кряжиным стоит выбор: играть по правилам дельцов или навязать им свои, ведь его ловушка хитрее...
Вячеслав Денисов
Доклад Генпрокурору
Тайна крупных состояний, возникших неизвестно как, сокрыта в преступлении, но оно забыто, потому что чисто сделано.
Оноре де Бальзак.
Человек, желающий найти мудреца, должен быть мудрым сам.
Ксенофан Колофонский
Часть первая
Глава первая
«Живем однова...» – подумал Иннокентий Варанов, литератор от бога, им же обделенный, сполоснул рот остатками вчерашнего пива (пить не стал – резанет горло кислотой, сожмет тело тоской по здоровой влаге), сунул ноги в кроссовки, завязал уверенными движениями шнурки и вышел из дома, что во 2-м Резниковском переулке.
Денег в карманах было до неприятного мало, что-то около шести рублей с обычным для похмельного утра обычного бродяги набором копеек. На те деньги бродяге не суждено не только выпить для удовольствия, но даже вступить в триединую формулу мужской солидарности невозможно. Что те шесть рублей? – треть в бутылке пива. А бутылку пива, как известно, на троих не пьют. Задержи его на улице любой милиционер да проверь карманы, так и выйдет. Вклиниться же в компанию знакомых, страдающих аналогичным заболеванием, вряд ли удастся (задолжал Варанов всем помногу и подолгу), а потому надежда была лишь на самого себя, болезного.
В районе пересечения переулка с одноименной улицей в голове Иннокентия Игнатьевича, как у настоящего бездомного, не озабоченного трудовой деятельностью, должны были зашевелиться мысли о наиболее доступных способах получения финансового подкрепления из известных вариантов, предоставляемых судьбой. И зашевелились.
Упоминание о судьбе не было метафорой, обязательной частью высокого штиля при изложении идей в голове пьяницы. Штиль – он был, но относился, скорее, к синоптическим определениям, нежели к литературным. Что же касаемо судьбы, то это самое что ни есть настоящее, точное мерило существования любого безработного пьяницы, остро переживающего абстинентный синдром, на коего, пьяницу, собственно, и был очень похож Иннокентий Игнатьевич Варанов. Человек с именем, но без роду, с местом жительства, но неопределенным. Как и без определенных занятий. Словом, философ в душе и пьяница по натуре.
Оглядев себя снизу вверх, Варанов убедился – так и есть.
Вернемся к судьбе. Она постоянно благоволила Варанову, периодически подкидывая случайные заработки на совершенно ровном месте. Вот и сейчас, выйдя на Резниковскую, Иннокентий (Кеша – как его звали в прошлом наиболее близкие коллеги-философы) потянулся, стараясь в этом жизнерадостном жесте не зацепиться за прохожего. Делать это в такое время суток не стоило, так как легко можно было влиться в пешеходный поток, выбраться из которого потом посчастливится лишь в районе станции метро «Сокол». Потянулся, послушал хруст суставов и впал в раздумье.
Любой прохожий, не торопись он сейчас на службу и окажись повнимательней, сказал бы – в тревожное раздумье.
Место, что он выбрал для размышлений, было подобрано со знанием дела: небольшая выемка, обозначающая подъезд с высоким крыльцом. Именно отсюда Иннокентий Варанов решил планировать день своей новой жизни. Почему новой, о том речь позже.
Имея шесть с полтиной в кармане, особо благородные поступки, как то: благотворительность, Пушкинские чтения или приезд к детдомовцам, не запланируешь, понятно. Тем паче, что ему мало кто будет в тех детдомах рад. Как, впрочем, и на Пушкинских чтениях. А зря. Ей-богу, зря.
Когда-то давно (лет двадцать назад) Иннокентий закончил филфак Саратовского института. Любил он литературу, русский роман любил, французские XIX столетия повести славил, античную драму почитал (в смысле – уважал) и преподавал по выпуске сначала в школе, а потом, увлекшись, на филфаке Саратовского института. Декламировал студентам «Эдипа-царя» Софокла, «Двух менехмов» Плавта, читал по ролям «Трильби» Нодье, но в начале девяностых филфак ликвидировали (образовали факультет кооперативной торговли), и преподавателю Варанову, дабы не нарушать его конституционных прав, предложили: либо школа в Смородинове, что под Козихой в Белгородской области, либо интернат для детей, требующих особого внимания, в Раздольном у Чанов, что за Уралом. Неготовый к таким жизненным коллизиям литературовед Варанов растерялся, собрал чемодан вещей с чемоданом конспектов и томиком Альфреда де Виньи и отправился покорять Москву.
Немного, чтобы прояснить дальнейшие пертурбации в судьбе еще молодого преподавателя, отвлечемся. Это отступление сделать можно, а потому, как говорят некоторые известные люди, должно.
Москва – город счастливых совпадений, но милостива она лишь к тем, кто шагает по ней, ничего не требуя, довольствуясь малым. К тем, кто не выясняет, какую кровь она несет в своих бесконечных кровеносных сосудах улиц, вливающихся в артерии, не пытается проверить на крепость нервишки измочаленных постоянным «Вихрем» милиционеров и не курит на ее аэродромах. Например – на Красной площади. Тех же, кто прибывает ее покорять, Москва опускает на свое дно и ставит на колени. Немало случаев известно, не стоит тратить время на судьбы тех, кого унесли артерии этого года к клоаке, да там и оставили.
Возвращаемся к Варанову.
Москва... Как много в этом звуке. Как много в нем отозвалось.
Любой, кто приезжает в Москву, чтобы его не сочли за идиота, первым делом идет на Красную площадь, что у мавзолея Ленина, потом на Арбат. Даже если сразу после этого тебя шваркнут трубой по голове и обчистят в каком-нибудь проходном дворе на Варварке, то по приезде домой в село Глухово ты можешь сказать с чистым сердцем:
– Я б-был в М-москве. Я, блин, видел ея.
На Красной Варанов побывал сразу по приезде. Ничего особенного. Единственный вопрос, который встал у него в голове сразу после выхода оттуда, был: как не ломает на ней ноги почетный караул?
Впрочем, тревога за ноги тех, кто ежедневно чеканит по двести десять шагов туда-сюда от караульного помещения до мавзолея, скоро рассеялась. Варанов нашел Арбат и побрел по нему, тая? печаль в своем сердце, в самом сердце Москвы. Совпадение напрашивалось на издание небольшого сборника стихов, но вдруг, проходя мимо четвертого ряда фонарей, Варанов полюбил.
Он полюбил внезапно, вспыхнув, как спичка. Увлекся как раз в тот момент, когда уныло размышлял над предложенным на Московской бирже труда вариантом: Белоголовица – деревня под Козихой, где-то под Москвой.
К черту литературу! – вон тот мужик в рыжей кацавейке только что продал полотно пятьдесят на восемьдесят какому-то японцу и получил от него двести долларов.
Двести долларов! – да таких денег Варанов просто не видел. А картина? – два круга, один из которых красный, второй вообще не закрашенный, кривая рожа между ними, и все это «искусство» на голубом фоне. Двести долларов, минус краски на сто рублей, минус рамка на столько же, за вычетом двух часов воспоминаний вчерашнего похмельного сна и отображения его на куске холстины ценою десять рублей за погонный метр.
Так Варанов, человек одухотворенный, из глубинки, почитающий античную литературу и Гомера, полюбил живопись. Невелики перемены, скажет обыватель. Живопись, поэзия – все едино, если ты человек от искусства. И Иннокентий Игнатьевич, еще неделю назад преподававший в вузе литературу, отправился покорять Москву новым, прибывшим в нее гением.
Некоторая сумма у него имелась, ее он получил на бирже (не путать с ММВБ), и всю, за исключением пары сотен, потратил на масляные краски, холстину, мольберт и кисти. Ему посоветовали брать колонковые – беличьи же?стки – и лучше подходят для новичков, и он взял.
Литература заставляет создавать образы мысленные, живопись – реально существующие, ощутимые зрением, поэтому в последней Варанов полюбил импрессионизм, а в нем – кубизм. В кубизме людям от литературы, впервые взявшим в руки кисти, как правило, легче передавать окружающим свою душу.
Свое первое полотно, – оно называлось «Несовместимость», – Варанов продавал три месяца и чуть не умер с голоду. Собратья по кисти его жалели, кормили, и выжил он благодаря исключительно художественному братству. Девяносто дней новоиспеченный художник сидел и не понимал, почему кубы справа и слева от него уходят за доллары, а его собственные стоят на месте, и на них никто даже не смотрит.
– Ты пойми, – увещевал Варанова арбатский старожил Пепин по прозвищу Репин, – мало написать, нужно душу вложить.
Как вкладывать в кубы душу, Варанов не знал, поэтому стал робким маринистом. Его «Парус надежды» качался в потоке туристов около трех недель, пока к нему не подошел известный мастер морских батальных сцен Вайс. Варанова жалели все: что он тут, на Арбате, делает, тоже все знали – они все тут делали это, а потому доброхотов не убавлялось.
– Что это? – спросил Вайс, ткнув пальцем в центр холста.
– Это, – сгорая от стыда за неумело выписанные барашки волн, пролепетал Варанов, – матрос плывет на яхте.
Сказал и на всякий случай добавил:
– По морю.
– Плавает говно, – резюмировал бывший моряк Вайс. – По морю ходют. А у тебя этот матрос... Кстати, где он? А? Это матрос? Ну, так вот, он действительно плывет.
И тоже добавил:
– На яхте... Бросай ты это дело.
«Несовместимость» общими усилиями втюхали туристу-докеру из Глазго за сотню, «Парус» поменяли на купюру с изображением президента Гранта какому-то негру из Чада. Знающий английский язык портретист Смелко выступил в качестве переводчика и впоследствии, когда восхищенный негр ушел, унося холст, пояснил, что покупатель живет в городишке Умм-Шалуба, что на западе Сахары, паруса не видел ни разу, а потому сделку можно считать удачно завершившейся.
Большая часть кубистов-пейзажистов была, как и Варанов, бездомной, но считала это не пороком, а совершенством души. Истый художник должен быть свободен от всего, в том числе и от квартплаты, которую так нагло и беззастенчиво навязывают московские власти. Жила эта когорта свободных художников в обветшалом доме, готовящемся к сносу, на Сахарной; на свою нужду откладывала, но малую толику в общак вносила. Тем и существовала на общежитских началах. Варанов же, прибившийся к компании работников кисти и цвета, пришелся им по нраву, так как знал годы жизни Джузеппе Бальзамо (Калиостро) и что «прозопопея» – это не мат, а стилистический троп.
В минуты отдохновения Варанов, выпивая портвейн мастеров и закусывая их же колбасой, рассказывал художникам о судьбе Шатобриана, а на Арбате, проявив недюжинный талант словохота, убеждал туристов купить выставленные полотна на языке Стендаля в первоисточнике.
– Просила Третьяковка, – говорил он приезжим из Испании, кивая на геометрию Пепина, – но за?ла импрессионизма там еще не готова. Быть может, эта картина найдет свое место в Прадо...
– Tretyakov Gallery? – удивлялись не понимающие по-русски и еще меньше по-старофранцузски испанцы.
– Си, – скромно тупил взор Варанов.
Доходы художников, благодаря так и не уехавшему в Козиху филологу, понемногу росли, получал средства и Варанов. Вскоре он смог даже снять маленькую комнатку (сырой подъезд, третий этаж, окна во двор, пружина в диване) на Моховой. Одевался, конечно, не бог весть как, но комната! – он был уже москвич.
Однако радужным мечтам о безоблачном существовании сбыться было не дано. Портвейн медленно, но уверенно делал свое дело, и теперь по утрам Варанов уже не мог идти, не выпив некоторого его количества. Доходы день на день не приходились, а жажда мучила ежедневно, и по нескольку раз. Занял раз у Пепина, потом второй у Вайса. Когда понял, что отдать невозможно, решил на время выйти из спасшей его от голодной смерти компании художников, чтобы подзаработать да отдать долг.
Москва была покорена всего один раз, Наполеоном, и то ненадолго. Варанов это понял, когда разуверился в том, что он, особо не утруждаясь, сможет «подзаработать» и для отдачи долгов, и для собственного достатка.
В первый раз его, мастера слова и знатока биографии де Вильяка, взяли на лавке у Патриарших. Как он туда попал с Моховой, Варанов вспомнить не мог. Проснулся без почти новых ботинок, джинсов и куртки, в которой лежал паспорт и несколько жетонов на метро.
Пятнадцать суток он мел какие-то улицы, одним милиционерам известные, мыл «уазики» с мигалками на крыше и пол в дежурной части. Через две недели его, вышедшего из запоя окончательно, поставили на учет и выпихнули за ворота ОВД.
В комнату на Моховой лучше было вообще не возвращаться, потому как не плачено за нее уже больше двух месяцев, и хозяйка еще до его задержания на Патриарших предупреждала, что, если назавтра плата не поступит, то он может быть уверен в том, что она заявит кражу. Кражу старуха, конечно, не заявила, в противном случае его уже давно бы из ИВС перенаправили в СИЗО (говорят, страшное место), но, оказавшись за воротами отдела милиции, он одновременно оказался и без крыши над головой.
Пять лет.
Ровно столько Москва и арбатская пишущая братия не видела Иннокентия Варанова, опустившегося художника слова, вернувшегося в нее с покаянием.
– Кажется, я видел Варана, – шепнет, получая от американской туристки доллары, Пепин Вайсу. Вообще-то, картина называлась «Сражение под Нарвой», но, увидав на груди очкастой и прыщавой мисс пацифистский медальон, похожий на поломанный знак от «Мерседеса», Пепин представил ее как «Мир над Манхэттеном».
– Ерунда, – решительно возразит маринист. – Он давно где-то загнулся, оставшись должен мне пятьсот рублей.
– Ей-ей, видел, – поклянется импрессионист. – На автобусе проезжал мимо Резниковской, он там на крыльце какого-то дома сидел и газету читал.
Вайс смолчит, но не поверит.
А вскоре окажется, что старого художника зрение не обмануло. Уже через три дня на Арбате покажется знакомая, но уже порядком подзабытая за пять лет, с неуверенной походкой фигура литератора из Саратова. Он подойдет, поклянется, что судьба била, но о друзьях помнил, раздаст долги и вынет из обветшалой сумки несколько бутылок портвейна.
Пять лет. Они прошлись по бывшему литератору, как литовкой, – это мог сказать каждый, кто знал Иннокентия. Взгляд Варанова опустел, зрачки шарили по тылам баров и кафе в поисках нужды в грузчиках, руки почернели, лицо осунулось. Жил он тем, как сам говорил, что мыл на светофорах стекла авто, выпрашивал в метро милостыню (за что был не раз бит работодателями профессиональных попрошаек), помогал разгружать фургоны с товаром у коммерческих киосков и... Вот, пожалуй, и все. Каждое утро нового дня он выходил на улицу Резниковскую и думал, где добыть так необходимые его организму деньги. Однако долги кредиторам он вернул, а как средства ему достались, особенно никто не интересовался.
Они пили, он все больше подливал, видимо, старался загладить вину. Этому тоже никто не противился, потому что так, как правило, достается больше. Разошлись художники уже под вечер, а Иннокентий, попрощавшись с Пепиным и Вайсом, ушел к себе на Резниковскую, чтобы собрать вещи и, как пообещал, вечером следующего дня снова влиться в старый коллектив. Этому тоже никто не противился. Разрушенных домов в Москве хватает, а что касается малой толики в общак, то по последним данным видно, что судьба Иннокентия била, но разума не отняла. Напротив, он стал еще более словоохотлив, и это гарантировало неплохие распродажи.
Вот и сегодня, в восемь часов (около этого часа похмелье начинает давать о себе знать особенно сильно – это знает каждый алкоголик), он вышел из комнаты очередного, подготовленного к сносу дома и сел на крыльцо под непонятной вывеской – «Статстройуправление», дверь под которой не открывалась уже несколько лет. «Вход со двора» – вещал указатель, и только по этой причине Варанова никто с крыльца не гнал.
Дома в Москве сносят не так, как, к примеру, в Саратове. Если утром к стене подошел мужик с портфелем и написал на стене: «СНОС», то это информация не для тех, кто приедет дом ломать, а для тех, кто в нем живет. А потому утром, выходя из дома и заметив такую надпись, жильцам лучше всего прихватывать все нажитое с собой, потому что уже вечером, возвратившись, вместо пятиэтажного дома можно обнаружить лишь груду кирпичей, два экскаватора и бригаду спасателей с собаками, ищущих под завалом живых.
Тонкости эти Иннокентий знал, как-никак почти коренной москвич, а потому, спускаясь полчаса назад по скрипящим лестницам брошенного образчика сталинской архитектуры, держал в руке пакет с вещами, а на голову нахлобучил кепку. Дел сегодня было задумано много, и вещи обязательно должны будут пригодиться.
Собственно, обойтись можно было и без кепки, так как на дворе июнь, и в восемь часов уже никак не меньше пятнадцати градусов в тени. Однако выхода не было, и пакет лег рядом с Кешей на крыльце. Варанов торопливо закурил и автоматически бросил кепи перед собой, ободранной подкладкой наверх. Пока мысль стремительно идет по лабиринтам мозга, не исключено, что кто-то обронит в кепку монетку. Раз пять по два рубля, и идею можно будет развивать уже с бутылкой пива в руке. В любом случае – он нищий, претензий к которому всегда по минимуму.
Насобирав за полчаса искомую десятку, Варанов поднялся и направился к ближайшему киоску. Работа началась.
Пустая тара подсказала беспроигрышную тему. Сунув бутылку в пакет, Варанов заспешил во двор. За ночь жители квартала (дальше лучше не ходить) могли набросать в мусорные баки остатки ночных пиршеств, а это гарантировало не менее двух-трех десятков стеклянных емкостей, как две капли воды похожих на ту, что уже покоилась в его пакете. В любом случае его поймут все, кто увидит. Не прогонят.
Зайдя в ближайший от киоска двор, Кеша остановился. Машинально потрогал мочку уха и стал соображать, как мотивировать свое нахождение рядом с машиной. А она стояла, огромная, именуемая джипом, посреди площадки, между разваленной детской песочницей и лавочкой подле нее.
«Лэнд Круизер» серого цвета с зеленоватыми стеклами стоял, словно ожидая кого-то, трубой не дымил, но за рулем сидел человек. Скользнув взглядом по сторонам, Варанов медленно прошел к машине. Вынул из пакета чистую тряпку с баллончиком стеклоочистителя «Секунда» и услужливо наклонился к огромному зеркалу:
– Помыть?
Обычно об этом никто не спрашивает, это глупо. Если у каждого водителя спрашивать, мыть или не мыть, то день закончится вхолостую. Лучше быстро мыть, пока горит красный, а потом с улыбкой (но милой, а не злорадной!) склонять голову к боковому стеклу. Как правило, платили. Один раз, пять лет назад, даже перепала сотня. И откуда? – из «девятки»! Парень, наверное, просто перепутал купюры – на улице вечер стоял. Теплый такой...
Варанова водитель, несомненно, видел, как видел и тряпку с баллоном в его руках. Между тем стекло не опустил и подальше не послал.
Отработал Иннокентий на славу. Стекло горело, как только что отлитое. Хозяин джипа должен быть доволен. Он, наверное, даже очень доволен, если за те несколько минут, пока Кеша тер машину, опустил руку с соседнего сиденья и развалился в кресле.
Варанов снова незаметно посмотрел по сторонам и подошел к окну. Когда стекло не опустилось, и оттуда не появились деньги, он помялся у двери, давая повод мужику, выгуливающему неподалеку собаку-монстра, заинтересоваться необычной сценкой. Мужик с силой потянул на себя поводок со слюнявой мордой на ошейнике и остановился для финальной сцены. Сейчас, по всей видимости, из машины должен был выйти хозяин или несколько громил и вышибить обнаглевшему бомжу мозги. Еще больше он заинтересовался, когда Варанов осторожно постучал грязным ноготком по ручке двери.
Но монстр рванул, и хозяин решил пойти за ним.
Теперь, подумалось ему, хозяину, два варианта. Либо водитель выйдет и набьет-таки бродяжке морду, либо, если за рулем не отморозок, расплатится. Должен же он, водитель, понимать, что на его машину потрачено некое количество сил, которые чего-то стоят! – думалось хозяину, который, несмотря на силу, неумолимо влекущую его в подворотню, верил тем не менее в разум.
Когда же дверь не открылась и на сей раз, Иннокентий Игнатьевич понял: пора.
Он щелкнул ручкой, приоткрыл дверь и заискивающе бросил:
– Доброе утро.
Да неудачно как-то открыл, переусердствовал от волнения, что ли: вопреки ожиданиям, обманутым видимой тяжестью дверцы, она распахнулась легко и ударила Варанова по переносице...
Резкая боль в носу, оранжевые, как утреннее солнце, круги перед закрытыми глазами.
Дорого в Москве дается рубль, дорого.
Последнее, что видел мужик, уходя со своим массивным псом в арку, был бомж, зажимающий рукой кровь, льющуюся из носа. Видать, добился своего бродяга, получил...
В другое время, лет пять назад, Варанов ничуть не удивился бы, если бы получил в ответ перстнем в глаз. Однако, вопреки всему разумному, Кеша, зажимая рукой капающую из носа кровь, нагло повторил:
– Доброе утро, говорю.
Лет пять назад, когда он только начинал, Иннокентий понял бы, что попал.
На водительском кресле джипа сидел полноватый мужик одних с ним лет, но в два раза шире, в пятьдесят раз чище и в тысячу раз дороже одетый.
«Он спит вечным сном» – напрашивалась аллегория в голове филолога, когда он рассматривал вылившуюся из затылка и засохшую на воротнике и груди белоснежной рубашки и серого костюма кровь.
«Это труп», – мелькнуло в голове нищего Варанова.
У Иннокентия не подкосились ноги. Напротив, мозг стал работать чище и размереннее. Любой другой, относящийся к себе нежно и бережно, ушел бы от джипа и тотчас скрылся в каком-нибудь другом административном округе, по дороге постаравшись забыть о случившемся. Но это был удел другого, не Варанова.
Не теряя более ни секунды, он протянул через труп водителя руку и забрал с соседнего сиденья пухлый портфель. Оглянувшись, похлопал по карманам толстяка в джипе, определил, в каком находится бумажник, прихватил и его. Хотелось снять еще и перстень с пальца, но как полагал Кеша, на это у него уже не оставалось времени.
Последнее, что он увидел, осторожно прихлопывая дверь, был маленький флажок российского триколора, застывший в своем трепыхании на лацкане пиджака водителя.
Через полчаса Варанов, спустившийся со второго этажа своего, готового к сносу дома, направился к станции метро. У него сегодня много дел: нужно срочно влиться в компанию Пепина и Вайса, чтобы не выходить из нее до последнего момента. Когда этот момент наступит, зависело уже не от него, а от тех, кто будет осматривать джип под запись в протоколе.
Кто знал его пять лет назад, мог бы с уверенностью заявить – настроение у него было тревожное.
Глава вторая
Координационное совещание, созванное Генеральным прокурором, обещало быть долгим и нудным. Долгим, потому что перечень тем, касающихся повестки дня, был пресыщен сочетаниями: «борьба с терроризмом», «уличная преступность», «межнациональная рознь», «результаты проверки исполнения законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность». Интересен в плане получения новой информации о деятельности отдельных структур правоохранительных органов был лишь последний вопрос, но он стоял особняком и оглашение его было назначено под конец совещания. По остальным же вопросам можно было вести разговоры в течение оставшихся лет жизни. И даже по одному, любому из них, можно было засидеться до конца квартала. Потому и нудным.
Поговорить, а уж тем паче – поспорить, было о чем. Тем не менее существующие на правовом поле пни и овраги, увеличивающиеся в числе и расширяющиеся в масштабе, заставляли Генерального все чаще пренебрегать качеством совещаний, делая основной акцент на количество рассматриваемых вопросов. Нельзя, предположим, провести координационное совещание, минуя вопрос о терроризме. Или, разобрав его по костям (что маловероятно, учитывая время совещания – оно не могло длиться вечно), упустить вопрос о вновь обострившихся отношениях среди этнических меньшинств. А меньшинств в Москве... Много меньшинств. Так что, если их из Москвы убрать, то станет ясно, почему на улицах воют собаки, а по Тверской ветер гоняет перекати-поле.
Сложно сейчас в Москве. И упрекнуть Генерального не в чем. Поддержать хочется, словом заступиться за него, да только не до этого. У каждого из присутствующих свои проблемы, сугубо специфические, хоть и единые по смыслу с остальными. Разобщение преступных сообществ, предотвращение сезонных преступлений, борьба с наркобизнесом. Каждый занимает свою нишу, делая общее дело.
Генеральный знает, что город в страхе. Хоть и вещают телекомпании и газеты – все под контролем, обстановка на самом деле сложная. О контроле особый разговор, слово свое о нем Генеральный еще скажет. А пока смотрит прокурор на близких по духу, им собранных коллег и думает, как судно развернуть, чтобы волны через борт не плескали. Понимает, что кровь льется и все труднее раны зажимать. Закон смешон, несовершенен, но кто совершенен? А это – и обвинение, и оправдание. Попробуй подступись с таким законом, начни-ка с ним воевать. В том смысле – что об руку с ним, с законом. Вступишь в бой, перешагнешь через передний край обороны – а закон из-под руки выворачивается и вместе с ворогом прет тебя на исходную. Несовершенен закон, двулик, как Янус.
Раньше в Генеральную прокуратуру заявления от граждан приходили: спасите от судебного произвола. Сейчас пачками документы приходят: спасите от произвола председателей судов и квалификационных коллегий судей. И от кого приходят? – от судей! А письма не простые, письма увесистые – по килограмму приложенных документов, подтверждающих факт того, как можно судью уничтожить, будучи председателем областного суда. Судей районных, судей областных, независимых и делу справедливости служащих, уничтожают пачками, как быдло. Председателева работа, нет сомнений. Окопается такая тварь за столом председателя областного суда и чинит расправу над всеми неугодными. Коллегия квалификационная – своя, притертая без шва, Совет судей – рядом, прирученный, с руки морщинистой, старческой, чуть дрожащей, вскормленный и вспоенный. Стоят друг за друга насмерть, команда «Варяга» по сравнению с ними – дети.
Попробуй на этом правовом поле с такими пахарями пни повыкорчевывай! Все лучшие вершители правосудия в отдельных областях из судов уже давно вытеснены, остались те, что задачи решают, далекие от правосудия, близкие к кормушке избранных. Это кто в областной суд из районников хочет? Эта? Вот пусть она и рассматривает дело по иску судьи такой-то к председателю ее суда по защите чести и достоинства. Это кто в областном суде хочет остаться? Эта? Вот она-то и будет рассматривать жалобу судьи такой-то на решение квалификационной коллегии судей о лишении последней полномочий. А там посмотрим, кто в областной суд попадет и кто в нем останется. По выполняемым задачам и заслуги. Свои своих казнят во имя чести главного старца – будьте уверены, старец еще лет пять в кресле просидит.
Шлюховатое правосудие, само себя имеющее, а во главе всего этого областного дворца терпимости – подонок мстительный, всем почему-то кажущийся застенчивым ублюдком, а потому милым и безобидным. Организует у себя во дворце празднества пошлые, отмечая годовщины суда то по календарю земского уклада от 1801 года, то от Рождества Христова, то от декрета Совнаркома. А потому в позапрошлом году суду областному двести стукнуло, в прошлом – две тысячи, а в текущем – восемьдесят. И все даты-то круглые, почетом не обойдешь, добрым словом не минуешь.
Знает Генеральный, знает, как в одном таком суде субъекта Российской Федерации юбилеи каждый год отмечали. Собрание приближенных, весь зал заполнивших (не «своих» судей, независимых, туда – ни ногой, ни туфлей!), а среди них рассеявшиеся демократической дымкой – приглашенные извне, ничуть не связанные должностными словом и делом со слепой Фемидой:
– От завода имени Струйкина областному суду – пять холодильников и два кондиционера!..
– От общества очень закрытого типа, типа акционерного – две путевки на Канарские острова!..
– От лица без юридического образования без образования юридического лица – снегоход областному суду и ружье!..
И вручают, и хвалят, и благодарствуют... О «спонсорских» суммах в незаметных конвертах сказано в громогласных поздравлениях не было ни слова, да только все эти цифры до последнего нуля – вот они, в папке Генерального, что в сейфе, на отдельной полочке.
Тут не только Генеральный, тут любой, мимо дома на Большой Дмитровке случайно идущий, спросит: а зачем суду областному две путевки на Канарские острова? Как бы не понимая, спросит, не догадываясь, кто именно из областного суда туда, на острова, направится. С ружьем все понятно. Про ружье вопросов не будет. Смертную казнь никто не отменял, мораторий, он до поры – мораторий. Он на то и мораторий, чтобы его то объявляли, то отменяли. Как операция «Вихрь-антитеррор». Все в курсе, когда он объявлен, но никто не знает, когда его отменят. Каков приход, такая и Дума. А приход последние годы такой был улетный, что понять совершенно невозможно: то ли он по вине пустившего на «косяки» предвыборные листовки электората случился, то ли по какой иной причине. Как бы то ни было, Дума наполнилась певцами, вокалистами, бардами, кинорежиссерами, бывшими спортсменами и бизнесменами, которых не успели посадить до вручения тем депутатских мандатов.
Вот раньше, помнится, еще до коренных реформ, обеспечивающих просветление правового поля, куда интересней было. Взяли и зацепили думцы, кого бы вы думали? Правильно, бывшего Генерального. Тот уже сам не рад, ничего ему не нужно, говорит – ложь это все, и низко для меня честь оправданиями марать. Мол, кто свят и чист, никогда не опустится до оправданий. Тем более на подобные темы. А темы были, надо сказать, еще те.
Но думцы (народ того созыва был, ох, кова-а-арный) сказали твердо – поддерживаем Генерального! Надо еще выяснить... тот ли это Генеральный, о ком речь идет? Не другой ли? Депутатский запрос направить, прояснить ситуацию до последней позы...
Запашок с Охотного ряда пошел, надо заметить... Сильный такой запашок.
Генеральный (бывший) говорит – ах, оставьте. Я никогда не соглашусь на это. Я лучше уйду. Уже и заявление я написал. А Дума: ну, почему же так скоро?.. Не так уж часто у нас интересные заседания случаются...
В Думу, как на Олимпиаду, каждые четыре года самых лучших шлют. Но в прошлые созывы интереснее было. Бывает, как разложит этот хор на несколько голосов тему какую да как затянет... Сейчас певцов еще больше, но раскладывать уже не получается. Не получается раскладывать, хоть убейся. Вообще-то, сказать честно, этот хор прошлогодних спортсменов главную песню еще не затянул – обустройство на улице Улофа Пальме у них продолжается, не до песен, но что-то подсказывает Генеральному, что проблем не убавится.
Знает все Генеральный, знает. Положение у него такое, знать все про вся. А что не рассказывает о сокровенном вслух, так положение молчать обязывает. Говоруны все – вон они, на экране кинозала Государственной думы.
И теперь кто пояснит, как с этим хором в пятьсот человек и судами субъектов Федерации, выше описанными, работать? А работать нужно, да при этом еще держать масть человека справедливого, вдумчивого, нетерпимого к нарушению прав человека. И преступления раскрывать, и олигархов, чьи вышки на Севере они сами подсчитать не могут, к ногтю щемить. Зажрались, лоснящиеся. Клубы футбольные приобретают, игроков оптом закупают, шале в Швейцарии к рукам прибирают – используют, словом, государственные деньги на собственные нужды. А ты попробуй с этими певунами да мерзавцами из областных судов порядок наведи!..
А Президент, он ведь, хоть в пучину погружается да в небе парит, на земле-то все видит. Раньше проще было.
– А скажи, Генеральный, – спрашивал бывший бывшего, – как у нас, понимаешь, с правопорядком в стране в плане сенсационных раскрытий громких преступлений?
– Погядок, – пожимал плечами бывший, не сводя глаз с бывшего, – все под контголем.
И брал он под контроль, и брал, и брал. Взял под контроль столько, что теперь можно с уверенностью сказать: действительно, под контролем у него было все.
А сейчас Президент не тот. Не прокатит с ним такая загогулина, ей-ей, не прокатит.
Посмотрит, чуть голову склонив, и спросит, посмотрев в глаза, как умеет делать лишь он один: кто? когда? почему? Мол: имена? фамилии? явки?
И как-то сразу нехорошо на душе становится. Тут хоть бери под контроль, хоть не бери, а все одно отвечать – и кто сделал, и когда будет раскрыто, и почему не раскрыто до сих пор. А ты попробуй с этими хористами да золотушными из областных судов поиграй в викторину! А начнешь в этой Думе концы искать да зажравшихся председателей судов (о единицах речь, понятно) к ответу призывать, сам респондентом станешь. Вопрос – ответ – привет – демобилизация. Часы на память, орден, грамота, караси в Балашихе.
Ум, честь и совесть – вот что должно присутствовать в каждом поступке Генерального. Внутри должен оставаться не заметный никому юмор, а вокруг него, доносясь до самого футбольного субъекта Федерации, – тонкий, не перебиваемый ничем аромат профессионализма.
Знал Генеральный об этом, верил в себя и помнил все обо всех. Око государево, это не наркоманский зрачок. Взглядом чистым, но тяжелым ощупывает Генеральный всех, кого на координационное совещание собрал.
Интересная картина получается, занимательная. Директор ФСБ, тот сам прибыл. Человек чуткий, внешне милый и застенчивый, хотя голову тоже чуть клонит и руку на руке на столе держит. Стаж... Всегда готов к ответам, врасплох не застанешь, единственный недостаток – бывает, работу делает чуть большую, чем нужно. Один сахар в подвале рязанского дома чего стоит. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Ребята его, дай бог им здоровья и многих лет, трудятся – позавидовать стоит. Хоть и тоже с хитрецой. Сядет, бывает, Генеральный сводки сверить да правовую сторону вопроса осветить для самого себя и странные вещи обнаруживает. Написано в документе, черным по белому написано, не сотрешь: «28.11.2003 г. оперативным подразделением по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни задержан груз героина весом в 24,5 кг, следующий из Афганистана на Дальний Восток РФ транзитом через Новосибирск».
Браво. Ребята из таможни серпом выбрили шариатские бороды и подчистили за погранцами из Таджикистана. Работают люди? Работают. А кто-то говорит, что их реорганизовывать нужно, потому как толку от них – как с козла молока. Но неплохой удой тот козел дает, надо сказать. 24,5 килограмма героина если на дозы разделить, то получится, что все население Владивостока сможет пребывать в хорошем настроении и не замечать отсутствия света и горячей воды месяца полтора. Но опера из Новосибирской таможни сработали так, что очевидного во Владивостоке не скрыть.
Отложил листок прокурор, пометил. Читает дальше. Другой документ, с другим же угловым штампом, читай – из другого ведомства: «28.11.2003 г. сотрудниками УФСБ по Новосибирской области задержан курьер межрегиональной преступной группировки, занимающейся торговлей наркотиками. Общий вес героина, переправляемого им транзитом через Новосибирск, составил 24,5 кг».
Вот-те на! Какие-то странные партии через Новосибирск ходят. Все по 24,5 кг и в один день. Новосибирск, получается, не географический центр России, а ее центр наркоторговли.
А это что?.. А это – письмо-оперативка из только что появившегося на свет, но уже начавшего «агукать» Комитета Госнаркоконтроля. Сообщают: «В ходе реализации оперативной информации сотрудниками Комитета по Новосибирской области 28.11.03 г. задержана партия героина, следующая транзитом из Афганистана на Дальний Восток». Ни много ни мало – без пятисот граммов четверть центнера.
Это что на поверку выходит-то, позвольте? С одной стороны, молодцы, ребята, профи. Однако как-то беспокойно за будущее становится. Если в одной столице Сибири за день опера срубают с приезжих по 73,5 кг тяжелого наркотика, то... Тогда почему нет сводок за 27.11? За 29.11? Или 28 – число такое, когда прут и прут? Опять же, если вдуматься, то все страны «Золотого треугольника», вместе взятые, столько мака вырастить просто не в состоянии. Площадей, простите, не хватит.
Копнул Генеральный тему, выяснил, успокоился. Глаза чуть прищурил, эмоций не сдал. «Во взаимодействии»! И как он не заметил? Полистал снова бумаги – нет, все правильно, 3 раскрытых преступления зарегистрировано. Все в Новосибирске, в один день, вес тот же. Три раскрытых преступления. Во взаимодействии... Да какая разница, если 3 преступления уже раскрыто? Работают люди, работают. Надо уметь во взаимодействии работать.
Председатель Комитета сам на совещание прибыть не смог, отзвонился, прислал зама. Генеральный – человек опытный, психолог отменный. Директор ФСБ сидит, спокоен, слушает. Замминистра МВД внимателен, глаз с прокурора не сводит, всегда готов к предложениям и дополнениям. А вот зампредседателя Комитета, полковник, пишет. Слово услышит – записывает. Возразит кто – перечеркивает. Служака, однозначно. Генеральный понимает: Комитет сформирован, можно сказать, вчера. Люди в него попали разные, притереться не успели, да и смысл работы для многих нов. Трудяга этот в полковничьих погонах – с «земли» в Комитет прибыл, в Управлении Западного административного округа работал, общественным порядком заведовал. А сейчас по наркотикам орудует, все больше учится, чем приказы отдает. Пусть пишет. Ему просто еще никто не сказал, что новые знания увеличивают объем незнаний.
Для чего, собственно, Генеральному прокурору собирать координационные совещания?
Все просто. Ответ кроется в 24,5 килограмма героина, изъятых у несчастного таджика группой в погонах разных цветовых оттенков. Нетрудно представить, в какой ужас его привело такое количество народа. Взаимодействие это называется, если таджик не понял.
Проблема лишь в том, что это не полнокровное взаимодействие, где каждый делает свою работу, а банальный дележ информации с целью регистрации работы на всех. Создай иные комитеты, министерства, ведомства, туда придут все те же люди, и никто не в силах отбить у них привычку делиться, лукавить и показывать больше, чем имеешь.
Потому и нудное это совещание, что трудно переубедить, тем более воспитать. Все будут делать то, что делали на протяжении долгих лет. Стаж!
Дверь в комнату для совещаний, дубовая дверь, на бронзовых петлях от притолоки до пола, приоткрылась, и в проеме ее появился человек в отутюженном кителе старшего советника юстиции.
– Прощу прощения, – предупредил Генеральный речь зампредседателя Комитета (мол, парой слов перебросимся, не считать за пренебрежение).
Человек в кителе пересек залу, склонился над плечом Генерального и стал что-то нашептывать, чуть добавляя энергетики в свою речь едва заметным шевелением руки. Участники совещания чертили взглядами по лицам прокурорских, пытаясь разгадать причину появления помощника Генерального, но ничего интересного из этого перекрестного осмотра не вынесли.
Едва помощник прокурора вышел за дверь (входить во время заседания кому-либо без особых на то причин запрещалось, и все это знали), как она снова подалась вперед, и появился полковник милиции.
Странно, но Генеральный пригласил его войти и направиться к тому, к кому он, собственно, и пытался прорваться сквозь кордон у наружной стороны дверей.
Перешептывание повторилось с тем лишь отличием, что в нем участвовало другое ведомство. Полковник скрылся за дверью, и Генеральный, сделав паузу, заметил:
– Простой пример того, что говорим мы много, а в действительности, на деле, как было, так и остается. «Взаимодействие», называется. А ведь, Михаил Сергеевич, и мой помощник, и ваш заместитель говорили об одном и том же.
– Пожалуй, – едва заметно, насколько допустимо в разговоре с Генеральным, улыбнулся замминистра. – Если вам сообщили об обнаружении трупа депутата Оресьева, то так оно и есть.
За столом движений не возникло: во-первых, статус собравшихся не тот, чтобы переглядываться и языками цокать, во-вторых, и покрепче вести слышали. Однако депутат – это уже нехорошо. В смысле, вдвойне нехорошо.
– Это тот Оресьев, что из «Отчизны»? – лишь уточнил зампредседателя Комитета.
Сообразительный полковник, далеко пойдет. Если не остановят.
– Из нее, – сказал директор. И добавил так, что даже полковнику это показалось навязчивым: – Из нее, из нее...
– А труп криминальный? – не унялся полковник из Комитета.
– Такое впечатление, что да, – сказал Генеральный и выскользнул из цепких лап необходимости делать серьезные заявления.
Право, тяжело бывшему полковнику из УВД по ЗАО здесь присутствовать. Язык слышится русский, а смысл сказанного доходит с трудом.
«Обвыкнешь, переведешь, – мысленно резюмировал, прочитав мысли милиционера, Генеральный. – Не такие ума набирались».
На том совещание можно было считать законченным. Возможно, оно длилось бы еще часа два, однако двойное вмешательство в привычный ход совещания указало на более важные проблемы. А проблема перед Генеральным сейчас стояла одна. Понять, что произошло, найти первые нити и выяснить хотя бы предварительную версию случившегося. Не пройдет и часа, как поступит вызов к первому лицу государства. И чего хотелось Генеральному меньше всего, так это на залп: кто? когда? почему? – ответить: «Все под контролем».
Ни черта не под контролем!
Выйдя из залы совещаний, Генеральный прошагал по коридору, сотрясая своим крепким и могучим телом пространство, и распахнул свою дверь.
– Начальника следственного управления ко мне, – не оборачиваясь, предупредил он секретаря, и вошел.
Несколько листков, поднявшихся над стопкой в момент его энергичного движения, опустились на место. Убедившись в этом, Нелли Ивановна Смешко, секретарь Генерального, подняла трубку.
– К нему? – раздался в трубке приятный голос.
– К нему, Егор Викторович, – улыбнулась секретарь и тоже предупредила: – Не в духе.
Егор Викторович Смагин, начальник следственного управления Генеральной прокуратуры, человек весьма приятный и по-своему симпатичный, работал с Генеральным уже четыре года. Должность начальника управления, совмещенная с должностью старшего помощника Генерального прокурора, обязывала ко многому, но и многое предоставляла. В свои неполные сорок восемь старший советник юстиции Смагин представлял собой фигуру заметную не только в физическом плане. Впрочем, о последнем также упомянуть стоит, ибо человека выше ростом (речь идет о сантиметрах) Смагина в Генеральной прокуратуре не было. Все свои сто девяносто восемь Егор Викторович содержал в боеготовности, крепости, и не было никого, кто решился бы тягаться с ним силой на руках, хотя предлагалось это не раз.
Смагин относился к той породе тактичных людей, которые, поняв, что ресурс политических ходов иссяк, переходят в атаку и действуют, опираясь на убеждение Гете о том, что «когда же все использованы средства, тогда разящий остается меч». Людей в следственное управление подбирал он сам, естественно, консультируясь с Генеральным. Без консультаций никак, потому что приказ подписывать, несмотря на занятость, все же последнему. Однако прокурор помощнику верил и еще ни разу не почувствовал сомнений.
Начинал Смагин с «земли», как принято говорить у понятливых в этой области людей. Начав трудиться следователем районной прокуратуры Брянска, он дорос до заместителя прокурора области, а в самом конце второго тысячелетия стал и прокурором. Генеральный, о наитии которого в прокуратуре ходили легенды, Смагина приметил, около года рассматривал в упор и, лишь когда убедился, что порчи на том нет, пригласил для беседы. Не так уж часты случаи, когда областные прокуроры становятся начальниками следственных управлений Генеральной прокуратуры. Это как если бы председателя областного суда ни с того ни с сего (просто ростом вышел) пригласили отправлять правосудие в Конституционный суд.
Это как если бы директора завода, коих в России сотни, назначили бы на должность первого заместителя министра тяжелой промышленности.
Или как если бы директора школы вдруг пригласили в Москву и усадили в кресло заместителя министра образования.
И последний пример для последней категории граждан. Это как если бы вокзального вора вдруг привезли в Сочи, на воровской сходняк, и надели бы на голову корону. Пример тоже не впечатляющ, однако теперь представителям всех социальных срезов населения страны ясно, что отличался Смагин не только ростом и удачливой ловлей жар-птицы за хвост, но и умом недюжинным, и хваткой известной.
Карьерный рост любил, но по трупам, лежащим на этой дороге, ведущей в постоянный подъем, не ходил. Никого подсидеть не успел, а потому косых взглядов не ловил. В Генеральной прокуратуре вообще со взглядами этими поспокойнее. Это Генеральная прокуратура (ребя-я-ята...), а не районная. Впрочем, кто этого не понимает, тот здесь и не трудится.
Больше всего в людях Смагин ненавидел слизь. Не ту, что из носа, в инкубационный период ОРЗ, а душевную. Доносы на коллег не терпел, хотя в его должности положено данный вид информации к сведению принимать и ее же реализовывать. Крикунов и агитаторов не любил, зная, что под сильными страстями часто скрывается слабая воля. Словом, человеком он был противоречивым, хорошо его знавшим казался не по той стороне дороги идущим, однако именно эти качества позволяли ему оставаться человеком порядочным и обаятельным.
Обаятельный начальник следственного управления Генеральной прокуратуры?.. Бывает.
Что не нравится людям в нем – покрыто пеленой туманности, хотя раз в Смагина все же стреляли, и следствием того явилась не шальная пуля, а вполне конкретная, осязаемая очередь из автомата Калашникова. Осязал он недолго, недели две, а потом снова вернулся в кресло прокурора области. Кто знает: не после ли той очереди, прогрохотавшей в центре Брянска, всегда занятый Генеральный его и приметил?
Генеральная прокуратура опутана сотнями километров телефонных проводов. Вместо них достаточно было бы по одному сотруднику на этаже, специально назначенному на эту должность, с поставленным баритоном и цепкой памятью, способной объять сотни имен и фамилий. Но цивилизация давно отошла от сигнальных костров и трещоток, а потому, вернувшись от Генерального, Смагин опустился в кресло и поднял трубку с телефона. Звонить в соседний кабинет – неловкое занятие лишь поначалу. Потом привыкаешь.
Уважал Смагин Кряжина по-мужски крепко, дружбой с ним не побрезговал бы, случись так, однако в Генеральной прокуратуре дружить не положено. Положено за исполнением законов и соблюдением прав человека надзирать, уголовное преследование в соответствии с полномочиями осуществлять, да деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью координировать.
До дружбы ли? С этим бы разобраться...
Глава третья
Все утро Кряжин искал топор.
Чтобы эта фраза приобрела более чудовищный смысл, следует выразить ее в более доступном виде.
Все утро седьмого июня 2004 года старший следователь по особо важным делам следственного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Кряжин Иван Дмитриевич, советник юстиции, искал в Генеральной прокуратуре топор.
Зачем ему понадобилось изделие, состоящее из лезвия с обухом и деревянной ручки, именуемой топорищем, предназначенное для рубки и колки, для всех оставалось загадкой. Некую подсказку давало слово «колка», но все сотрудники управления эту мысль решительно отторгали, зная воловатый внешне и интеллектуальный внутри гений Кряжина. Тому и в голову не пришло бы использовать плотничий инструмент в целях укрепления конституционных прав и свобод граждан.
Сломался, наверное, дверной замок – скажет следователь районной прокуратуры, любой из всех, кто рано или поздно обязательно сталкивается с проблемой входа в собственный кабинет или выхода из оного.
Но Генеральная прокуратура, помимо функциональной деятельности, отличается от районной еще и тем, что советники юстиции с топорами в руках по ней не ходят и собственные двери не ломают.
Так зачем топор Кряжину? – ломали головы коллеги удрученного бесперспективностью поиска инструмента следователя.
Пока все терялись в поисках ответа – новость многих отвлекла от дел и насторожила, – Ивану Дмитриевичу улыбнулось счастье. Обойдя все кабинеты и спустившись вниз, он прошел в кладовую завхоза, по пути журя себя за то, что не догадался сделать этого раньше. Справедливости ради следует заметить, что он, проработав на Большой Дмитровке три года, не знал, что в глубине первого этажа сложного по своей архитектуре здания находится кабинет такого должностного лица, как заведующий хозяйством. Дорогу показал, пусть дети его будут здоровы, прокурор-криминалист Молибога.
Выпросив у старика орудие, Кряжин завернул его в кусок холста, прихваченного у того же завхоза, и поднялся к себе наверх. Занятие это – прыжки по лестницам – Кряжин считал делом неблагодарным, здоровье изнашивающим и нервы изматывающим. В свои сорок два он был чуть более тучен, чем того требовала формула вычисления идеального веса: «рост минус сто», хотя мужчиной был крепким и к телу своему, как и Смагин, относился с уважением. Тем не менее, сказывались гены отца, закончившего карьеру тяжелоатлета в сорок лет. Сам Кряжин никакого железа, за исключением завхозовых топоров, не тягал, предпочитал футбол, особенно с участием родного «Торпедо», и пользовался тем, что ему дала природа к тридцати. То есть к периоду, когда рост и формирование организма заканчиваются окончательно.
Если бы в здании под номером 15, на Большой Дмитровке, не было Кряжина, его стоило бы придумать. Без таких людей жизнь местных сотрудников была бы скучна и однообразна. Гений Ивана Дмитриевича, перемешиваясь с его особенностью попадать в совершенно непредсказуемые для данного заведения ситуации, витал по Генеральной прокуратуре, освещал в сумрачные сентябрьские дни, грел февральскими вечерами и пах ароматом неизменного «Темперамента» от Франка Оливье.
На третьем этаже потух свет? Идите к Кряжину. Это он включил кофеварку.
Адвокат нефтяной компании «Вестнефть» дал показания на ее владельца? Спросите у Ивана Дмитриевича, как этого добиться, не используя мясорубку, шило и клещи. Спросите, да только он вам не скажет.
Любил ли он? – иногда задумывались некото-рые.
Было дело, дело прошлое. Десять или двенадцать лет назад (он сам уже не помнил) встретилась ему женщина, от которой исходило тепло. Она служила в Большом театре, специализируясь на ролях второго плана, но Кряжину хватало и этого. Это был безумный роман: цветы, фуршеты, страсть, истома... Смагин первым почуял неладное и начал издалека поговаривать о том, что у него есть друг, который два раза женился на артистках и оба раза прогорел. «Не завидую, – по пять раз на дню повторял всуе Смагин Кряжину, словно им и поговорить-то в Генеральной прокуратуре было больше не о чем, – тому, кто с артисткой свяжется».
Вышло так, как и предполагал Смагин. Вышло, как у бессмертного Булата, – ему кого-нибудь попроще, а он циркачку полюбил. А уж Окуджава, простите, знал, о чем писал. Артистка сделала некое подобие фуэте и улетела в Гагры с каким-то режиссером Якиным.
– Любовь одна, но подделок под нее – тысячи, – изрек на следующее утро после случившегося Кряжин.
Смагин смотрел на него с нескрываемым изумлением, пытаясь если не по запаху, то хотя бы по прожилкам глаз определить величину удара, постигшего Кряжина. Не обнаружив ничего из ожидаемого, Смагин понял, что этого человека просто так свалить нелегко.
Многие из знавших Кряжина считали, что Иван Дмитриевич рожден для подарков. Ему-де везет, ему светит солнце ярче, чем остальным, и напирали на то, что существует в мире категория людей, которым все дается легко волею случая, а не усилия.
«Стоит ли возражать? – думал Кряжин, когда до него запоздало доходили эти чужие мысли вслух. – Бывает, – усмехался он, – светит. Но ведь и так случается, что порою от бессонницы и бессилия с ума сходишь, прежде чем до истины дойдешь!»
Так не компенсация ли это за те ночи мучений и напряжения нечеловеческого?
Скажете тоже: везет...
Всем везет, не все видят это. А потому не все пользуются. Зато когда чужая манна мимо их голов сыплется, тут они поговорить мастаки.
Везет Кряжину, бесспорно, везет. Работает и с головой дружит – потому и везет. Кто не знает, в какую гавань плыть, для того попутного ветра не бывает.
Если кто-то полагает, что в Генеральной прокуратуре работают монстры, коим чужды секс, пиво и сауна, то он глупец, коих не видел свет. Работают там не монстры, люди, причем некоторые, такие, как Кряжин, болеют за «Торпедо», а другие (Генеральный, например) за «Спартак». И секс бушует, и пиво случается.
Для прищуривших в страшной догадке глаза следует решительное пояснение: не в пятнадцатом доме по Большой Дмитровке, не дождетесь.
Пьют и посещают сауну и ткач, и судья, и учитель математики, и следователь прокуратуры. Даже Генеральной прокуратуры следователь и тот выпивает и моется. Дяди пьют и тети. Главное, чтобы это происходило, говоря словами из уже затронутой «цирковой» темы, – «не на работе» и при точном знании трех положений: с кем, сколько и по какому поводу.
Войдя в кабинет, Кряжин поставил топор в угол, накинул на него рогожу, чтобы людей не пугал, и вызвал конвой с арестованным.
Тот, в отношении кого была избрана мера пресечения «содержание под стражей», семейного дебошира не напоминал. Скорее, в нем виделся владелец сети казино или половины морского побережья Крыма. Впрочем, почему – виделся? – он и был владельцем сети казино Москвы, небезызвестный в криминальных кругах Сажин. «Одежда весит никак не меньше двух тонн долларов – и это в июне» (цитата из пояснений Кряжина Смагину около недели назад), взгляд наглый, уверенный в незаконности избранной меры, отсвечивающий перспективой для хозяина и бесперспективностью для следователя по особо важным делам. Вменялся, между тем, владельцу игрового бизнеса, по меркам столицы, плевый «косяк» – покушение на жизнь депутата Московской городской думы, явившегося первопричиной отбора лицензии на занятие упомянутой деятельностью.
Взрыв был, никто этого не отрицал, но вот от причастности Сажина к этому взрыву решительно отмахивался сам Сажин. Был еще один, кто это отрицание мог свести к утверждению в обратном, и Кряжин искал его долго и старательно. Догадывался Иван Дмитриевич и о ста тысячах долларов, уплаченных в качестве задатка за производство небольшого хлопка под «Мерседесом» законодателя, догадывался и о том, кто тот задаток выплатил. И кому выплатил, тоже догадывался.
Работа была проделана немалая, и в тот момент, когда киллер-неудачник, уже боясь за свою жизнь, позвонил Кряжину и дал предварительные пояснения, через два часа он почему-то был обнаружен в собственном доме на Рублевском шоссе с раскроенной головой. А с раскроенной головой в суде, как и на предварительном следствии в кабинете Кряжина, хоть разбейся окончательно, веры к себе не возымеешь.
– Нечем вам меня присовокупить с делом, – полагая, что излагает высоким штилем, говорил вчера Сажин Кряжину.
– Совокупить с телом всегда есть чем, – возражал не склонный к самобичеванию Иван Дмитриевич.
И сегодня, едва Сажин вошел в кабинет, первое, что он увидел, было лезвие топора, заботливо укрытое следствием от посторонних глаз. Второе, что представилось его воспаленному ужасом сознанию, – лицо довольного Кряжина.
– Присаживайтесь, Яков Александрович, – говорил упрямый «важняк» (отказался сегодня утром, подлец, от ста тысяч «зеленых»). – Наступил момент истины. Все, что мне осталось, это выяснить, сами вы наносили удар гражданину Мыссу или это делал ваш очередной исполнитель. Он утверждает, что это делали вы. И я его понимаю. Семь-десять лет – судья точно знает, сколько – на дороге не валяются.
Игрок по жизни, Сажин, не сводя с края лезвия глаз, колебался недолго. Эту партию он продул вчистую. Шестерка Баулов должен был убрать исполнителя покушения на депутата и исчезнуть из города. Убрал топором, как и велено было, чтобы не отсвечивало откровенной «заказухой». Так, мол, залез алкаш в дом поживиться, а тут и хозяин проснулся. Что делать было алкашу? С его-то несколькими, мол, судимостями?
Сейчас топор здесь, Баулов тоже, и эта сволочь не хочет становиться «паровозом». И Сажин перестал колебаться.
Кряжин же, владеющий основами человеческого общения, уже давно уяснил для себя простую истину, изложенную некогда Владимиром Лениным в письмах к Арманд: «Если уж непременно хотите, то и мимолетная связь-страсть может быть и грязная, может быть и чистая». Известно доподлинно, что имел в виду, размышляя об этом, Владимир Ильич, обращаясь к Инессе, но для Ивана Дмитриевича эта мысль давно открылась с другой стороны: что бы ты ни делал, вступая в контакт с подозреваемым, насколько бы сомнительно ни выглядели способы достижения истины, главное, чтобы до предела распахнутой оставалась сама истина, являющаяся закону.
Самое сложное порою оказывается таким простым, что основное усилие нужно направлять не на поиск доказательств, а на банальный обман. Не вопрос, что завтра это уже не получится, но и не факт, что до этого додумался бы кто-то еще.
«Покушенца» в стиле «эсерского» выпада начала прошлого века увели через час. Отобрав письменно все самое необходимое и закрепив тем факты, Кряжин, чтобы тот не напорол в горячке лишнего, дал ему время подумать и разложить по полочкам все, на чем Сажин теперь, при помощи адвоката, будет строить свою защиту. Пусть строят. Теперь это уже не главное.
Теперь главное. На что он, собственно, потратил минут тридцать сегодняшнего утра.
Проклятый сейф снова стал дурковать, только в отличие от дней предыдущих нынче вовсе отказался открывать дверцу. А без сейфа следователю никак нельзя. В сейфе дела, а без дел следователю в прокуратуре делать нечего. Вчера металлический шкаф – как его мудрено называют инвентаризаторы – замкнулся, как пойманный с поличным вор-рецидивист, и наотрез отказался выдавать тома уголовных дел. А в томах: справки, экспертизы, допросы, осмотры... А следователю, как и участковому без свистка, без бумаг нельзя.
Нет, день наступивший преподносит сюрприз за сюрпризом. Один с утра пораньше расклад полный дает ни с того, ни с сего, второй по той же причине запирается наглухо...
Бог здоровьем не обидел, Кряжин приналег, и дверца, с возмущенным грохотом отскочив от железного уголка, ударилась о стену и стала вибрировать, как камертон.
Теперь новая напасть. Того же завхоза, возвращая топор, придется уговаривать на установку нового замка.
А вы что думали? – следователи Генеральной прокуратуры другой жизнью живут? Если бы...
А, все равно, день начался хорошо. Сажин не сдюжил, сломался, а это – главное. Да и сейф тоже не сдержался. А, говорят, Кряжину просто везет. Работает, потому и везет.
Топор же нужно было возвращать, что, собственно, Кряжин и собрался делать, однако его движение к двери остановил телефонный звонок.
Иван Дмитриевич кинул взгляд на наручные «Сейко». Для обеда с Волощуком еще рано, для совещания у Смагина поздно. Тем не менее, это был начальник следственного управления.
– Иван Дмитриевич, срочно зайди ко мне.
Было с чем идти, и Кряжин, секунду подумав, вовремя спохватился и с улыбкой положил топор на стол. Нет, не это он имел в виду, размышляя о багаже, который следует прихватить с собой на вызов...
Вот теперь можно и к начальнику следственного управления Генеральной прокуратуры следовать. На то он и следователь.
– Это хорошо, что Сажин продавился, – несмотря на откровенно приятную новость, Смагин казался не очень обрадованным.
В кабинете Егора Викторовича всегда пахло полиролью и чистотой. Есть такой запах, напоминающий букет дуновения свежего ветерка, хорошего настроения и тонкого, едва уловимого привкуса терпкого аромата одеколона Смагина. Почему некоторые считают, что пахнут только дурные дела? Чистота тоже имеет запах. У Кряжина такой атмосферы в кабинете не встретишь. У него основную палитру запахов составляют бумажные оттенки: бумага чистая, бумага, покрытая буквами компьютерной верстки, бумага, заполненная чернильными рукописями. Еще пахнет выхлопными газами, но вины Кряжина в этом нет. Кабинет его на третьем этаже, форточки в любое время года распахнуты, и в помещение каждый день врываются невидимые клубы бензинового перегара. Невидимые они лишь поначалу, если же эту копоть не удалять в течение недели, то портрет Президента и портрет Ломброзо, глядящие со стен друг на друга, покрываются тонким слоем копоти. Копоть, как и любую грязь, Иван Дмитриевич не любит, не приемлет, а потому есть у него и тряпка специальная, и стеклоочиститель для портретных рамок.
В прошлом году, когда горел торф, дело обстояло еще хуже: закроешь окна – задыхаешься, откроешь – задыхаешься еще быстрее. «Важняка» Ваина в те дни увезли на «скорой» прямо в больницу. Следователи – они только на вид сильные и важные. На самом деле – это люди, имеющие сердце, которое часто дает сбои.
Смагину проще: его кабинет на четвертом этаже, а потому газов все меньше. В период борьбы с торфяниками Егор Викторович раздобыл где-то фильтрационную вставку в форточку да так напасть и переждал.
Кабинет у Смагина больше, и это понятно. Говорят, одно время в нем сидел сам Гдлян, фамилию которого весь Советский Союз привык произносить лишь вкупе с Ивановым, как в свое время Ильфа не разлучали с Петровым. Одно время некоторые думали, что Ильф-Петров и Гдлян-Иванов – это два человека, один из которых писал о Бендере, а второй об узбекской мафии. Интересное дело, если вдуматься: Ильф, Петров... Иванов, Гдлян... Такое впечатление, что пары начинают казаться гениальными лишь тогда, когда что-то недостающее у одной национальности компенсируется избытком у второй. И, соответственно, наоборот. Кряжин часто думал об этом и готов был голову заложить на спор о том, что у Иванова с Петровым ничего бы не получилось, как не получилось бы у Ильфа с Гдляном. Когда русского слишком много, нужно тотчас искать катализатор, который направит нескончаемый поток энергии первого на разумные дела.
– В невероятное время живем, Иван Дмитриевич, – вздохнул старший помощник Генерального прокурора и стал расстегивать на рубашке пуговицу. Он пришивал ее утром самолично, но чуть перетянул нить. Раньше бывало: раз! – пальцами, и воротник отскакивает в стороны, как запружиненная кобура. Сейчас не получается. Пуговица после пришивания мужской рукой так врезалась в материал, что без второй руки никак не обойтись. – В страшное время. События разворачиваются стихийно, и окажись в любую минуту неготовым к встрече с неприятностью, окажешься за бортом этих событий.
По тому, сколько тянулась пауза, и некоторой отвлеченной лексике начальника следственного управления, которого Кряжин всегда понимал и без одухотворенных аллегорий, он догадался, что наступившее утро не столь уж безоблачно, каким казалось в первые свои часы.
– Простите за эпатаж, Иван Дмитриевич, времени для объяснений – почему вы, а не кто-то – нет, а состояние мое близко к растерянности. Я только что от Генерального, он также не в лучшем расположении. Чтобы вам было понятно: в таком состоянии духа находится присевший лев.
– Присевший для чего? – спросил Кряжин, решив оборвать затянувшуюся прелюдию сразу и навсегда.
– Для прыжка, Иван Дмитриевич, для решительного прыжка. Мы все сидим, дергая от нетерпения хвостами, а команды для решительного рывка нет.
Похоже, Смагин на самом деле был взволнован. Он опять тянет с главным, размышляя о вечном. Все от прокуратуры требуют, но вместо того, чтобы сдернуть намордник, тихо командуют: «к ноге»...
– Ладно, Егор Викторович, я понял, – следователь сделал последнюю попытку вернуть начальника на землю. – Где меня ждут?
– Ты пойми, Иван, дело на контроле у Генерального. И, похоже, не только у одного его. Резниковскую знаешь?
– Речь об улице или о сумасшедшей, которая три года назад зарезала жениха своей дочери? Если об улице, то она в Западном административном округе, если не ошибаюсь, – не дожидаясь разрешения, Кряжин присел уже давно, но сигареты из кармана потянул только сейчас. Вспомнил, что Смагин не курит, убрал.
– А фамилию Оресьев слышал?
Кряжин напрягся. В мае сего года в Генпрокуратуру поступил депутатский запрос из Государственной думы, в котором автор, депутат блока «Отчизна» Оресьев П.Ф., просил организовать проверку некоторых членов другой оппозиционной партии на предмет их причастности к событиям, которые вот уже восемь лет разворачиваются у южных границ страны. Сосредоточившись, Иван Дмитриевич вспомнил даже некоторые фамилии и фразы из запроса. Самая интересная из них звучала так: «В связи с активным ростом капитала отдельных членов партии «МИР» и участившимися финансовообъемными терактами на территории Республики Чечня просим вас организовать проверку данных лиц на причастность к финансированию международного терроризма и отмыванию средств, нажитых преступным путем...» О Пеструхине каком-то и иже с ним речь шла, кажется.
Проверку проводил «важняк» из управления Смагина Любомиров, и, когда у последнего в ходе работы начали проявляться признаки плохо скрытого раздражения (это стал замечать даже Смагин), Любомиров сам пришел к Кряжину. Говорил долго, сбивчиво, чаще произносил не указанные в запросе фамилии, а фамилию автора проекта, показывал рукой на стену (там находился его кабинет), перечислял свои дела, находящиеся в сейфе за этой стеной, и через фразу повторял:
– У меня, ... семь дел с фамилиями фигурантов, от одного упоминания которых, ... Москва, ... положение упора присев принимает, а мне дают эти... запросы, словно я только что вышел из отпуска и не знаю, чем заняться!! ... Посоветуй, что делать?
По тем выкладкам, которые представлял в Генпрокуратуру Оресьев П.Ф., Любомирову светили долгосрочные командировки в Мандози, Ашкелон, Фелис-Гомес, Ачхой-Мартан и Нурата.
Собственно, приходил-то Любомиров не возмущаться, а поделиться радостной новостью – путешествие виделось ему долгим и приятным. Когда же от своего интеллектуально одаренного коллеги Любомиров узнал, что эти города находятся в Палестине, Мексике, Чечне и Узбекистане соответственно, он посерел лицом и почему-то сразу сник.
– Ну, а Мандози? Мандози, Кряжин? Итальянское ведь название...
– Название, может, и итальянское, – согласился Иван Дмитриевич, – но дали его городу, расположенному на юге Афганистана. А что ты расстроился, Сергей? Загоришь, проветришься.
Проветриваться в Афгане, как и секторе Газа, Любомиров почему-то не хотел и всячески пытался славировать между плохим самочувствием, которое у него вызывают южные широты, и неотложными делами в столице. По акцентированным возмущенным выкрикам коллеги Кряжин догадался, что при такой загруженности в Москве, как у исполнителя депутатского запроса, тому не может помешать лишь Фелис-Гомес, тот, что в Мексике. Командировки во все остальные места отстирывания преступного капитала просто вышибут из-под ног «важняка» табурет и заставят просрочить все дела, находящиеся в производстве. По старой привычке опытного сыщика пользоваться случаем и вникать во все, что не имеет отношения к нему, Иван Дмитриевич изучил документы, после чего вернул их владельцу и сказал, что помочь ничем не может. В крайнем случае, если ориентироваться на предоставленные из Думы документы, сказал он, можно избежать поездки в Марокко.
Именно поэтому он сейчас и вспомнил фамилию Оресьева. Вспомнил сразу, как и улицу Резниковскую.
– А что делал на Резниковской депутат Госдумы? – резонно поинтересовался Кряжин, подумав вдруг о совершенном отсутствии связи между улицей, которая по планам городского комитета по архитектуре почти полностью готовилась к уничтожению по причине переизбытка ветхого жилья, и народным избранником с Охотного ряда. – Принимал наказы избирателей?
Смагин пожал плечами, явно давая понять Кряжину, что для того он сейчас и поедет на территорию Западного административного округа, чтобы ответить на этот вопрос и сотни других, которые появятся сразу после получения ответа на первый.
Окружная прокуратура, милиция, судмедэксперт – все эти люди, появляющиеся в местах обнаружения трупов, были уже на месте. Но на груди трупа сиял значок депутата нижней палаты, а это обязывало прибыть к месту еще как минимум одного человека – следователя Генеральной прокуратуры.
Правильно сказал Смагин – присевший лев. Если бы нашли труп жителя Резниковской улицы, качественный состав присутствующих ограничился бы «нижней палатой» прокуратуры округа. Ну, а поскольку депутат проживал не на Резниковской, а на Улофа Пальме, да еще и сам из нижней палаты, тут, конечно...
Кряжин, который уже мчался в черной «Волге» и разглядывал по сторонам яркие рекламные щиты, прекрасно понимал, что депутата-законодателя за пару тысяч стрелять в затылок не станут. Депутатов бьют по более веским основаниям. Но из оснований у Кряжина пока было только одно – основание черепа, пробитое пулей неустановленного оружия.
Ничего пока в активе не было, если не брать в расчет джип «Лэнд Круизер» и мертвого депутата в нем.
Глава четвертая
Иван Дмитриевич Кряжин относился к той породе следователей (не группе, не категории, а именно – породе, ибо настоящими следователями, как говаривал сам Кряжин, становятся лишь после сложных генетических трансформаций предыдущих поколений), которые очень хорошо понимают, что нужно делать, когда, приезжая к месту совершения дерзкого преступления, следователь упирается лбом в стену. Эти знания становятся востребованными, когда становится понятно, что стена гораздо крепче головы сотрудника Генеральной прокуратуры.
Следственная тактика – неизменный спутник любого, кто решается ступить на тропу распутывания клубка, уводящего в лабиринт. Без понимания необходимости тактики в таком лабиринте делать нечего. Начало распутывания сложной системы резко отрицательных человеческих отношений, именуемых «преступлением», начинается не в тот момент, когда следователю становится ясна картина происшествия: на заднем сиденье джипа раздается выстрел пистолета, и на приборную панель брызжут мозги народного избранника...
Почему окружная прокуратура сообщила об убийстве в прокуратуру Генеральную? – вот основной вопрос, которым должен задаться следователь, подъезжающий к месту преступления.
Ответ: потому что убит депутат Государственной думы. Потому что убийство депутатов всегда носит более серьезный подтекст, нежели банальная «мокруха», сотворенная над «вором в законе». Депутата убивают в двух случаях: а) он сделал все возможное, чтобы кто-то заработал очень мало денег или не заработал вовсе, и противной стороной это воспринято реально; б) кто-то решил, что нужно депутата остановить, пока он не заработал все, и это тоже для противной стороны очевидно.
Кто-то скромно назвал палату «нижней», и не всем понятно, с чем это связано. Нижняя, потому что внизу, с людьми, делает все для людей и ориентируется на их нужды? Или она нижняя, потому что выше некуда – над ней лишь Господь?
Как бы то ни было, окружная прокуратура свое слово уже сказала. Все, что касается людей – в их ведении.
Иван Дмитриевич из наиболее приметных своему образу жизни предков выделял только одного: дед Кряжина, Евграф Поликарпович Кряжин, служил околоточным надзирателем на Пречистенке. Хоть и мало похожего, а нет-нет, да и вспомнит Иван Дмитриевич предка, сходит в церковь, поставит свечку. Шутил он насчет генеалогии, конечно, шутил. Юморил с серьезным лицом, приводя многих в недоумение по поводу такого демографического анализа. Все, что Кряжин знал, что умел и чем пользовался, он вынес не в генах, а из своего тяжкого труда во Владимирской прокуратуре, откуда родом был, и где начинал службу в структуре «ока государева». Еще молодым следователем читал книги, ходил по пятам за «зубрами», распутывающими узлы «мокрух» и изнасилований на владимирских улицах и в квартирах, вникал в каждое их слово, привыкал к каждому их жесту.
Следователь прокуратуры, не важно, какой – Генеральной, окружной, районной, – должен всегда помнить несколько правил, которые отличают его от остальных людей в погонах.
Правило простое, но запоминают его не все. Не все, а потому из-под таких следователей дело «берется на контроль» и находится под тем контролем вечно.
Не бывает убийства, о совершении которого знает лишь сам убийца.
Обязательно есть еще кто-то, кто видел или слышал что-то либо «до», либо «во время», либо «после». Свидетель – спаситель всех следователей, чья карьера поставлена на кон.
Но свидетеля найти мало. Свидетеля нужно понять, а еще сделать так, чтобы он понял следователя. В противном случае это будет не свидетель, а субъект, способный без личного интереса и не подозревающий об этом укрыть преступление так, что потом распустить его по ниткам будет просто невозможно.
Всех свидетелей Кряжин, как человек умный, делил на четыре категории.
Ситуация: разбито окно, и рука хозяина квартиры крепко держит конопатое ухо маленького мерзавца, первого попавшегося на глаза после выхода хозяина на улицу. Кто он, этот шкет, – видел, как окно «выносили», или сам «выносил»? Вот вопрос так вопрос... Он тем труднее, чем дальше хозяин стоял от окна. И вопрос превращается в «глухарь», если в тот момент, когда кирпич залетал в окно, хозяин сидел в ванне и мылил подмышки.
Собственно, ничем ситуация не отличается от той, которую сейчас наблюдал Кряжин, глядя, как молодой следователь из прокуратуры Западного округа пытается разговорить деда у джипа.
Потому-то всех и допрашивают сначала, как свидетелей, что понять нужно, кто он на самом деле, этот с в и д е т е л ь. Вот кто этот дед и эта тетка сорокалетняя, возражающая на показания деда и тем окончательно сводящая с ума молоденького следователя?
Первая группа: дед обладает нужной информацией, правильно ее воспринял. И хочет и может правильно воспроизвести ее следователю, получается (то же касается и тетки).
Вторая: дед с костылем владеет нужной информацией, но понял ее неправильно, а потому неправильно следователю и передает.
Третья: дед в серых брюках и коричневом пиджаке с орденом Отечественной войны второй степени информацией владеет, но сознательно ее скрывает или выдает такую, что лучше бы не выдавал вовсе (не забыть о тетке).
И, наконец, четвертая группа, к коей вполне может быть отнесен этот старик с гладко выбритыми щеками, в голубой матерчатой кепке и с бесплатной газеткой-агиткой в правом кармане пиджака: он вообще не понимает, о чем ведет речь следователь, но следователь полагает, что дед информацию скрывает, и причин такому «непониманию» деда, по мнению следователя, может быть множество.
– Подойдите сюда, – тихо велит Кряжин следователю, старику и тетке одновременно, пресытившись их бестолковой перебранкой. – Вы кто?
Вопрос обращен к старику с клюкой, поэтому он, подбоченясь, тычет пальцем в джип и изрекает голосом, похожим на звук из сломанного кларнета:
– Я говорю: вот из этого трактора утром вышел человек с портфелей и ушел в сторону Зыряновской. Ковырялся в салоне минуты две, потом хлопнул дверцей – я аж от окна отскочил, думал – выстрел. Нет, смотрю – мужик с портфелей. Хлопнул и ушел.
– Вы кто?
Дед опешил: так его в этом дворе еще никто не унижал.
– Да Михеич это, из тридцать второй! – помогла тетка, сообразив, что это как раз тот момент, когда можно взять вожжи беседы в свои руки. – Он контужен на Висле, поэтому не все слышит.
– Как я понял, слух у него неплохой, – заметил между делом Кряжин, пытаясь понять, где в этом доме расположена тридцать вторая квартира. – А вы кто?
– А я Семиряжская, из сороковой. Вы старика не слушайте, вы меня послушайте. Сегодня сплю, вдруг, часа в два ночи – бах! – я проснулась. Подхожу к окну – стоит этот джип. В нем вот этот, с головой разбитой, и еще один. Через минуту второй вышел, а этот остался. Я думаю – ну, довез приятеля, сейчас и сам уедет, и пошла спать. А утром милиция приехала. Такие дела, товарищ милиционер.
Кряжин, чуть пошевелив шеей, освобождая кадык от воротника, задрал голову вверх. Тетка дважды указала на свои окна и теперь ждала орден за участие в раскрытии дерзкого убийства.
– А как мужчина выглядел? – и ему еще трижды пришлось уточнить: какой, когда и во сколько, что уже сейчас дало Кряжину все основания полагать, что его водят за нос.
– Лет тридцать пять – сорок, – без раздумий заявила тетка из сороковой. – Серый пиджак, черные брюки, на ногах – туфли. Да, туфли на ногах, – добавила она, давая Ивану Дмитриевичу лишнее основание думать о ее причастности к третьей свидетельской группе.
Дед тут же встрял в разговор, заявляя, что было не два часа, а половина девятого, что не тридцать пять – сорок, а за сорок и не пиджак, а обычные тряпки уличного бродяги: серая куртка, неопределенного цвета штаны и кроссовки. Спор грозил перейти в боестолкновение, каждый гнул свою линию, причем гнул так настойчиво, что могла возникнуть убежденность в правоте обоих одновременно. К джипу стали стягиваться дополнительные силы с обеих сторон, Кряжину надоело, и он решительно ткнул пальцем в окна на четвертом этаже:
– Гражданка, эти пластиковые окна ваши?
Та призналась – ее.
– Они с шумоизоляцией – раз, уличный фонарь над джипом разбит – два, из ваших окон видна лишь крыша машины – три. Вы будете продолжать настаивать на том, что слышали выстрел? И что в два часа ночи на неосвещенной улице через крышу автомобиля видели, кто там сидит и как выглядел вышедший?
Разоблаченная, она злобно пробормотала что-то о том, что «помогать милиции – дело неблагодарное», подхватила сумки, с коими полчаса назад во дворе и была застигнута врасплох молодым следователем, и заспешила в квартиру с пластиковыми окнами.
– Вы спросили – мои окна? – я ответила, мои! Но я же не сказала, что дома в два часа ночи была! – сообразив, что в горячке рассказывает всему двору свою биографию, спохватилась она и заторопилась в подъезд.
Глядя ей вслед, Иван Дмитриевич готов был поклясться, что мужа у женщины нет, острота жизни, так необходимая ей в эти годы, пропала, а потому лучшее, до чего она может додуматься, это поучаствовать в детективе.
Освободившись от злоумышленницы, Кряжин развернулся к ветерану и еще раз слово в слово выслушал историю об утренних хлопках дверью.
– В бродяжьей робе, говорите?
– В ней...
В джипе работал прокурор-криминалист Молибога, ровесник Кряжина. Судебный медик к телу Оресьева пока не прикасался, зная, что очередь его наступит лишь после того, как следователь произведет осмотр. Несколько милиционеров в кепи и высоких ботинках, в которых нынче ходят все, кому положены погоны, гнали толпу на невыгодное для той расстояние, молоденький следователь окружной прокуратуры не отходил от «важняка» из Генеральной ни на шаг. Бросая на него мимолетные взгляды, Кряжин по-доброму таил на губах улыбку. Вот так же когда-то, лет двадцать назад...
– ...Я встаю всегда в восемь. Просыпаюсь, конечно, когда бог уснуть даст, гораздо раньше, около пяти. Но лежу, потому что делать нечего, почту приносят только в половине девятого...
Узкая дорога, разделяющая дом с такими же узкими, словно встроенными в насмешку – шириной в метр – газонами. Слева – полуразрушенное здание. Похоже, валили вчера и будут валить сегодня, потому что неподалеку замер без хозяина мощный бульдозер и экскаватор с грузом величиною с комнату в малосемейке.
В Москве уже давно ничего не сносят методом подрыва, что обходится гораздо дешевле и быстрее. Где-то в конце девяностых, после Каширского шоссе, Буйнакска и Пятигорска у людей произошел психологический надлом, и от взрыва в нескольких километрах, от которого раньше не проснулся бы даже этот ветеран, страдающий бессонницей, у многих может просто отказать сердце.
Не сносят сегодня в Москве подрывом, трактор используют, по старинке. Кажется, еще пара лет, и запретят салюты. Страшно. Хоть один во время фейерверка умрет – уже убийство. А кому хочется грех на душу брать?
«Вчера домишко сносили, – думалось Кряжину. – Пыль вот она, и на дверях дома, и на тротуаре. Следов вокруг джипа натоптали – святых выноси. Расстояние большое от стройки до дороги, а потому исключается, что стреляли из развалин, с прицелом, и в окно, открытое справа от Оресьева, попали. Но сзади все-таки кто-то сидел, иначе зачем было бы депутату окошко позади себя наполовину приспускать? Слева бы приоткрыл. Да и тому не нужно было бы, если не курил».
– Молибога, – крикнул Кряжин криминалисту, не переставая слушать деда. – Посмотри-ка на земле, рядом с джипом, где окошко приоткрыто. Может, словишь удачу за хвост?
– ...Подхожу к ящику – точно, есть «Отчизна». За что уважаю депутатов, так это за печать. Вот, к примеру, не будь «Отчизны» с ее газетами, откуда бы я узнал, что в стране премьера сменили? Телевизора у меня нет, так что «ящик» у меня только один. Тот, что между первым и вторым этажами. На «Правду» на пенсию не раскошелишься, радиоточку отрезали, потому как к сносу готовят. Что старому дрищу делать?..
– Ну, это вы чересчур, – возразил Кряжин.
– Ничего не чересчур, – обреченно отмахнулся дед. – Среди прочей прессы, встречающейся в ящике, наиболее уважаю «Отчизну». Что партию, что газету. И название правильное, и власть критикуют. А вот, взять, к примеру...
«Картина, вообще, странная. Если не стреляли со стройки, а стреляли с заднего сиденья, тогда почему кровь на рубашке есть, на пиджаке есть, а на внутренней стороне лобового стекла нет? Почему ее нет и на передней панели салона?
Опять же, не вопрос. Могли стрелять из мелкокалиберного пистолета или иной прилады – сейчас их в Москве пруд пруди. Пуля пробила затылочную кость, сплющилась, уже внутри врезалась в кости лица и отскочила обратно. В голове фарш, снаружи – скромные свидетельства об имевшем место зверстве. Продумано, не вопрос... Если стреляли, конечно, с заднего сиденья. Впрочем, экспертиза на эти вопросы ответит, главное, их задать».
Молибога вернулся с целлофановым пакетиком, в котором болтался металлический предмет, похожий на крупную авторучку. В СССР такие пользовали школьники для уроков русского языка. Зеленым подчеркивается сказуемое, синим – прилагательное, черным – глагол, а красным учитель ставит двойку за то, чтобы школьник не страдал дальтонизмом.
– Что сие?
– Сие есть предмет, используемый в качестве огнестрельного оружия, – подумав, Молибога добавил: – Так, во всяком случае, мне кажется.
– Где изыскал?
– Где и надеялся изыскать, когда не нашел на ковриках – в кармашке спинки сиденья.
Молибога – хороший человек. Впервые Кряжин встретил его здесь, в Генеральной, а потому кажется, что тот трудится в ней всю жизнь. Из-за своей фамилии Николай постоянно претерпевал трудности, но никогда не соглашался изменить своему родовому имени. Предлагали фамилию сменить, жена уговаривала, с девичьей фамилией Голицына:
– Коля, я умоляю. Есть из чего выбрать. Голицыны Россией управляли.
А однажды Генеральный, застав Николая Ефремовича в лаборатории за игрой в компьютерный тетрис, сказал:
– Молибога, моли бога, тебе до пенсии всего ничего осталось.
Услышал этот дуплет Николай и впал в панику. Спасибо Кряжину, находившемуся в тот момент в лаборатории, объяснил, что именно имел в виду Генеральный, иначе ходить бы Молибоге до самой пенсии в опаске, что беда может случиться в любой момент.
Работал с Кряжиным Молибога часто, так что разговаривали они на языке, более им близком и непонятном для большинства окружающих.
Проверит Николай «предмет», проверит. Он по этой части мастак, каких в Генеральной днем с огнем не найти.
Но все же, как стреляли? Экспертиза, она, конечно, до сантиметра расстояние вычислит, но хочется узнать уже сейчас, чтобы поверить этому деду, нудящему прямо в ухо:
– Я видел его, как себя в зеркале. Роста среднего, чуть пониже вас будет. Телосложением тощий, как этот ваш эклерт (указал на выискивающего что-то под джипом Молибогу), а одет хуже, чем я. Бродяга, я так думаю.
Был ли звук выстрела? – Нет.
Торопился мужик от джипа? – Дюже поспешал.
Что в руках держал? – Пакет срамной, с коим бомжи Москву перед приезжими позорют, и портфелю черную, толстую.
Подозрений у человека тем больше, чем меньше он знает. Иван Дмитриевич относился к этому со всею своей мудростью, а потому не паниковал по поводу десятков версий, заметавшихся в его голове косяком чаек, а все больше смотрел и слушал. Уметь смотреть и слушать – главные качества следователя. Не стоит пытаться вычленять главное из услышанного в первую минуту, ибо давно Кряжину было известно, что есть ложь, есть очень большая ложь, а есть свидетельские показания.
Вот солнцу, тому было все равно. В отличие от женщин и мужчин, проявивших себя крайне любознательными, но очень боязливыми субъектами, к джипу старались пролезть все, но заглянуть внутрь не спешил никто; солнце выползло на небо, полностью завладело им и начало свою неспешную прогулку. Заглядывало в помойные баки, подчищенные еще ночью бродягами, светило в лобовое стекло большой машины во дворе, для стоянки такой машины не приспособленном, словом, любопытствовало и замараться не боялось.
Для Кряжина наступил самый нелюбимый, но один из самых важных моментов в работе. Он всегда оттягивал его, словно ждал, что выйдет какой-то указ об отмене протоколирования места происшествия осмотром, но каждый раз, понимая, что это почти главное, вынимал из пачки бланк протокола.
Следователь нерадивый производит осмотр с тем умыслом, что осмотр является частью следственной работы, и за его непроведение, мягко говоря, благодарность не объявят. А потому картина, описанная им в протоколе, являет собой некое подобие фривольных фантазий Пикассо в его бессмертной «Гернике». Читая такие протоколы при проведении судебного следствия, судьи, те, что понезависимее и беспристрастнее, начинают чувствовать легкое головокружение от невозможности мысленно обозреть и сформировать в своем понимании нарисованный сюжет. «Смешались в кучу кони, люди» – это не из батальной сцены попытки покорения Наполеоном России. Это суть протокола осмотра места происшествия следователем, не носящим в папке (ранце) погон государственного советника юстиции (маршальского жезла).
Кряжин такой подход к делу презирал, к людям, к нему склонным, относился с усмешкой и имел на сей счет свое собственное мнение. Осмотр – начало всех начал, считал Кряжин, он дает возможность следователю получить информацию для выдвижения общих и специфических версий о событии, личности преступника, совершившего убийство, и при условии слаженной работы криминалистов и оперативников получить данные для организации поиска преступника по горячим следам.
Ох, уж эти горячие следы...
Попробуй, зашагай по ним, зная, что убийство заказное, а ручка-самострел куплена вчера на Горбушке! Это при «бытовухе» частенько случается, что убийцы засыпают рядом с трупом пораженного врага и совершенно не понимают, почему наутро их будят двое в форме, двое в штатском. Будят, зачем-то бьют и надевают наручники. Вот это и есть горячие следы – настолько горячие, что с места сдвинуться не в состоянии. Бери, разделяй их в камерах и властвуй.
Условия, при которых производится осмотр, температура, освещение...
Местность... Привязка, расположение относительно объектов... Стройка. Эта стройка! – она не дает Кряжину покоя!..
Автомобиль... Марка, номер кузова, цвет, номер двигателя, его объем, запах внутри... Материал сидений, невскрытый блок сигарет «Парламент» в кармашке одного из них... Молибога получил резкий втык и сейчас показывает место, из которого он не должен был вынимать «самострел» ни при каких обстоятельствах. Понятые, кажется, внимания на этом не заострили. В любом случае замечаний и вопросов не последовало. А Молибоге за проделку втык нужно будет сделать еще раз.
Труп...
Из протокола осмотра трупа 12.06.2004 г., г. Москва, место составления – площадка перед домом 18 по ул. Резниковской:
«Труп мужчины, приблизительно сорока лет, находится на переднем водительском сиденье автомобиля в положении сидя. Голова трупа откинута на подголовник сиденья и чуть наклонена влево. Левая рука трупа располагается между сиденьем и дверцей, в момент открывания дверцы рука провисла. Правая рука ладонью вниз лежит на подлокотнике, расположенном между водительским и пассажирским сиденьями. Ноги трупа широко расставлены, ступни находятся под педалями автомобиля, чуть вывернуты внутрь...
Рот трупа полуоткрыт, в правом уголке рта видны следы запекшегося темного вещества, с левого угла рта свисает засохшая нить слюны со следами бурого вещества. Глаза трупа полуоткрыты...
На затылочной части головы трупа имеется ранение, напоминающее входное отверстие от пули. Волосы на затылке длиною около пяти миллиметров, опалены вокруг раны. Других повреждений на теле трупа на момент его осмотра в 12.47 не обнаружено...
На трупе надет пиджак и брюки из идентичного (на вид) материала светло-серого цвета в белую полоску, расстояние между полосками 10 миллиметров. На подкладке пиджака и брюк имеются вшитые фирменные ярлыки размером 60х37 мм черного цвета с вышитыми золотистой нитью надписями на английском языке: «Ricco Ponti. Design of Itali». Под указанные ярлыки вшиты ярлыки-«флажки» размером 22х15 мм черного цвета с арабскими цифрами: «44».
На левом лацкане пиджака обнаружен значок, символизирующий развевающийся вправо Государственный флаг России. На оборотной стороне значка имеется резьбовая гайка, имеющая по окружности надпись: «Московский монетный двор»...
Правый лацкан пиджака, его воротник и правая часть груди покрыта веществом бурого цвета. На задней части правого рукава (в районе локтя) имеются два пятна, оставленные веществом бурого цвета размером 20х30 мм и 24х32 мм соответственно...
На ступнях трупа обнаружены туфли черного цвета со шнурками черного цвета, каблуки имеют следы ремонта (нижняя часть каблука заменена и окрашена в черный цвет). На подошвах видны плохо видимые цифры «43». Носки хлопчатобумажные, черного цвета, без видимых следов долгого ношения...
На шее трупа обнаружена цепь из металла желтого цвета толщиной в 1 (один) миллиметр простого плетения, на цепи имеется медальон из металла желтого цвета в виде иконы Божией Матери, держащей на руках Младенца. Медальон размером 32х15 мм, толщиной 2 мм. На изделиях имеются пробы в виде вдавленных штампов женской головы в старорусской короне и цифрами: «525».
Правый внутренний карман пиджака вывернут и свисает наружу, в левом внутреннем кармане пиджака обнаружено удостоверение красного цвета. Осматриваемый документ представляет собой корочки с внутренними вкладышами, изготовленными типографским способом на бумаге белого цвета, оттеняемой красно-сине-белым фоном. На лицевой стороне удостоверения произведен оттиск краской золотистого цвета с изображением Государственного герба РФ и надписью: «Государственная Дума Российской Федерации». На внутренней левой стороне вкладыша значится номер удостоверения «2056», имя владельца «Оресьев Павел Федорович» и надпись «Депутат Государственной Думы РФ», выполненные типографским способом с использованием компьютерной верстки. В типографски выполненной графе «Дата выдачи» в правой стороне вкладыша компьютерной версткой значится: «30 декабря 2003 г.». В типографски выполненной графе «Подпись владельца» красителем черного цвета выполнена роспись от руки... В левой части вклеенного вкладыша размещена цветная фотография размером 39х58 мм без углового штампа, с нанесенной поверх фотографии печатью, исполненной синим красителем, по окружности которой читается надпись: «Государ... ая Д...ма Российской Фе...рации» с изображением в центре двуглавого орла...
Фотография в удостоверении соответствует внешнему облику лица трупа...
Иных документов в одежде трупа и среди вещей, находящихся в осматриваемой автомашине, не обнаружено»...
Щелк!.. Щелк!..
Молибога работает как заправский фотограф над выламывающейся в сексапильных позах топ-моделью. Разница лишь в том, что выламывается, пытаясь заснять разнообразие поз объекта, фотограф.
– Что думаешь, Ваня? – тихо, чтобы посторонние не обратили внимания на панибратство и тем не разочаровались, спросил Молибога. Солнце поднялось достаточно высоко, криминалист взмок и являл собой упревшего от погони за организованной преступностью голливудского полицейского.
– Думаю, что по Мальоркам этот парень ездить не привык, – доставая сигареты, бросил, еще раз взглянув на начавшую редеть толпу, Кряжин. – Точнее, не привык к моменту осмотра его трупа. За будущее его, останься он жив, ручаться не могу.
Иван Дмитриевич не зря имел среди криминалистов прозвище «мучитель тел». Там, где обычный «важняк» управлялся за пару часов, Кряжин находился по четыре-пять. Однако самим трупом уже давно занимался судебный медик, потому как Кряжин как никто другой знал – чем позже тот приступит к работе, тем шире зазор ошибки в его заключении о наступлении часа смерти. Быстро пометив себе все, что необходимо, Иван Дмитриевич отдал тело в руки специалиста, а сам писал, писал и писал...
Однако пока не дописывал, увозить труп в морг не позволял – а вдруг еще какой вопрос возникнет? За это и получил прозвище. Не штатное, за глаза произносимое, да и произносилось оно не с сарказмом, а с уважением. Что касается трупа, то, по большому счету, ему совершенно безразлично, сколько его описывать будут. По крайней мере, жалоб на Кряжина пока не поступало.
– Откуда такая уверенность? – насторожился Молибога, за годы совместной работы так и не сумевший привыкнуть к неожиданным заявлениям следователя. – Я о Мальорке.
– Костюмчик липовый, – пожевал губами Кряжин. – На ярлыках значится, что сшит в Италии, а вот размерчик не бьет.
– Почему не бьет? – удивился Молибога. – Очень даже бьет. Мужик носил вещи пятьдесят четвертого размера. А пятьдесят четвертый размер и обозначается, как «44».
– В Англии обозначается, – Кряжин, присев на порог джипа, щелкнул зажигалкой, и ветер тут же унес сигаретный дымок. – В Америке обозначается. Но в Европе, в частности, в Италии, пятьдесят четвертый размер так и значится – «пятьдесят четвертый».
– На экспорт шили, – возразил криминалист.
– Тогда в слове «Италия» не было бы ошибки. Последняя буква должна быть «уай», а не «ай». Вьетнамцы шили, Коля, – Иван Дмитриевич грустно усмехнулся. – Но не на экспорт, а для внутреннего пользования, потому как мастерская где-нибудь на Колпачной, в подвале, у нас, в Москве. Костюму не больше полугода, как раз с датой вручения удостоверения бьет. Приехал в столицу и сразу купил. Туфли хорошие, но носил в ремонт. Не по-депутатски как-то все это, брат Молибога, ей-богу. Зови врача, понятых, автографы брать будем.
Кажется, закончилось. Труп дактилоскопирован, «пальцы» внутри и снаружи джипа у криминалиста имеются, а это уже кое-что.
– Иван Матвеевич, – обратился Кряжин к своему тезке из судебно-медицинской экспертизы, – а ты что скажешь?
Зная привычку Столярова произносить сакраментальные фразы о неизбежности подтверждения первичного осмотра осмотром более тщательным, уточнил:
– До резекции?
– Исчерпывающий ответ могу дать лишь после вскрытия, – все равно не понял следователя медик, – но навскидку, на глаз...
– Лучше навскидку.
– Трупные пятна, Дмитрич, у людей полного телосложения появляются раньше, чем у худощавых. Если ориентироваться по тем, что у депутата на ягодицах, пояснице и верхнем плечевом поясе, и присовокупить к этому поверхностный анализ посредством пальпации... Сейчас который час?
– Час, – Кряжин работал со Столяровым около четырех лет, поэтому к окончанию филиппики медика уже держал левое запястье около глаз (часов у Столярова никогда не было).
– Значит, между часом ночи и двумя смерть и наступила. Хотя от последнего результата можно отнять еще один час. Уж очень рыхлый наш клиент, Иван Дмитриевич.
Глава пятая
Генеральная прокуратура, как обычно в такие дни, подверглась общественному натиску с невиданной силой. На этот раз здание на Большой Дмитровке выдерживало звонки и приезд представителей общественно-политического блока «Отчизна», чей депутат прошлой ночью был убит кровавой рукой, и журналистов, старавшихся как можно быстрее сообщить населению страны об имеющихся версиях убийства.
Телевидение пестрело логотипами блока – голубь на фоне контуров страны. Этот же значок разных величин и разных оттенков располагался за спинами выступающих от имени самого блока. Репортеры, почувствовав простор для ремарок, старались вовсю. Очередное громкое убийство в Москве, целью которого был избран очередной законодатель, уже никого не потрясло: нельзя трястись от регулярности, к ней привыкаешь, и заявления выглядели скорее стандартными, нежели шокирующими. Фразой «убийство депутата Государственной думы» уже никого не удивишь, и размышлений о наступающем неопределенном будущем она не вызывает. Выступил сопредседатель блока, Каргалин, выступил спикер с вице-спикером, выступили рядовые члены:
«Очередной удар преступности по демократии»,
«Убийство, несомненно, связано с профессиональной деятельностью депутата Оресьева»,
«Нам будет его не хватать в этой борьбе с проправительственными силами»,
«Он был хорошим человеком, отзывчивым и принципиальным. Там подскажет, здесь поможет».
Генеральная прокуратура, выслушав, как обычно, все стороны, сделала заявление в лице своего начальника пресс-службы Ропталова:
– Раскрытием данного преступления занимается следственная бригада Генеральной прокуратуры Российской Федерации, оно взято на контроль Генеральным прокурором, о ходе расследования мы сообщим дополнительно.
И ушел от выставленных в его сторону, напоминающих приманку, как палки с кусками мяса, микрофонов. Начальники пресс-служб государственных структур – высокопрофессиональные сотрудники. Сказал, кажется, много, а никто не заметил, что более половины речи занимало озвучивание должностей и ведомств.
Следственная бригада... Это он так, от сердца скорее, чем конкретно. Впрочем, почему от сердца? Скажи начальник информационной службы: «следователь» – не тот уровень, не воспримут. «Следственная бригада» – это то, что нужно. У всех на памяти и бригада Костоева, и бригада Гдляна. Бригады, они почему-то лучше работают, чем просто следователи. Одна голова – хорошо, две – лучше. Невдомек журналистам и гражданам, что одиночки только в кино водятся. Разве следователь, криминалист, судебный медик, оперативный состав, ФСБ, распутывающие один клубок в сто пар рук, – это не «бригада»? Но журналистам нужно, чтобы следователей обязательно было несколько, тогда и получится бригада.
Слово «бригада» очень уж приятно для слуха многих, и остается загадкой, почему так случилось.
От социалистического реализма люди отойти не могут, что ли? От вымпелов «ударников» и социалистических соревнований? В серьезных репортажах журналистов в первые годы перестройки даже юмор проскальзывал, хотя сами они его и не замечали. А люди замечали и выдавали за народное творчество: «Ходил по музею сюрреалист, а за ним по пятам двое социалистических реалистов в штатском». Было дело, было...
«Бригада» – это для многих уже привычка, стиль жизни.
Что касается Кряжина, то он всегда считал, что две головы – это уже некрасиво. А потому возглавлял бригады редко, по необходимости, по приказу Генерального.
Версии... Есть две из них, которые в последние пять лет приходят в голову сразу, и выбить их оттуда бывает порой труднее, чем рассмотреть нож в спине потерпевшего. Первая из них связана с наведением конституционного порядка на южной околице страны, вторая с переделом собственности в ее центральной части. Какие бы очевидные факты, уводящие следствие с этих двух дорог в ходе расследования подобных убийств ни случались, они рано или поздно все равно становятся производными от первых двух.
Подозрений у следователя тем больше, чем меньше он знает, а потому, когда он, как биатлонист, бежит по трассе следствия, пытаясь успеть быстрее собственной отставки, а по обеим сторонам стоят пресса, родственники потерпевшего, его коллеги и кричат: «Давай! Давай!», следствие начинает срезать углы и искать упомянутые первые две версии, чтобы списать труп на естественный отбор в вечной войне на Кавказе или на естественный отбор в вечной борьбе с коррупцией.
Проще всего исчерпывающий ответ о мотивах убийства высокопоставленных потерпевших искать не в имеющихся материалах следствия, а в прошлом жертвы, потому что нет ни одного высокопоставленного трупа, не оставившего грязных следов в своем «незапятнанном» прошлом. Ответ прост тем, что за ними, высокопоставленными, но потерпевшими от этого, всегда водятся малые грешки либо в виде бывшего членства в оргпреступных сообществах, либо в торговле ружьишками на Ближний Восток, либо в нефтемазутных манипуляциях. Однако собирать доказательства реального существования таких версий все равно, что слизывать мед с кактуса. Вкуса не почувствуешь, но недееспособным станешь.
Вернувшись на Большую Дмитровку, Кряжин переоделся в свой «дежурный» темно-серый костюм, под который надел лишь серую же рубашку, без галстука, заскочил на минуту к операторам, обслуживающим компьютерное обеспечение, заказал у них распечатку всей имеющейся в Интернете информации о блоке «Отчизна» и спустился вниз.
Плотно и размеренно отобедав в столовой при прокуратуре, Иван Дмитриевич заказал машину и около пятнадцати часов вошел в здание на Охотном ряду.
Но прежде чем войти, он сидел в машине у здания Госдумы, читал информацию, предоставленную ему операторами, водил по листу пальцем, жевал по привычке губами и выдувал сигаретный дым в приоткрытое окно.
У самого входа в Думу распечатку он разорвал на столько частей, на сколько позволила сила пальцев, и аккуратно опустил в урну – привычка. Политуправление блока, как ему подсказали полчаса назад по телефону, располагалось на четвертом этаже, поэтому он, помня о здоровье, двинулся не к лифту, а к лестнице.
Звонок из Генеральной прокуратуры создал некоторое удобство в общении. Почти все, кто мог хоть что-то сказать об Оресьеве, находились в Думе. Россия славится необычностью своих граждан. Их сплачивает почему-то убийство, а разобщает хорошая жизнь. И чем та жизнь лучше, тем глубже и откровеннее противоречия. Сегодня был как раз один из таких дней всеобщего сплочения: у входа в главную залу блока «Отчизна» располагался огромный портрет ее члена, стоял столик, на нем ваза, в ней цветы. Дума потеряла еще одного депутата, блок своего первого представителя. Вряд ли о таком развитии событий кто-то из рожденной для новых надежд россиян партии думал седьмого декабря минувшего года.
Тем не менее день такой наступил, и взору Ивана Дмитриевича, остановившегося на пороге залы, предстала соответствующая событию картина: за спиной следователя, за дверью, происходила суета, внутри помещения царило разочарование. Каждый выражал его по-своему, слезы были, но слезы присущи лишь женщинам, а их в зале было мало. У стола, по всей видимости, председательского, стоял на треноге еще один портрет Оресьева, тоже перетянутый траурной лентой, были и цветы, но стояли они в банках. Вероятно, лучшее содержимое было выставлено лицом к остальной Думе.
К Кряжину подошли, познакомились, посетовали на то, что не выслали машину сами, словно речь шла не о переезде следователя по особо важным делам с Большой Дмитровки на Охотный ряд, а о перевозе участкового через Волгу от деревни Красавка до села Воздвиженка, и пригласили войти. Задерживать следователя, видимо, было решено ненадолго, поэтому председатель и приближенные к нему лица провели Кряжина в кабинет.
В зале же продолжались разговоры, и Иван Дмитриевич думал о них по привычке сдержанно. Вероятно, что кто-то из этих людей свято верит в то, что председатель и его замы по политической борьбе расскажут следователю правду, какой она видится однопартийцам, после чего следователь выйдет из кабинета и через пару часов введет в залу убийцу вместе с заказчиком. Такое было впечатление у Кряжина. По обрывкам фраз этих людей, по посадке за столом, по их жестам. За годы работы в прокуратуре он привык к тому, что окружающие ждут от него, как от Копперфильда, чудес. По мере продвижения субъекта по служебной лестнице такое мнение усиливается, но чудить становится все труднее, а потому глубже претензии и шире разочарования. Найти убийцу владимирской старухи не так уж трудно, имея в голове разум, а не опилки с местной фабрики. Труднее объяснить мотивы убийства депутата, который в Москве всего полгода, а до этого являлся бардом в Кемеровской области.
Вот и председатель политсовета блока это подтверждает, говорит, что от округа Павел Федорович избирался. Люди слушали его песни, читали стихи, вспоминали былую родину и видели главным ее реаниматором Павла Федоровича, царствие ему небесное...
– Вы не представляете, какой широкой души был этот человек, – горячо, словно Кряжин ему не верил, говорил Каргалин Сергей Мартемьянович (так он представился очно, и так значилось в думском списке). – Вы хотите послушать, какие он писал песни?
Кряжин, застигнутый врасплох, пожал плечами и настроился на разговор долгий, все больше на бестолковый. Песни Иван Дмитриевич любил, творчество бардов в лице Владимира Семеновича и Юрия Визбора почитал, но более всего ему хотелось узнать: чем занимался бард Оресьев в Думе? Однако о главном принципе следователя – слушай, запоминай, встраивайся – он помнил, дети дома его не ждали, и жена за остывающим ужином не нервничала.
Песни тут слушали, как он понял, и до него, потому как один из главных людей в «Отчизне» (Кряжин выделил его как первого после Каргалина), подошел к стереосистеме и перемотал пленку назад. Система хорошая, «Kenwood», мощная. Если включить на полную катушку, то с верхнего этажа непременно раздастся стук по трубе и крики о том, что в Думе, однозначно, завелись подонки.
Дисков покойный Оресьев, по всей видимости, выпустить не успел, поэтому пришлось довольствоваться живым голосом через микрофон, под перебор гитарных струн.
Вот опять я уезжаю,
для чего-то оставляю
я тебя одну, совсем одну...
Ты меня, быть может, любишь,
может, любишь, может, шутишь,
может, даришь радость, может быть, беду...
Уловив стихотворный размер, Иван Дмитриевич понял, что следующие строфы будут еще длиннее, и рано или поздно песнь превратится в рассказ чукчи о том, как он плыл на каяке по Омолону от его истока до впадения в Колыму.
– Это про любовь, – объяснил пятидесятилетний на вид Каргалин.
Кряжин благодарно кивнул.
– Есть и о родине, – сообщил председатель. – Включи, будь добр, Константин Константинович.
Константин Константинович перематывал пленку ровно столько, сколько нужно было Кряжину для того, чтобы догадаться о заранее подобранном для него репертуаре. Три аккорда, четко вписывающихся в канву повествования, зазвучали в просторном помещении.
И схватится бедная мать за сердце,
И вскинется стая ворон над полем,
А у калитки захлопает дверца:
Ваш сын погиб в ДРА героем...
– Это из военного прошлого Павла Федоровича, – продолжил музыкально-биографический экскурс Каргалин.
Но Кряжин вдруг прервал его и повел речь совершенно не о душевном:
– Скажите, Сергей Мартемьянович, а какой пост занимал он в блоке «Отчизна»?
Казалось даже, что он этим вопросом привел председателя в растерянность.
– Павел Федорович? – повторил Каргалин, но тут же вошел в деловой ритм предложенной темы и уже спокойно отчеканил: – Он был сопредседателем блока.
– То есть, как я понял, сопредседателей у вас было двое? – Кряжин стал располагать на столе папку так, чтобы ни у кого из присутствующих не осталось сомнений в том, что он здесь надолго.
Каргалин посмотрел на Константина Константиновича, потом в окно, и объяснил:
– Нет, вы не правы. Видите ли, в чем дело... Мы решили, что два сопредседателя, это... как бы сказать. Недемократично, что ли. Либо один, либо другое нечетное число. Но, поскольку наш блок не настолько многочислен («к сожалению» – светилось на его лице), на съезде было решено избрать три сопредседателя. Ими стали я, Павел Федорович и Константин Константинович. Так мы избежали возможности авторитарного управления и необходимости вводить единицы заместителей. Несмотря на единое политическое руководство, я отвечал за общее управление, Константин Константинович Рылин ведал вопросами идеологической работы, а Оресьев... – Каргалин вздохнул и снова посмотрел на продолжающего стоять соратника по блоку. – Оресьев отвечал за связь с регионами.
Кряжин отметил, что впервые за все время разговора потерпевшего назвали по фамилии. Более того, у сопредседателя по общему управлению при упоминании этой фамилии в деловом контексте вырвался какой-то странный вздох. Сработала либо партийная привычка серьезного ко всему отношения, избавиться от которой не помешала даже смерть, либо Оресьев связывал что-то не так. Или не то, что связывать было нужно. Чирк!.. – в блокноте памяти «важняка» виртуальный карандаш сделал маленькую пометку.
– А что я должен был бы делать, возложи на меня такую обязанность, как связь с регионами? – проговорил Иван Дмитриевич, выискивая взглядом пепельницу.
Пепельницу нашли, и Кряжин закурил без всякого стеснения, потому что, войдя в это помещение, он сразу уловил тот старящий комнаты запах, который образуется лишь от постоянного курения.
К.К. Рылин, наконец-то, сел, заняв место через два стула от Каргалина, и сразу после этого образовалось то, на что Кряжин, следуя в Думу, надеялся. Появилась атмосфера работоспособности и деловитости, лишенная лирики, страстей и призывов к общественности – «знаете, каким он парнем был?». Отвечать на поставленный вопрос, по праву старшего среди оставшихся в живых сопредседателей, решился Каргалин.
Вообще, наблюдая за этими двумя людьми, Кряжин сразу уяснил для себя две вещи. Первое: меж ними отсутствуют разногласия вплоть до бытового уровня. Скажи С.М. К.К. : «Чай сегодня будем пить цейлонский, а не индийский!» – и К.К. направится искать индийский чай, на котором непременно должно быть написано: «цейлонский». Второе: верховодит здесь Каргалин. И портреты наверняка он велел расставить и указал – куда именно, и за цветами посылал, советуя, какие взять, чтобы они соответствовали моменту.
– Понимаете ли, в чем дело...
Иван Дмитриевич, вскормленный русской литературой и сам владеющий мастерством вести разговоры с вывертом, был уверен: когда разговор с тобой начинают с общепринятого среди политиков и других категорий неоткровенных граждан идиоматического оборота «понимаете ли», можно быть уверенным в том, что тебя считают за полного придурка или хотят развести на полную катушку, как лоха. Именно по этой причине Кряжин мгновенно натянул на лицо маску имбецила и наклонил набок голову. Так больше наговорят.
– Связь с регионами – труднейшее направление в деятельности политических движений...
Кряжин кивнул, и пепел упал на столешницу. Стараясь уместиться в паузу, которую ему специально для этого выделил Сергей Мартемьянович, следователь по особо важным смахнул пепел в руку и ссыпал в пепельницу.
– В связи с постоянной телевизионной агрессией правительственных каналов, пышущих ложью и откровенными призывами к гражданам лечь под власть, необходимо постоянно информировать электорат о действительном положении вещей. О направлениях политики блока «Отчизна», которому отдали свои голоса более шести процентов граждан, об исполнении наказов, о грабительских, захватнических, по отношению к селу, устремлениях действующего кабинета министров...
– Я не понял, – поморщился Кряжин. – Вы – аграрии?
Вероятно, «важняк» с мятым лицом из Генпрокуратуры был не единственным, кто задавал подобный вопрос, потому как Сергей Мартемьянович ответил сразу и без раздумий:
– Каждый, кто заботится о народе, людях, населении, будь он аграрием или либерал-демократом, будет заботиться о земле и селе. Это истоки нашей независимости. Вы знаете, сколько курей мы ежегодно закупаем в Америке?
О «курях» Кряжин знать не хотел, он только что убедился в том, что блок «Отчизна» – маленький агрегат, искусственно вживленный властью в организм оппозиционных сил Государственной думы. Власть преуспела и здесь. Образуется группа людей, именуется блоком, наделяется необходимым количеством голосов на выборах и, как искусственная почка, вживляется в противоборствующую оппозицию. Кряжин знал давно: количество закупаемых в США кур, общий размер суммы, на которую опустили ваучерами население, количество умирающих за год людей по сравнению с тринадцатым годом – это азы школы ликбеза для политиков, созданных, как клоны, для проведения развальных мероприятий внутри стана врага.
Вы знаете, сколько курей (курей! – чтоб я сдох! – подумал Кряжин) мы ежегодно закупаем в Америке?
А вы знаете, сопредседатель, что народ, люди и население – это одно и то же, и такое количественное упоминание одного и того же понятия используется лишь теми политиками, которые не отвечают за свои слова? Бесполезная оттяжка времени перед смертью в надежде на то, что если повторять одно и то же в разных формах, то на третий раз кто-то все-таки поверит.
– Я так и не понял, чем занимался Оресьев, – делая вид, что разочарован собственной бестолковостью, тихо произнес Кряжин.
А Каргалин сделал вид (и К.К. Рылин его в этом поддержал), что слишком человечен и политически терпелив для того, чтобы выражать отрицательные эмоции. Даже в этот тяжелый для блока период. Он сделал вид, что привык общаться с такими тугодумами. И объяснять по нескольку раз – его обязанность как депутата. Такой уж у нас электорат, мол, подмороженный. Но он наш, и мы его не предадим (не бросим, не кинем).
– Понимаете ли, в чем дело. Работа с руководителями в субъектах Федерации, поддержка политического течения, на которое они опираются, – важный момент в деятельности любой партии. Работа на местах, если вам угодно. Человек, занимающийся установкой и поддержанием таких связей, должен обладать достаточной выдержкой, интеллектом, работоспособностью и мобильностью. Таким был Павел Федорович. Находить контакт с людьми любого ранга он умел сразу, по всей видимости, от него исходило некое обаяние, если хотите. Не буду скрывать, я понимаю, с кем сейчас разговариваю, – на лице главного сопредседателя появилась печать достоинства. – Тем не менее скажу то, что знают все, но сказать не решаются. От помощи из регионов зависит будущее и настоящее каждой партии. Этими вопросами также заведовал покойный Павел Федорович.
«Политическое течение», – почему-то из пламенной речи Каргалина Кряжин выделил именно это. – «Именно т е ч е н и е, а не движение, он правильно сказал, не ошибся».
Следователь уже не слушал Каргалина, тот был ему неинтересен. Говорит длинно, громко, хотя кажется – стонет, и все больше – жвачка. Понятно, что разговорить его можно будет лишь одним способом – обычным для любой прокуратуры. А пока этот, с позволения сказать, сопредседатель, будет вешать лапшу до бесконечности. Спроси его сейчас о конкретных контактах Оресьева, тот снова втянет во впалую грудь воздуха на пять воздушных шариков и начнет мести языком до полного истощения. Школа... Регионы, субъекты Федерации, село...
Кряжин вдруг выдернул из папки лист бумаги и положил перед Каргалиным.
– Характеристику на Павла Федоровича.
– На мертвого? – изумился тот.
– В смысле – о нем либо хорошо, либо ничего? – не меньше собеседника удивился Иван Дмитриевич. – Но вы же только что говорили, что он будет жив в ваших сердцах вечно? Я слышал, когда заходил!
Каргалин медленно, словно делал выбор – писать или перед этим кому-нибудь позвонить, – подтянул лист к себе. Кряжин между тем сцепил пальцы и с едва заметным прищуром посмотрел на Сергея Мартемьяновича.
– Меня в данный момент не интересует, как он относился к спорту, алкоголю и сколько воспитывал детей. Перечислите, пожалуйста, конкретные направления его работы, конкретные дела и как он себя в этом зарекомендовал.
Каргалин был на десяток лет постарше, а потому самому себе казался на десяток лет умнее.
– Вы поймите, сейчас так сложно прийти в себя. Я не могу все вспомнить в минуту, когда в соседней комнате стоит гроб Павла... Дайте время до завтра, я успокоюсь и все напишу. Опять же, документы поднять нужно, а тут теряешься от одной мысли о том, как объяснить людям на местах, что депутата убили...
– Я объясню людям, – пообещал Кряжин. Играть роль дубоватого служаки он решил до конца. – Все объясню. Но вы меня тоже поймите – сроки следствия идут, не до условностей. Тут от одной мысли теряешься, что горячие следы стынут, а преступник гуляет на свободе... Значит, связь с селом, говорите?
Каргалин, поняв, что с дураком разговаривать бесполезно, подтянул к себе лист и вынул из кармана перо. Не успел он опустить его острие на бумагу, как был вынужден вздрогнуть – «важняк» из Генпрокуратуры хлопнул себя по лбу и пробормотал:
– Вот, черт!.. забыл. Вас же трое сопредседателей было. Возьмите и вы листок, Константин Константинович. То же самое, если не трудно.
Оп-па... Это, ребята, тоже школа.
Иван Дмитриевич смотрел в окно и наслаждался напряжением, застывшим на лицах политических руководителей. Чувствовал себя как в школе в роли учителя математики. Идет контрольная, и двое красавцев из старшего класса на первой парте теряются от мысли, как списать, когда преподаватель в метре от них. Не нужно умных лиц делать, господа сопредседатели. Покруче видели. И не таких разводили.
Не ожидали, это понятно. Думали, будет как принято у цивилизованных людей, как по телевизору: сначала одного на допрос, потом второго... Ну, так все ответы на все вопросы подготовить недолго. Главное, говорить об одном и том же, думать об одном и том же и не ляпать чего не следует. Грехов никаких за блоком нет, но, исходя из последних политических событий, уверенным за то, что тебя не возьмут когтистой лапой за причинное место, нет никакой. Поэтому, главное – не импровизировать. Каждое лишнее слово – очередная петелька для прокурорских крючков.
А на поверку получилось как-то глупо. Двое пожилых и опытных людей, Сергей Мартемьянович и Константин Константинович, скорее всего, написали всего помаленьку, собрав из осколков воспоминаний почти всю мозаику. А не писать нельзя – еще, чего доброго, этот дурак в подозрения ударится. Сиди вот сейчас, С.М., пиши, и думай, чего К.К. напишет, а чего не напишет...
Идиотизм какой-то! – появись на столе протокол, можно было сказать – товарищ, а не пошел бы ты на Большую Дмитровку за повесткой? Тут людей оплакивают, а ты с бланками шкурными суешься! А вышло как-то, на самом деле, глупо: протокол не появился, а двое первых людей за десять минут написали больше, чем надумали бы для протокола. И не откажешь ведь – характеристику просят, а не показания...
Собрал листки следователь, стал прощаться. Напомнил о том, что встреча не последняя, поблагодарил за участие в следствии в столь трудный для блока период, с визгом застегнул папку и вышел первым. Когда ситуация ясна в той части, что ничего ясного не узнаешь, лучше сразу уходить, взяв от встречи по максимуму.
А уже в дверях снова огорошил. Распахнул дверь в комнату плача и спросил у С.М. и К.К. – громко спросил, чтобы все слышали:
– Кто у вас занимается входящей и исходящей документацией?
Пришлось познакомить его с Ингой Андреевной Матыльской, которая встала со стула раньше, чем на нее указал перст С.М.
Отобрал Кряжин бумагу и у нее.
– О чем спрашивал? – в сердцах спросил Сергей Мартемьянович у Матыльской сразу по уходе следователя.
Та пожала плечами:
– Интересовался, помогли ли Софьянову грязевые ванны. Я сказала, что не помогли, потому что в Ессентуках он занимался не телом, а делом.
– Что? – опешил Каргалин. – Откуда он знает, что Софьянов был в Ессентуках? Чем еще интересовался?
– Спросил, насколько сильны позиции представителя нашего блока Эргашева в Костроме. Говорит, был в Костроме, спрашивал у Зиновьева, и тот сказал, что они двое с Эргашевым в одной лодке не уместятся. А поскольку прокуратура уже теребит Эргашева в Костроме, а Сучкова в Екатеринбурге, дни их сочтены, несмотря на поддержку с Ильинки. Просил передать Зиновьеву привет и пожелал ему скорейшего выздоровления от язвы.
Каргалин побледнел. Вот это фрукт сегодня был в гостях!
– Еще спросил, чем конкретно занимался Оресьев, и я сказала, что он принимал в своем лице финансовую поддержку для блока от нефтяников с Уренгоя и из Кремля.
– Ты в своем уме?!
– А что от него скрывать, если ему известно, что у Зиновьева язва?! – взвизгнула Матыльская. – Если он смеется, и мне, шутя, о ротвейлере Гуренко рассказывает, который его за руку на даче в Барвихе чуть не укусил! Говорит – «ну, и бестия, этот Граф!». Что скрывать, если он с Гуренко в его особняке выпивает?! Я так и написала...
– Что написала?!
Она подошла к кофейнику и сделала вид, что в условиях завязавшейся дружбы с человеком из Генпрокуратуры не видит необходимости отвечать на вопросы, поставленные в таком хамском тоне. Единственное, что было непонятно после разговора с Кряжиным, почему сопредседатели так злы.
– То, что его интересовало, – вдруг забеспокоившись, пробормотала Инга Андреевна. – И о последних банковских операциях блока на Кипре, которыми занимался Павел Федорович, и о кредите из терновского «Сага-Банка»...
– Ты кто, Матыльская?! – покраснел Сергей Мартемьянович, и оттого волосы его серебристые стали молочно-белыми и не такими волнистыми, какими казались до тряски головой. – Ты секретарь! Человек с зашитым ртом и чуткими ушами!.. В этом здании молоть языком – это самому себе приговор подписывать! Кстати, о приговорах... А ты знаешь, что он не имел права заставлять тебя давать какие-либо показания?!
Инга Андреевна, тридцатилетняя некрасивая женщина в роговых очках, покривила губы и бросила, глупая:
– А он и не заставлял...
Из агентурного сообщения старшему оперуполномоченному МУРа Смайлову, 12.06.2004 г. (сохранено в редакции автора):
«12 июня 2004 г. у меня была встреча, в ходе которой я узнал о том, что на Арбатских прилавках появился некий Кеша Варанов, ранее он тусовался там постоянно на правах художника. После нескольких лет отлучки по причине невозможности вернуть долги художникам Кеша исчез. Как сообщает источник, сегодня около двенадцати часов дня вновь засветился и роздал долги с процентами.
Как сообщил мне источник, Варан тратит деньги, добытые преступным промыслом. Со слов источника, ранее знавшего Варана как человека постоянно нищего и голодного, склонного к употреблению бодяги («бодяги» – зачеркнуто) спиртного сомнительного происхождения, сегодня он угощал всех шашлыками, заявлял, что обрел смысл жизни и пил дагестанский коньяк.
Агент Климат».
Из рапорта начальника МУРа начальнику ГУВД г. Москвы, 12.06.2004 г.:
«Секретно. Экз. единств. Докладываю, что сегодня, в ходе проведения встречи с агентом Климатом, состоящим на оперативной связи, мною получена информация о том, что на Арбате появился некто Варан, располагающий необоснованно крупной суммой денег. Ранее Варан занимался письмом и продажей картин собственного производства, но потом исчез, боясь расправы за невозвращенные долги. В связи с тем, что есть основания полагать, что деньги, имеющиеся у Варана, добыты преступным путем, агенту Климату дано следующее задание:
1. Прибыть на Арбат со своим человеком и войти в доверие к Варану.
2. Выяснить, кто скрывается под фамилией Варанов (Варан) и направление его деятельности.
3. Подтвердить полученную информацию личным сыском.
4. Установить причины появления у фигуранта крупной суммы денег»...
Глава шестая
Когда Варанов вернулся в комнату без дверей, с потрескавшимися стенами и свисающей с потолка, как сопля, лампочкой, помимо своего пакета-«побирушки» со всем нажитым за сорок лет жизни имуществом, он держал кожаный портфель. Бумажник вошел во внутренний карман старой куртки, как карандаш в стакан, а вот с портфелем пришлось повозиться. Не беда, если кто-то заметил бы в руках очевидного бездомного изделие из дорогой кожи. Неприятность случилась бы, когда несколько типов из тех, кто на него похож, приняли бы решение добычу отобрать. Вот это сейчас совершенно не нужно.
Поэтому, отойдя от джипа и свернув за угол, Кеша быстро сунул портфель под куртку. Пройдя несколько шагов, он догадался, что при таком способе переноски вещей он становится подозрительным вдвойне. Тогда он быстро прикинул целесообразность следующего поступка, счел его разумным и принял решение сразу, не затрачивая более на раздумья ни секунды. В подвальный люк под домом тут же вывалилось барахло, и его место в пакете занял портфель. С трудом, но занял.
Первым делом, усевшись на полуразрушенную временем кровать, он осмотрел бумажник и ухмыльнулся. Такая удача с нищими, наверное, случается редко, но каждый из них лелеет в душе надежду о встрече с нею. Тем и живет. Человек устроен так, что каждый новый день он встречает с мыслью о том, что этот день особенный. К вечеру, когда ничего не случается, человек уже думает о дне грядущем. Да тем и живет дальше.
В украденном у мертвого водителя «Круизера» портмоне находилась сумма, равная пяти тысячам долларов и десяти тысячам рублей. Любому бродяге уже было отчего ликовать, но вместо этого Кеша спокойно заглянул в портфель. То обстоятельство, что денежные знаки там отсутствовали, никак на его лице не отразилось. Несколько пластиковых папок, набитых бумагами, и еще одна, тонкая, с какими-то ценными бумагами. Как бы то ни было, сам портфель в случае необходимости можно было сбыть в районе «Горбушки» рублей за триста. Такие портфели редкость, а потому изделие сразу попадет на мушку.
Подумав, Иннокентий сунул деньги в карман куртки, распределив их таким образом, чтобы в каждом из карманов находилась равная сумма. Случаи, простите, бывают разные. Менты и жиганы заполонили всю столицу. Такой ход мысли поймет любой бродяга.
Портфель с документами он завернул в пакет, потом – в кусок тряпки, до недавнего времени игравшей роль занавеси, и снес добычу в подвал. Найдя место посуше, он портфель спрятал, а место схрона замаскировал.
Вышел во двор, потрогал нос, переставший кровоточить, и стал вспоминать, каков на вкус коньяк. Пока все складывалось удачно, и запах Москвы перестал его угнетать.
В половине второго 12 июня 2004 года Иннокентий Игнатьевич Варанов, в прошлом учитель литературы и филологии, а ныне бездомный нищий, сидел на Арбате, выпивал с довольными импрессионистом Пепиным, маринистом Вайсом и еще одним незнакомым пейзажистом Калиматовым, говорил, что пересмотрел взгляды на жизнь и высказывал желание снова взяться за кисти.
Его не отговаривали, потому что он мог обидеться и уйти. Вместе с его уходом прекратилось бы финансирование чудного вечера, и всем этого не хотелось. Вайс, обогатившись собственными же деньгами, утраченными еще пять лет назад, обещал помочь по части письма осеннего моря, Пепин, также получивший свои деньги, советовал Варанову, где лучше закупить акварель. Акварель, она дешевле, но стоимость ею написанного у проходящих по Арбату дурней по цене различается мало.
К девяти часам вечера «союз художников», обходя известные маршруты движения патрулей, унес внезапно разбогатевшего живописца в старый дом на Сахарной. Не тот, в котором они обитали раньше, – его, как и планировало московское правительство, снесли, а в другой, до которого ковш современной архитектуры еще не добрался.
Варанов проснулся в три часа ночи и стал ощупывать свои карманы. Из пяти тайников два пустовали, хотя Иннокентий Игнатьевич точно помнил, что, находясь еще в сознании, вытягивал купюры только из одного, и опустеть он обещал не скоро. В темноте ему взору предстали метровый по площади мольберт, несколько огромных упаковок красок, связки кистей, размеры которых смутили бы даже Церетели, и Кеша все понял. Покупал всего, по всей видимости, помногу, и самого лучшего качества. Сетуя вслух на неумение пить, он еще раз проверил оставшиеся деньги и поклялся следующий день провести в удовольствии, но не в таком бесшабашном.
Поутру к нему привязался Калиматов. Он был единственный, кто не ушел на Арбат продавать холсты, болел, по всей видимости, и потому принялся уговаривать Варанова сходить за бутылочкой и обозначить наступивший день как выходной. Кеша согласился и сходил за водкой.
После третьей стопки, закушенной шпротами, Гена (так звали нового знакомого), вздохнул и признался:
– Я бы тоже кого-нибудь хлопнул, если бы не боялся третьей судимости.
Кеша повел себя очень странно. Нервничать не стал, делать судорожные движения остерегся. Лишь спросил, глядя в сторону:
– Что значит – хлопнул?
«Нет, – подумал Калиматов, – с ним на дело я бы не пошел. Его даже колоть не нужно».
– Ну, обнес, – объяснил он. – Ты по наводке или так, личным сыском?..
Из телеграммы Генерального прокурора РФ начальнику ГУВД г. Москва, 13.06.04 г.:
«... В связи с обнаружением на ул. Резниковская тела депутата Государственной Думы Оресьева П.Ф. прошу вас ориентировать оперативный состав уголовного розыска на розыск преступника, по описанию свидетелей и заключению предварительных данных специалистов имеющего следующие предположительные данные:
– рост: 175—180 см, телосложение худощавое, походка торопливая;
– одежда: серая куртка, темные брюки (джинсы), светлые кроссовки;
– социальный статус: предположительно, лицо без определенного места жительства.
Возможно, имеет отношение к художественному ремеслу или работает на предприятии, выпускающем товары, используемые в своей деятельности художниками...»
– С чего ты взял, что я вор? – Варанов, вспоминая слюну, сбегающую изо рта трупа, отвечал глупыми вопросами.
– Ну, а где бродяга может взять доллары и рубли в таком количестве, кроме как не украсть?
– Мне вернули долг.
Калиматов глухо рассмеялся и откинулся на застывшую стопку кирпичей.
– Да брось ты, Кеш... Я же свой. Одну водку с тобой пью, одним хлебом закусываю. Чего тебе таить от меня?
И Варанов решил не таить. Он честно рассказал совершенно случайному человеку, как шел по улице и вдруг увидел на дороге кошелек. Кошелек оказался полон, но сегодня они тратят последние деньги, потому что им пришел конец.
– По какой улице ты шел, Кеша? – не унимался Калиматов. – По улицам, по которым ходишь ты, люди с такими «лопатниками» никогда не передвигаются. Люди с такими кошелями перемещаются, в основном, по дорогам, на «бомбах» и «меринах». Нашел на дороге... Скажешь тоже. Вот, Кеша, разговариваю я с тобой... Давай, еще по одной... Так вот, разговариваю я с тобой и чувствую скрытность. Отрицательные флюиды от тебя прут, как от райотдела милиции. Может, ты и впрямь оттуда? Послали разведать чего, разузнать, а?..
Из рапорта начальника МУРа начальнику ГУВД г. Москвы, 13.06.04 г.:
«Секретно. Экз. единств. Докладываю, что в ходе оперативной разработки агентом Климат фигуранта «Варан» установлено следующее.
Варанов Иннокентий Игнатьевич, 14.11.1962 г. рождения, лицо без определенного места жительства, бывший преподаватель литературы. Имеет высшее филологическое образование. Приехал в Москву на заработки в 1999 г., но, не сумев устроиться по специальности, стал промышлять рисованием на Арбате. В ноябре 1999 г. исчез, основанием чему явились долги коллегам по творчеству, но 12.06.2004 г. появился снова, имея на руках крупную сумму денег.
Агентом Климат была проведена отработка фигуранта на предмет причастности к совершенным ранее в г. Москве преступлениям, в результате чего получена следующая информация.
Варанов И.И. в ходе доверительной беседы признался, что в 08.30 ч. 12.06.04 г. при поиске заработка натолкнулся на джип, стоящий во дворе дома 18 по ул. Резниковская. В автомобиле Варанов И.И. увидел водителя, умершего насильственной смертью, и решил похитить из его машины и из карманов одежды ценности...»
Из рапорта начальника МУРа начальнику ГУВД г. Москвы, 14.06.04 г.:
«...В связи с имеющимися основаниями полагать, что Варанов И.И. причастен к убийству депутата Государственной Думы Оресьева П.Ф., имевшего место 12.06.04 г., мною было принято решение о задержании Варанова И.И. для выяснения его причастности к данному и другим неочевидным преступлениям.
Однако наблюдение за Варановым удалось установить лишь после сообщения агента Климат в 12.00 14.06.04 г.
В месте его постоянного пребывания – в полуразрушенном доме на улице Сахарной (место ночевок «свободных художников»), – Варанова не оказалось, однако вскоре одним из оперуполномоченных УР, проверявших места его прежнего пребывания, описанных Варановым агенту Климат, фигурант был замечен. Варанов И.И. вышел из двора 2-го Резниковского переулка на улицу Резниковскую, прошел пешком два квартала и вошел в магазин по продаже спиртных напитков. Ожидая фигуранта у входа, сотрудник УР входить в магазин не стал, однако через десять минут пребывания на улице увидел а/м отдела вневедомственной охраны, подъехавшую к крыльцу. Представившись и справившись о причине, которая заставила патруль ОВО прибыть к магазину, ст. о/у МУРа капитан милиции Смайлов получил пояснение, что в магазине находится гражданин, пытавшийся расплатиться с продавцом за две бутылки водки векселем Терновского металлургического комбината ценою в 240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей, и требующий вернуть в качестве сдачи хотя бы часть этой суммы...»
Этот день, несмотря на обещание, самому себе данное, Кеша помнил еще хуже, чем вчерашний. С усмешкой, являющейся, по всей видимости, иронией к самому себе, он мучился от недосягаемости понимания того, куда он мог потратить около тысячи долларов и пяти тысяч рублей. Калиматова не было, членов «Союза художников» тоже, а вокруг, по всей площади сырого помещения с разрушенными старостью стенами, располагалось около двух десятков бутылок. Все они находились тут явно необоснованно, поскольку обстановка вокруг мало соответствовала этикеткам на этих бутылках. «Мартини», «Вдова Клико», «Хеннесси»... Сколько Варанов ни силился, он так и не вспомнил, чтобы в бытность свою художником пил такие напитки на улице Сахарная. Не стоило труда догадаться, чьими финансовыми возможностями пользовалось братство свободных художников в эту и предыдущую ночи. Значит, праздник удался.
Раскопав за подкладкой последние сто рублей, Иннокентий Игнатьевич, свободная душа, выбрался из дома и растекающимся взглядом осмотрел раскинувшуюся перед ним панораму. Не вынес для себя ничего интересного и стал выбираться на улицу.
«12 июня должен быть самым лучшим днем в жизни бродяги, – думал он, – 14-е – самый худший». Позавчера он имел много денег, сегодня имеет сто рублей и ощущение того, что на окончательное выздоровление их не хватит. День только начался, а жить уже не на что. Кто теперь станет сомневаться, что Москва – самый дорогой в мире город?
Надежда – слабый стимул жизни для того, кто продал душу сатане в стеклянной таре. Наверное, именно надежда на то, что позавчера он не заметил в портфеле денег, повела Кешу к метро. Добравшись до Резниковской улицы, он вошел в подвал полуразрушенного строения, которое некогда служило ему домом, и начал археологические раскопки.
Денег в портфеле все-таки не было. Зато была папка, заполненная мультифорами, которые в свою очередь были заполнены интересными бумагами. Интересны они были тем, что на них были написаны суммы, от которых у любого человека должна пойти кругом голова. «Вексель терции» – было написано на каждой из десятка больших бумаг, похожих на свидетельство о регистрации прав недвижимости (Варанов видел такое в Бюро технической инвентаризации, когда подрядился на два часа побыть грузчиком). И печати, печати, печати...
Напружинив мозг, ту часть его, которая уже не находилась в состоянии взвеси и могла мыслить, Иннокентий вспомнил все, что знает о векселях.
Итак, это – ценная бумага, долговой документ, обязательство уплатить кому-нибудь определенную сумму денег в определенный срок. Посмотрев на листы, Кеша понял, что не сплоховал: даты, сумма и наименование организаций за всеми подписями присутствовали. Значит...
Кажется, самое время этими знаниями воспользоваться.
Филология, это такая наука... Чтобы выразиться мягче и пристойнее, филология – это наука, не имеющая ничего общего ни с банковскими операциями, ни с валютными, ни товарно-денежными. Пожалуй, именно по этой причине Варанов, вместо того, чтобы успокоиться и снова закопать портфель, вынул один из векселей и направился в магазин.
– Вы поймите, – увещевал продавщицу Варанов, – мне тут немного задолжали, а потому у меня нет денег. Но мы люди цивилизованные, идеологически подкованные, поэтому я предлагаю вам такой вариант: вы выдаете мне две бутылки водки и тысяч... – он задумался. – Тысяч... пять рублей сдачи, а я вам передаю вексель, по которому вы или ваш хозяин можете стрясти с Терновского металлургического комбината ... Вот, посмотрите сами, сколько.
Продавщица посмотрела в бумагу, шмыгнула носом и направилась в глубь магазина.
– Я сейчас у хозяйки спрошу! – крикнула, скрываясь за дверью.
– Только я вас умоляю, не нужно думать, что я этот вексель украл! – кричал ей вслед Варанов и тряс на себе пальцами одежду. – Директор задолжал мне за руду, я за это время чуть поизносился, бывает...
Через пять минут Кешу повалили на пол, засунули головой вперед в машину «Форд» белого цвета с синей полосой и с мигалкой под сирену повезли в МУР. Но это он потом узнал, что в МУР, а сначала, сидя на сиденье, испуганно озирался по сторонам, пытаясь понять, куда следует машина с ним, двоими в форме и одним в штатском.
Было еще какое-то подозрение на то, что взяли его из-за векселя, то есть просто за мотивацию поведения, неадекватную всеобщему пониманию. «Нашел» – было очень удачно подобранным объяснением факта наличия у него ценной бумаги, стоимостью в четверть миллиарда. То, что нужно для дальнейшего развития событий. Однако после вопроса о портфеле и бумажнике, наполненном долларами, вопрос за что скручивали, отпал. Иннокентий догадался, за ч т о скрутили. И сразу понял, что теперь ему будут шить.
Из протокола явки с повинной гр. Варанова И.И., 16.06.04 г.:
«Содержание ст. 51 Конституции РФ мне разъяснены и поняты. (Роспись.)
Чистосердечно хочу признаться в том, что, действуя из корыстных побуждений, около 04.00 12 июня 2004 года я приблизился к джипу «Тойота Лэнд Круизер» г/н А234 БН и попросил водителя отвезти меня в больницу. Водитель согласился, а я, оказавшись на заднем сиденье машины, вынул из кармана приспособление для стрельбы малокалиберными патронами, заранее купленное на «Горбушке» у незнакомого мне лица кавказской народности, и произвел выстрел водителю в затылок. После того, как он скончался, я вынул из его кармана бумажник, взял с переднего сиденья портфель и вышел из машины. Портфель я выбросил в Москву-реку, а деньги в сумме 5000 долларов США и 9500 рублей потратил на собственные нужды: спиртное, еда.
Написано собственноручно. Варанов И.И. (Роспись)».
– Еще раз, Варанов. Как дело было?
Оперативник, наклонившись над столом, медленно пережевывал «стиморол» и неморгающим взглядом смотрел в лицо Варанову.
Иннокентий Игнатьевич сидел ссутулившись, взгляд его был полон усталости и того безнадежного отчаяния, что бывает присуще человеку, которого посреди океана ссаживают в лодку с дневным запасом воды. Бродяга с высшим образованием, он был далек от всех перипетий столкновения уголовного мира с защитниками Закона, а потому совершенно не понимал, что с ним происходит. Уже почти двое суток ему втолковывают откровенный бред, склоняют к признаниям, и на исходе вторых суток, помня о провалах в его памяти после пития, оперативники стали убеждаться в том, что он сам уже уверовал в непоправимое.
– Ты слышишь меня, Варанов?
Его никто не бил, хотя ему говаривали, и не раз, что в милиции бьют, и бьют жестоко. Но его не били. В камере держали – да, он голоден вот уже два дня – да, голова трещит от похмелья, а обещанные сто граммов никто так и не налил – было дело.
Табурет этот ему уже ненавистен. Едва он садится на него, перед глазами встают шесть предыдущих допросов: тяжелых, изнурительных, но законных.
«Допрос должен длиться не более восьми часов, – говорил ему этот оперативник, – и с перерывом на час. Как видишь, в этой части закон не нарушен».
И был прав, закон в этой части не нарушался. Шесть раз по семь часов с шестью перерывами. Сейчас заканчивается последний час из последних трех с половиной оставшихся.
Соглашаться на неслыханное преступление и брать ответственность за его совершение на себя – бред. Так во всяком случае казалось еще недавно. А сегодня уже не кажется. А все по недосмотру, будь он проклят...
– Ты кто по жизни, Варанов? – спрашивали по очереди двое оперов в кабинете высокого московского здания. – Ты бродяга, нищий, причем не просто нищий, а нищий спивающийся. При таком режиме дня, какой у тебя, жить тебе осталось не более пятка лет. А на зонах сейчас: три раза в день горячее питание, отрицание алкоголя, труд на природе. Это как раз то, что тебе просто необходимо. Необходимо, – наседал на Варанова тот, что с голубыми глазами, – чтобы выжить!
Действительно, казалось Иннокентию, чем мент не прав? Пища, труд, здоровье, порядком расшатавшееся... Верно говорит. А в чем вопрос-то, собственно? Откуда такая забота о чужом духе и теле?
И потек бред...
– Я в тысячный раз говорю вам, – все тише и тише с каждым разом говорил Кеша. – Я только взял портфель и кошелек. Я не убивал...
– А вот тут ты не прав, – возражал владелец пары голубых глаз. – Кто поверит в эту кашицу, Варанов? Ты хоть понимаешь, кто в джипе был?
Варанов не знал. Или вид такой делал, что не знал.
– Барыга с рынка «Динамо». Получается – кровавый передел собственности. А потому срок получишь малый. Судья тоже человек, у нее дети в школу без конвоя ходят, муж бизнесом занимается. И она понимает, что убит не самый лучший в городе человек. А потому – по минимуму, лет пять. Власть тебе благодарна будет, что укрывателя налога и явно социально опасного элемента из города убрали, а братва на зоне тебя подогреет, потому что барыг сама ненавидит. Такие дела.
– Вы с ума сошли, – шептал Иннокентий Игнатьевич, и на лице его отражался ужас, свойственный депрессивным людям, которые скорее умрут от страха, чем оторвут ножку кузнечику. – Я украл, и сейчас мне стыдно, но я не убивал!
Разговор продолжался долго. Очень долго. Двое суток. На всякий случай, чтобы Варанов о разговоре не забывал, в минуты отдыха его каждые четверть часа будили и спрашивали, не вспомнил ли он чего-то, о чем запамятовал указать во время предыдущего допроса. «Допрос» – так называли этот разговор двое в рубашках. Однако протокола Кеша так ни разу не увидел.
– Ему стыдно, коллега Гариков, – повернувшись к напарнику, сообщил голубоглазый, словно напарник был глух. – Он не знает, куда глаза девать. Ты, урод, ты долго еще целку-находчицу из себя строить будешь? Нашел он портфель, мать его... Что ты нашел – портмоне с баксами на дороге на этой раздолбанной Резниковской?! А шагов через десять вексель валялся, за который эскадрилью МиГов купить можно, да? А контрольного пакета акций фирмы-однодневки «Сони» рядом не валялось? Да ты, парень, на убийство по найму идешь, никак не меньше.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/vyacheslav-denisov/doklad-genprokuroru/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
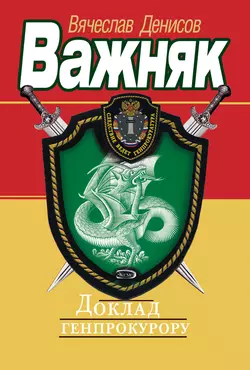
Вячеслав Денисов
Тип: электронная книга
Жанр: Криминальные боевики
Язык: на русском языке
Издательство: Эксмо
Дата публикации: 15.11.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: «Цементные короли» сибирского города заодно с цементом приторговывают гексогеном, а ненужных свидетелей убирают без лишнего шума. Но убийство депутата Госдумы замять не удалось, и за дело берется следователь Генпрокуратуры Иван Кряжин. Он приготовил хитрую ловушку для оборотистых бизнесменов, а они сделали то же самое для него. «Важняк» попался первым: кассета с весьма пикантным компроматом не только сведет на нет результаты расследования, но и поставит крест на его карьере. Перед Кряжиным стоит выбор: играть по правилам дельцов или навязать им свои, ведь его ловушка хитрее...