Енот и я
Енот и я
Евгений Коган
Маленький эксперимент, который может себе позволить любой. Купить новый вид хлеба – это не то, что поменять жизнь, начать заниматься спортом, жениться, покрасить волосы в зеленый цвет, сделать ремонт. В конце концов, не понравится – отдашь голубям. Или еще бывает, придут гости, а ты им – смотрите, какой у меня хлеб с добавлением тыквенных семечек! Они все и подъедят. Если жениться, проблем больше – жену просто так голубям не отдашь. Про зеленый цвет волос я вообще молчу. С хлебом легче.
Енот и я
Маленькая повесть, основанная на реальных событиях
Евгений Коган
Н. С.
Сейчас я покажу вам фокус про сострадание, попрошу всех сосредоточиться. Смотрим: у меня на ладони ничего нет. Теперь внимание:
я закрываю ладонь. Считаю до трех. Открываю ладонь. В ладони ничего нет.
Еще раз: закрываю ладонь. Раз, два, три. Открываю ладонь: в ладони ничего нет. Закрываю. Раз, два, три. Открываю: ничего нет. Теперь попрошу аплодировать, потому что каждый раз, когда ладонь закрыта – оно там.
Линор Горалик. Не местные
© Евгений Коган, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
1
Енот появился у меня так давно, что я даже и не помню, когда точно. Помню, что сначала его не было, а потом вдруг – раз, и он появился.
Но сначала его все-таки не было.
Сначала меня тоже не было. А потом я родился. Мои мама и папа были очень довольны. Мама лежала на белых простынях, радовалась и просила пить. Папа радовался и играл в карты с друзьями. Потом, много лет спустя, мне рассказали, что он даже выиграл, потому что все время думал только обо мне.
А потом меня принесли домой.
Я был завернут в белую простынку – почти такую же, как та, на которой лежала мама, когда просила пить. Только меньше, потому что я тоже был меньше, чем моя мама, мучившаяся от жажды. Я от жажды не мучился. Я хотел есть, спать и писать. И поэтому я кричал.
Маме с папой это не нравилось. Поэтому они засовывали мне в рот резиновую соску. А это не нравилось мне. Поэтому я все время выплевывал соску изо рта и снова начинал кричать. Кричал я все детство.
Но сначала, пока меня еще не принесли домой, папа с мамой готовились меня встречать. Они купили маленькую деревянную кроватку, наклеили на стены синие обои со стрекозами и убрали провода. Они боялись, что я буду играть с проводами и смогу повредить их, поэтому они не смогут смотреть телевизор и включать настольную лампу.
Но когда меня принесли, я совсем не хотел играть с проводами. Я хотел только кричать. И кричал.
С соской у меня все время не складывались отношения. Мне казалось, что она мне не нужна. Согласитесь, это совсем неприятно, когда у тебя изо рта торчит резиновая штука, причем в тот самый момент, когда тебе хочется кричать и махать руками.
Хотя махать руками я мог независимо от того, была у меня во рту соска или нет.
Но соска мне все равно не нравилась. Поэтому я ее выплевывал, и она падала на пол. Мама взмахивала руками, почти также, как я, хватала соску и убегала на кухню. Там она обливала соску горячей водой, чтобы на ней не осталось микробов с пола. Микробов мне было нельзя.
Микробы жили у нас на полу в комнате и на кухне, но больше всего их было в коридоре. Потому что в коридоре стояли ботинки, в которых мама и папа ходили на улицу в магазин. Ботинки, которая я, как только научился ползать, начал совать себе в рот, мама с папой горячей водой на кухне не обливали. И мне это нравилось.
А соску, сразу после обливания горячей водой, мама приносила обратно и снова засовывала мне в рот. Я ее снова выплевывал. Я думал, что это такая игра. А мама думала, что я над ней издеваюсь. И смешно взмахивала руками.
Мы с мамой не всегда понимали друг друга.
Когда мне исполнился год, енота у меня еще не было.
2
Когда мне исполнился год, енота у меня еще не было. Енот появился значительно позже.
Зато у меня осталась соска. А еще у меня появилась розовая шапочка. Шапочку я тоже засовывал себе в рот. Я вообще все, что видел, засовывал себе в рот. И мне это нравилось. А маме это не нравилось. И папа в это время работал.
И вот так вот я рос и становился все больше и больше. И однажды настал такой момент, когда мама с папой решили, что соска мне больше не нужна. И это был первый умный поступок в нашей с ними совместной жизни.
Когда папа работал, я болел. Я вообще много болел, и тогда мне не разрешалось ставить ноги на пол. Чаще всего я болел на кровати у себя в комнате. Лежал на кровати, болел и смотрел на стрекоз на обоях. Стрекозы мне нравились. Болеть мне не нравилось. Мне нельзя было ходить по полу, потому что, мама говорила, меня может продуть. Кто меня мог продуть, мама не говорила.
Но мне хотелось конфет. Мне всегда хотелось конфет, а когда я болел – особенно. Но я лежал в комнате, а конфеты лежали на кухне. Они не болели, они лежали в хрустальной вазочке на столе. И мне до них было никак не добраться.
Но однажды я придумал. Я уже вырос и вообще был умным мальчиком – так говорили мамины и папины родственники, которые приходили на меня смотреть. Так вот, однажды я придумал. Я лежал в постели, в пижаме, закутанный в одеяло и окруженный стрекозами, которые летали по обоям столько, сколько я себя помнил. Я лежал, болел и очень хотел конфет. И тогда я залез на табуретку, которая стояла рядом с моей кроватью. А потом перелез на другую табуретку, которая тоже стояла около моей кровати. На первой кровати лежала книжка с большими цветными картинками, и мама иногда приходила и показывала мне эти картинки, чтобы я скорее выздоравливал. А сидела мама как раз на второй табуретке. Так вот, я, весь больной и в пижаме, перелез с первой табуретки на вторую, а первую поставил перед собой. Потом со второй табуретки я перелез на первую, а перед собой поставил вторую. И таким образом добрался до кухни. Там я взял конфету и, снова перебираясь с одной табуретки на другую, отправился обратно в свою кровать.
Добравшись, я лег на кровать, накрылся одеялом и съел конфету. И захотел вторую. И снова отправился на кухню. Но так как я был умным мальчиком, я сразу взял много конфет.
Потом у меня за ушами был диатез, и мама обо всем догадалась. Она ругала меня за то, что я съел так много конфет. Но совсем не волновалась по поводу того, что я мог заболеть еще больше, потому что меня продуло. Потом что меня не продуло, ведь я не ходил по полу.
По полу в это время ходили микробы с улицы.
3
Однажды я попал в больницу. Вокруг меня с умным видом ходили врачи, чесали подбородки, перешептывались и уводили папу в коридор – разговаривать. Чтобы я не слышал. Мама плакала и гладила меня по голове. Я ничего не понимал и с интересом вглядывался в лица озабоченных врачей.
В больнице я провел около месяца. У меня была отдельная палата, я не вставал с постели и с завистью слушал, как кричат и веселятся дети, бегающие по коридору. Детям в коридоре разрешали вставать с постелей и носиться, сбивая с ног толстых нянечек в белых халатах и с грустными глазами. Я лежал один на скрипучей кровати и смотрел в потолок.
Два раза в день мне делали уколы. Было больно и обидно. Когда все уходили, я плакал, пропитывая слезами твердую больничную подушку. А потом снова смотрел в потрескавшийся потолок.
Справа, у окна, от потолка шли разводы – весной два года назад крыша больницы протекла, потому что за зиму тогда выпало много снега. В тот год белые хлопья падали днем и ночью. Весной снег растаял, и крыша протекла, оставляя грязные разводы на стенах. Крышу починили, но разводы остались.
Я смотрел на них между уколами, когда оставался один и не плакал.
Через месяц постаревшая мама забрала меня из больницы и привезла домой на машине ее брата. Маминого брата я не любил. Он всегда был чем-то недоволен, и его глаза бегали из стороны в сторону. Когда я был совсем маленьким, я его боялся. Один раз, придя с мамой в гости к ее брату, я заплакал и стал упираться. Нам с мамой пришлось уйти.
Дома меня долго ругали.
Этот день почему-то запомнился мне сильнее других. Дядю я с тех пор невзлюбил еще сильнее, чем раньше. Но иногда он возил нас на старой большой машине, доставшейся ему от отца.
Его машину я тоже не любил.
Перед тем, как забрать меня из больницы, мама долго о чем-то разговаривала с высоким бородатым врачом. Врач дергал себя за бороду и щурил глаза. Мама вздыхала.
А потом мы поехали домой на машине маминого брата.
Мама сказал своему брату, что я чуть не умер. А я смотрел в окно на проносящиеся мимо разноцветные дома и думал о том, что буду делать дома.
Дома за столом сидели родственники, слушали рассказы моей сестры о ее новой болезни. Я сказал, что устал и пойду к себе в комнату. Родственники смотрели на меня грустными глазами, а сестра наклонилась к моей маме и что-то зашептала прямо ей в ухо. Мама сначала кивала, а потом, вздрогнув, отмахнулась от нее как от назойливой мухи. И уставилась на меня.
Я ушел в комнату, лег на кровать и стал смотреть в потолок.
Потом я заснул.
4
Когда мне было шесть лет, наступило лето, и меня отвезли в деревню. В деревне я огляделся и первым делом с удовольствием извалялся в навозе. Я извалялся в навозе не специально, просто так получилось. К тому же, рядом больше ничего не было.
В деревне вообще, в основном, был только навоз. Так что я потом еще часто валялся в навозе. Тяжелый запах доставлял мне какое-то невероятное удовольствие. В городе такого запаха не было.
Я рос среди коров. Я присматривался к туповатым животным, просто так заходил в хлев, нюхал запахи, слушал шорохи. А потом, в один прекрасный солнечный день, когда на небе не было видно ни единого облачка, навсегда переселился в коровьем жилище. Во всяком случае, я так себе это представил. В деревне я полюбил мечтать.
Когда наступала зима, а зимы в тех краях были холодными, я по ночам зарывался в теплое, подгнившее сено и с наслаждением вдыхал его терпкий запах. На сеновале было тепло и сухо, а на улице трещал мороз. Днем, когда коровы просыпались, я забирался в самую середину хлева, прижимался к какому-нибудь животному и замирал так почти на целый день. Коровы не возражали.
А по ночам я снова зарывался в сено и спал.
Днем я любил гулять в поле. Я валялся среди трав и цветов, поглядывая на мирно жующих коров. Я не понимал их языка, но научился различать интонации. Иногда я подходил к одному из животных и тихонько гладил его по челке, почесывал между рогов. Пару раз я пробовал есть траву. Но трава мне не нравилась.
Людей я сторонился. Во всяком случае, мне так казалось.
По ночам, когда коровы засыпали, я иногда выходил на улицу. Я срывал ветку сирени и отмахивался от надоедливых комаров и мошек. Я ненавидел комаров.
Еще я любил смотреть на Луну.
Моим любимым местом, я так придумал, была опушка, где между двух старых сосен рос куст рябины. Я часто наблюдал за птицами, которые прилетали клевать перезревшие, налитые соком ягоды.
Но я никогда не хотел стать птицей.
А потом наступила осень, и меня забрали в город. И я снова заболел.
5
Ну вот, а потом я поправился и стал старше. Это как-то само произошло. Детский садик, там, школа, курить начал – не затягивался сначала, а потом уже стал затягиваться. От любви – все вокруг курили, а я нет, да еще и в очках, поэтому стал курить. Сначала мне не нравилось. И, вот таким образом, происходило взросление.
Сначала главным моим воспоминанием была жареная рыба с зеленым горошком, которой нас кормили в детском саду. Мне казалось, что я никогда не забуду, как меня насильно уводили из садика до ужина, и как я плакал и упирался и снова плакал, потом что по коридорам и комнатам садика уже распространился этот прекрасный, ни с чем не сравнимый запах жареной рыбы с зеленым горошком, и вот этого вот пира меня лишали ради чего-то неизвестного.
Я плакал и упирался, но родители, как всегда, были непреклонны. Это я только потом уже понял, что они всегда такие, а первое время я старался бороться с несправедливостью. Естественно, безрезультатно.
И, в общем, меня лишили жареной рыбы с зеленым горошком, и детство закончилось, и тогда уже появились другие воспоминания.
Детские воспоминания, тем временем, стали исчезать. Оставались какие-то наброски – словно художник едва наметил будущую картину блеклыми цветами, да и забыл о ней до лучших времен, а может – и навсегда. Вот эта жареная рыба с зеленым горошком – когда-то незабываемый запах стал еле различимым, вкус забылся, а неповторимое удовольствие, еще недавно такое осязаемое, осталось в прошлом.
Или, например, большая глубокая тарелка гречневой каши. Когда я был совсем маленький, просто крошечный, я хвастался домашним – я очень гордился, что сам, без чьей-либо помощи, съел всю кашу из этой тарелки. Это, мне казалось, был настоящий мужской поступок. Теперь, если бы я съел целую тарелку гречневой каши, меня вряд ли кто-то похвалил бы. Да и гречневую кашу я, признаюсь, не ел с детства. Наверное, мне все еще хватало той большой глубокой тарелки, которая помогла мне совершить мой первый по-настоящему мужской поступок.
В общем, я взрослел. И как раз в этот момент у меня появился енот.
6
Енот появился у меня случайно. Енот полоскун, по-латыни – procyon lotor, типичный представитель собственного семейства. Он, как в справочнике, был коренаст, на коротких лапках с длинными подвижными пальцами. Пальцы у него, и правда, были такими подвижными, что мне иногда казалось, будто они живут отдельно от самого енота. Но это мне начало казаться потом, когда я его рассмотрел.
А пока я просто за ним наблюдал, ведь он у меня только появился.
Так вот, шерсть на еноте была густая, буровато-серая, на морде – черная с белым маска. Маска не снималась. Ночью мне приснилось, что это была енотовидная собака, но это была, конечно, не она. Это бы енот полоскун, и он явно не собирался от меня уходить.
Не могу сейчас объяснить, откуда он взялся. Просто однажды я пришел домой, и дома у меня был енот-полоскун. Причем когда я уходил, его не было.
Или, например, я заснул, а потом проснулся, и посередине комнаты на ковре сидел енот-полоскун, очень похожий на енотовидную собаку. Как-то так.
Енот посмотрел на меня и почесал левой лапой левое ухо. Я тоже посмотрел на енота, которого еще вчера вечером, я точно помню, не было. Теперь он был.
Я свесил босые ноги с кровати, и енот посмотрел на меня понимающе. Потом подошел и сел рядом с кроватью. И снова посмотрел на меня.
И в эту секунду я понял, что теперь у меня есть енот. И он будет у меня жить.
И еще я почему-то понял, что это, может быть, навсегда. Единственное, что меня пугало, так это то, что енот-полоскун, я точно знал, на зиму впадает в глубокую спячку. Мне не хотелось, чтобы мой енот впадал в спячку. И поэтому я начал надеяться на лучшее. Тем более, зима должна была наступить очень скоро. Так я думал.
В этот момент енот снова понимающе посмотрел на меня, вздохнул и пошел на кухню. А я надел носки и приготовился к новому дню своей новой жизни.
7
Не сказать, что новый день моей новой жизни сильно отличался от предыдущих. В том смысле, что за окном светало, я продолжал взрослеть, на небе собирались дождевые облака, чайник на кухне привычно свистел, а мама звенела тарелками. Моя мама по утрам всегда звенела тарелками. Так что почти ничего не изменилось. Просто в моей жизни появился енот.
Енот стучал коготками по паркету.
Енот смотрел на меня понимающе своими умными круглыми глазами.
Енот чесал правой задней ногой правое ухо, потом переваливался на другой бок и начинал чесать левой задней ногой левое ухо. А передними ногами енот чесал себе нос, брал с пола предметы и подносил их к глазам. Рук у енота не было.
Зато у енота были полоски, и эти полоски каким-то непостижимым образом внушали доверие к странному животному, вот так вот вдруг появившемуся в моей жизни. Потому что полосатое животное не может быть злым – взять, хотя бы, зебру. Да и тигр, тоже, в своем роде, кошка, просто отбившаяся от рук. Про пчел я не думал.
Первый день своей новой жизни я вообще потратил на размышление о животных. Енот сидел рядом.
8
Однажды я решил попробовать замолчать. Просто взять, и не говорить ни слова. День или два, сколько получится.
Эта мысль пришла ко мне неожиданно. Я просто проснулся утром, открыл глаза и решил ничего не говорить. Просто молчать. И посмотреть, что из этого получится.
Я и вообще-то не слишком разговорчивый. Так бывает, когда старательно избегаешь общения, но в детстве я этого не понимал. И вот я решил замолчать совсем. Порой мне приходили в голову такие идеи. Однажды, помню, я решил понять, как живут слепые. Дома никого не было, и я закрыл глаза.
Темнота, в которую погружаешься, стоит только закрыть глаза, меня не пугала. Это была моя собственная темнота, знакомая, исследованная, и, поэтому, я ее не боялся. В отличие от темноты, которая опускалась, стоило выключить свет. Так что я просто закрыл глаза и попробовал так жить. Жить, погрузившись в вечную, но свою темноту.
В темноте мне не понравилось. Я медленно передвигался по квартире, натыкаясь на предметы и мебель. Меня это удивляло. Мне казалось, что я успел выучить собственную квартиру вдоль и поперек. Но стоило мне закрыть глаза, как предметы обстановки словно бы начинали какой-то невидимый для меня танец. Я натыкался на шкафы и стол, хотя был уверен в том, что до них еще оставалось некоторое безопасное расстояние. Я не мог выйти из комнаты, почему-то упираясь в стену. А потом, спустя какое-то время, я вдруг вообще потерял ориентацию в пространстве. Говоря проще, заблудился в собственной квартире, исхоженной вдоль и поперек.
И вот тогда мне стало страшно. У меня закружилась голова, а липкий предательский пот выступил на лбу. И на мгновение мне показалось, что я никогда не смогу найти себя в этой, внезапно ставшей незнакомой, квартире.
Я стоял с закрытыми глазами и боялся. Сознание рисовало страшные картины. Мне уже казалось, что на самом деле я не в собственной квартире, а в темном дремучем лесу. Я представил себя путником, потерявшим дорогу, без еды, воды, огня и надежды на спасение. Мне захотелось плакать, и я даже почти закричал…
Я открыл глаза.
Я стоял, почти упершись лицом в стену буквально в шаге от двери, ведущей в коридор. Я перевел дыхание.
Пот на лбу исчез также внезапно, как и появился. Я перевел дыхание, а сердце перестало биться так быстро, как оно забилось, едва лишь я представил себя путником в лесу.
Но замолчать – замолчать не так страшно. Как минимум потому, что у тебя остается зрение. Если ты видишь то, что происходит рядом с тобой, то ты можешь ощущать себя в безопасности. Пусть в мнимой, но все же.
Так что я проснулся утром и решил, что буду молчать. И за весь день не сказал ни слова. Я молчал еще несколько дней, и мне стало казаться, что мои зрение и слух обострились. Мне действительно начало казаться, что я стал лучше слышать и, главное, видеть. Не говоря ни слова, я стал обращать внимание на то, чего раньше не замечал. Не отвлекаясь на слова, я вдруг стал слышать то, чего раньше не слышал. И мне это нравилось.
Молчащий человек не представляет интереса. Если человек не может высказать свою мысль, вступить в спор, к чему-то призвать, он выпадает из общества, которое постоянно спорит, излагает и призывает. Молчащий человек – словно пустое место. Он никому не нужен, потому что с него ничего не возможно получить, от него ничего невозможно добиться. Потому что он молчит.
Молчащий человек пугает, потому что никто не знает, что таится в его голове, какие мысли в ней бродят. Потому что никто не знает, что этот человек замышляет. Потому что он молчит и не может словом выдать своих мыслей. А для того, чтобы понимать, о чем человек думает, не слушая его, то есть без слов, нужны особенные способности. Которых ни у кого нет.
Все это я понимаю сейчас. Но тогда мне казалось, что я, решив замолчать и отказавшись от слов, пусть на время, погрузился в другой мир. Это мир был ни лучше и ни хуже того, в котором я жил до того утра, когда решил замолчать. Мир был просто другим, и он мне нравился.
Перестав говорить, я погрузился в мир своих грез и фантазий. Я мог беспрепятственно сочинять что-то, придумывать то, чего на самом деле нет. Я начал новую жизнь – жизнь среди вещей и событий, который не существует. Среди вещей и событий, которых не может быть.
Я молчал полторы недели. И мне это нравилось.
Но никто не смог этого оценить. Потому что я никому не рассказывал. Да меня, собственно, никто ни о чем и не спрашивал.
И тогда я снова начал говорить. Благо, енот у меня уже был.
9
Первую глупость в своей жизни я сделал значительно позже. Я тогда гостил у дяди – выжившего из ума дяди, который дрессировал муравьев и разговаривал с тараканами. Тараканы его не боялись, муравьи тоже. И он не боялся тараканов и муравьев.
Каждое утро он приходил на кухню, и тараканы освобождали ему тропинку к кухонному столу, лениво расползаясь по углам. Шаркая старыми тапками, он проходил по этой тропинке кухонному столу и говорил – эй, вы. Муравьи на кухонном столе на мгновение замирали, а потом, едва слышно перебирая тонкими ножками, отходили на другую его сторону. На другую сторону кухонного стола. Мой дядя доставал хлеб, резал его тонкими кусками и один кусок обязательно отдавал муравьям. Муравьи приветливо начинали есть.
Тараканы находили еду сами.
Когда я решил погостить у своего дяди, я не знал о наличии в его квартире насекомых. Насекомые не знали обо мне, и нам так было легче. Но все-таки однажды нам пришлось познакомиться. С этого началось мое краткое пребывание у дяди.
Сначала дядя показал мне кухню. Потом дядя показал мне холодильник. Потом дядя познакомил меня с усатой женщиной, которая иногда беззвучно появлялась в его квартире и также беззвучно исчезала. Мне казалось, что дядя не замечал ее присутствия. Тараканы и муравьи тоже не обращали на женщину никакого внимания. Но женщина продолжала беззвучно появляться и также беззвучно исчезать.
Потом дядя показал не комнату, в которой мне предстояло жить.
Комната была большой, и в ней кроме кровати и старого шкафа с пропахшими нафталином одеждами была дверь на балкон. Дверь была рассохшейся, с потрескавшейся краской. К двери была прибита металлическая ручка, а крючки, с помощью которых дверь закрывалась, чтобы ветер и посторонние не смогли проникнуть в комнату с улицы, замели, скованные сухой краской. В комнате было душно, между стеклами лежал мертвый тополиный пух, и вряд ли у кого-нибудь когда-нибудь возникала мысль проникнуть в комнату с улицы. Тем более, что дядя жил на одиннадцатом этаже. Но присохшие крючки все равно охраняли покой обитателей квартиры.
Мне сразу же очень захотелось открыть эту дверь.
На следующее утро я дождался того момента, как мой дядя, натянув вытянутые тренировочные штаны и желтую от пота майку, впятив живот и пригладив редкие волосы на необъятно лысине, хлопнул входной дверью и отправился на ежедневную утреннюю пробежку вокруг квартала. Я дождался и того момента, как безмолвно замер лифт за входной дверью. Я подождал еще немного, и только после этого, шаркая такими же, как у дяди, старыми разношенными тапками, подошел к балкону. Крючки поддались сразу, и, откашлявшись от полетевшего мне в лицо мертвого тополиного пуха, я шагнул на балкон.
Балкон был покрыт сухими листьями, внизу шумели первые утренние машины, между деревьев мелькала желтая от пота майка моего дяди, обтягивающая его толстый живот. Я шагнул на балкон, просо чтобы вдохнуть свежего воздуха, и приятный прохладный ветер погладил мое лицо. Я стоял на балконе и вдыхал этот ветер, пропускал его через себя и даже один или два раза зажмурился от удовольствия. А потом посмотрел вниз и понял, что нет ничего проще, чем шагнуть вниз. И тут же испугался своих мыслей.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/evgeniy-kogan/enot-i-ya/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Евгений Коган
Маленький эксперимент, который может себе позволить любой. Купить новый вид хлеба – это не то, что поменять жизнь, начать заниматься спортом, жениться, покрасить волосы в зеленый цвет, сделать ремонт. В конце концов, не понравится – отдашь голубям. Или еще бывает, придут гости, а ты им – смотрите, какой у меня хлеб с добавлением тыквенных семечек! Они все и подъедят. Если жениться, проблем больше – жену просто так голубям не отдашь. Про зеленый цвет волос я вообще молчу. С хлебом легче.
Енот и я
Маленькая повесть, основанная на реальных событиях
Евгений Коган
Н. С.
Сейчас я покажу вам фокус про сострадание, попрошу всех сосредоточиться. Смотрим: у меня на ладони ничего нет. Теперь внимание:
я закрываю ладонь. Считаю до трех. Открываю ладонь. В ладони ничего нет.
Еще раз: закрываю ладонь. Раз, два, три. Открываю ладонь: в ладони ничего нет. Закрываю. Раз, два, три. Открываю: ничего нет. Теперь попрошу аплодировать, потому что каждый раз, когда ладонь закрыта – оно там.
Линор Горалик. Не местные
© Евгений Коган, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
1
Енот появился у меня так давно, что я даже и не помню, когда точно. Помню, что сначала его не было, а потом вдруг – раз, и он появился.
Но сначала его все-таки не было.
Сначала меня тоже не было. А потом я родился. Мои мама и папа были очень довольны. Мама лежала на белых простынях, радовалась и просила пить. Папа радовался и играл в карты с друзьями. Потом, много лет спустя, мне рассказали, что он даже выиграл, потому что все время думал только обо мне.
А потом меня принесли домой.
Я был завернут в белую простынку – почти такую же, как та, на которой лежала мама, когда просила пить. Только меньше, потому что я тоже был меньше, чем моя мама, мучившаяся от жажды. Я от жажды не мучился. Я хотел есть, спать и писать. И поэтому я кричал.
Маме с папой это не нравилось. Поэтому они засовывали мне в рот резиновую соску. А это не нравилось мне. Поэтому я все время выплевывал соску изо рта и снова начинал кричать. Кричал я все детство.
Но сначала, пока меня еще не принесли домой, папа с мамой готовились меня встречать. Они купили маленькую деревянную кроватку, наклеили на стены синие обои со стрекозами и убрали провода. Они боялись, что я буду играть с проводами и смогу повредить их, поэтому они не смогут смотреть телевизор и включать настольную лампу.
Но когда меня принесли, я совсем не хотел играть с проводами. Я хотел только кричать. И кричал.
С соской у меня все время не складывались отношения. Мне казалось, что она мне не нужна. Согласитесь, это совсем неприятно, когда у тебя изо рта торчит резиновая штука, причем в тот самый момент, когда тебе хочется кричать и махать руками.
Хотя махать руками я мог независимо от того, была у меня во рту соска или нет.
Но соска мне все равно не нравилась. Поэтому я ее выплевывал, и она падала на пол. Мама взмахивала руками, почти также, как я, хватала соску и убегала на кухню. Там она обливала соску горячей водой, чтобы на ней не осталось микробов с пола. Микробов мне было нельзя.
Микробы жили у нас на полу в комнате и на кухне, но больше всего их было в коридоре. Потому что в коридоре стояли ботинки, в которых мама и папа ходили на улицу в магазин. Ботинки, которая я, как только научился ползать, начал совать себе в рот, мама с папой горячей водой на кухне не обливали. И мне это нравилось.
А соску, сразу после обливания горячей водой, мама приносила обратно и снова засовывала мне в рот. Я ее снова выплевывал. Я думал, что это такая игра. А мама думала, что я над ней издеваюсь. И смешно взмахивала руками.
Мы с мамой не всегда понимали друг друга.
Когда мне исполнился год, енота у меня еще не было.
2
Когда мне исполнился год, енота у меня еще не было. Енот появился значительно позже.
Зато у меня осталась соска. А еще у меня появилась розовая шапочка. Шапочку я тоже засовывал себе в рот. Я вообще все, что видел, засовывал себе в рот. И мне это нравилось. А маме это не нравилось. И папа в это время работал.
И вот так вот я рос и становился все больше и больше. И однажды настал такой момент, когда мама с папой решили, что соска мне больше не нужна. И это был первый умный поступок в нашей с ними совместной жизни.
Когда папа работал, я болел. Я вообще много болел, и тогда мне не разрешалось ставить ноги на пол. Чаще всего я болел на кровати у себя в комнате. Лежал на кровати, болел и смотрел на стрекоз на обоях. Стрекозы мне нравились. Болеть мне не нравилось. Мне нельзя было ходить по полу, потому что, мама говорила, меня может продуть. Кто меня мог продуть, мама не говорила.
Но мне хотелось конфет. Мне всегда хотелось конфет, а когда я болел – особенно. Но я лежал в комнате, а конфеты лежали на кухне. Они не болели, они лежали в хрустальной вазочке на столе. И мне до них было никак не добраться.
Но однажды я придумал. Я уже вырос и вообще был умным мальчиком – так говорили мамины и папины родственники, которые приходили на меня смотреть. Так вот, однажды я придумал. Я лежал в постели, в пижаме, закутанный в одеяло и окруженный стрекозами, которые летали по обоям столько, сколько я себя помнил. Я лежал, болел и очень хотел конфет. И тогда я залез на табуретку, которая стояла рядом с моей кроватью. А потом перелез на другую табуретку, которая тоже стояла около моей кровати. На первой кровати лежала книжка с большими цветными картинками, и мама иногда приходила и показывала мне эти картинки, чтобы я скорее выздоравливал. А сидела мама как раз на второй табуретке. Так вот, я, весь больной и в пижаме, перелез с первой табуретки на вторую, а первую поставил перед собой. Потом со второй табуретки я перелез на первую, а перед собой поставил вторую. И таким образом добрался до кухни. Там я взял конфету и, снова перебираясь с одной табуретки на другую, отправился обратно в свою кровать.
Добравшись, я лег на кровать, накрылся одеялом и съел конфету. И захотел вторую. И снова отправился на кухню. Но так как я был умным мальчиком, я сразу взял много конфет.
Потом у меня за ушами был диатез, и мама обо всем догадалась. Она ругала меня за то, что я съел так много конфет. Но совсем не волновалась по поводу того, что я мог заболеть еще больше, потому что меня продуло. Потом что меня не продуло, ведь я не ходил по полу.
По полу в это время ходили микробы с улицы.
3
Однажды я попал в больницу. Вокруг меня с умным видом ходили врачи, чесали подбородки, перешептывались и уводили папу в коридор – разговаривать. Чтобы я не слышал. Мама плакала и гладила меня по голове. Я ничего не понимал и с интересом вглядывался в лица озабоченных врачей.
В больнице я провел около месяца. У меня была отдельная палата, я не вставал с постели и с завистью слушал, как кричат и веселятся дети, бегающие по коридору. Детям в коридоре разрешали вставать с постелей и носиться, сбивая с ног толстых нянечек в белых халатах и с грустными глазами. Я лежал один на скрипучей кровати и смотрел в потолок.
Два раза в день мне делали уколы. Было больно и обидно. Когда все уходили, я плакал, пропитывая слезами твердую больничную подушку. А потом снова смотрел в потрескавшийся потолок.
Справа, у окна, от потолка шли разводы – весной два года назад крыша больницы протекла, потому что за зиму тогда выпало много снега. В тот год белые хлопья падали днем и ночью. Весной снег растаял, и крыша протекла, оставляя грязные разводы на стенах. Крышу починили, но разводы остались.
Я смотрел на них между уколами, когда оставался один и не плакал.
Через месяц постаревшая мама забрала меня из больницы и привезла домой на машине ее брата. Маминого брата я не любил. Он всегда был чем-то недоволен, и его глаза бегали из стороны в сторону. Когда я был совсем маленьким, я его боялся. Один раз, придя с мамой в гости к ее брату, я заплакал и стал упираться. Нам с мамой пришлось уйти.
Дома меня долго ругали.
Этот день почему-то запомнился мне сильнее других. Дядю я с тех пор невзлюбил еще сильнее, чем раньше. Но иногда он возил нас на старой большой машине, доставшейся ему от отца.
Его машину я тоже не любил.
Перед тем, как забрать меня из больницы, мама долго о чем-то разговаривала с высоким бородатым врачом. Врач дергал себя за бороду и щурил глаза. Мама вздыхала.
А потом мы поехали домой на машине маминого брата.
Мама сказал своему брату, что я чуть не умер. А я смотрел в окно на проносящиеся мимо разноцветные дома и думал о том, что буду делать дома.
Дома за столом сидели родственники, слушали рассказы моей сестры о ее новой болезни. Я сказал, что устал и пойду к себе в комнату. Родственники смотрели на меня грустными глазами, а сестра наклонилась к моей маме и что-то зашептала прямо ей в ухо. Мама сначала кивала, а потом, вздрогнув, отмахнулась от нее как от назойливой мухи. И уставилась на меня.
Я ушел в комнату, лег на кровать и стал смотреть в потолок.
Потом я заснул.
4
Когда мне было шесть лет, наступило лето, и меня отвезли в деревню. В деревне я огляделся и первым делом с удовольствием извалялся в навозе. Я извалялся в навозе не специально, просто так получилось. К тому же, рядом больше ничего не было.
В деревне вообще, в основном, был только навоз. Так что я потом еще часто валялся в навозе. Тяжелый запах доставлял мне какое-то невероятное удовольствие. В городе такого запаха не было.
Я рос среди коров. Я присматривался к туповатым животным, просто так заходил в хлев, нюхал запахи, слушал шорохи. А потом, в один прекрасный солнечный день, когда на небе не было видно ни единого облачка, навсегда переселился в коровьем жилище. Во всяком случае, я так себе это представил. В деревне я полюбил мечтать.
Когда наступала зима, а зимы в тех краях были холодными, я по ночам зарывался в теплое, подгнившее сено и с наслаждением вдыхал его терпкий запах. На сеновале было тепло и сухо, а на улице трещал мороз. Днем, когда коровы просыпались, я забирался в самую середину хлева, прижимался к какому-нибудь животному и замирал так почти на целый день. Коровы не возражали.
А по ночам я снова зарывался в сено и спал.
Днем я любил гулять в поле. Я валялся среди трав и цветов, поглядывая на мирно жующих коров. Я не понимал их языка, но научился различать интонации. Иногда я подходил к одному из животных и тихонько гладил его по челке, почесывал между рогов. Пару раз я пробовал есть траву. Но трава мне не нравилась.
Людей я сторонился. Во всяком случае, мне так казалось.
По ночам, когда коровы засыпали, я иногда выходил на улицу. Я срывал ветку сирени и отмахивался от надоедливых комаров и мошек. Я ненавидел комаров.
Еще я любил смотреть на Луну.
Моим любимым местом, я так придумал, была опушка, где между двух старых сосен рос куст рябины. Я часто наблюдал за птицами, которые прилетали клевать перезревшие, налитые соком ягоды.
Но я никогда не хотел стать птицей.
А потом наступила осень, и меня забрали в город. И я снова заболел.
5
Ну вот, а потом я поправился и стал старше. Это как-то само произошло. Детский садик, там, школа, курить начал – не затягивался сначала, а потом уже стал затягиваться. От любви – все вокруг курили, а я нет, да еще и в очках, поэтому стал курить. Сначала мне не нравилось. И, вот таким образом, происходило взросление.
Сначала главным моим воспоминанием была жареная рыба с зеленым горошком, которой нас кормили в детском саду. Мне казалось, что я никогда не забуду, как меня насильно уводили из садика до ужина, и как я плакал и упирался и снова плакал, потом что по коридорам и комнатам садика уже распространился этот прекрасный, ни с чем не сравнимый запах жареной рыбы с зеленым горошком, и вот этого вот пира меня лишали ради чего-то неизвестного.
Я плакал и упирался, но родители, как всегда, были непреклонны. Это я только потом уже понял, что они всегда такие, а первое время я старался бороться с несправедливостью. Естественно, безрезультатно.
И, в общем, меня лишили жареной рыбы с зеленым горошком, и детство закончилось, и тогда уже появились другие воспоминания.
Детские воспоминания, тем временем, стали исчезать. Оставались какие-то наброски – словно художник едва наметил будущую картину блеклыми цветами, да и забыл о ней до лучших времен, а может – и навсегда. Вот эта жареная рыба с зеленым горошком – когда-то незабываемый запах стал еле различимым, вкус забылся, а неповторимое удовольствие, еще недавно такое осязаемое, осталось в прошлом.
Или, например, большая глубокая тарелка гречневой каши. Когда я был совсем маленький, просто крошечный, я хвастался домашним – я очень гордился, что сам, без чьей-либо помощи, съел всю кашу из этой тарелки. Это, мне казалось, был настоящий мужской поступок. Теперь, если бы я съел целую тарелку гречневой каши, меня вряд ли кто-то похвалил бы. Да и гречневую кашу я, признаюсь, не ел с детства. Наверное, мне все еще хватало той большой глубокой тарелки, которая помогла мне совершить мой первый по-настоящему мужской поступок.
В общем, я взрослел. И как раз в этот момент у меня появился енот.
6
Енот появился у меня случайно. Енот полоскун, по-латыни – procyon lotor, типичный представитель собственного семейства. Он, как в справочнике, был коренаст, на коротких лапках с длинными подвижными пальцами. Пальцы у него, и правда, были такими подвижными, что мне иногда казалось, будто они живут отдельно от самого енота. Но это мне начало казаться потом, когда я его рассмотрел.
А пока я просто за ним наблюдал, ведь он у меня только появился.
Так вот, шерсть на еноте была густая, буровато-серая, на морде – черная с белым маска. Маска не снималась. Ночью мне приснилось, что это была енотовидная собака, но это была, конечно, не она. Это бы енот полоскун, и он явно не собирался от меня уходить.
Не могу сейчас объяснить, откуда он взялся. Просто однажды я пришел домой, и дома у меня был енот-полоскун. Причем когда я уходил, его не было.
Или, например, я заснул, а потом проснулся, и посередине комнаты на ковре сидел енот-полоскун, очень похожий на енотовидную собаку. Как-то так.
Енот посмотрел на меня и почесал левой лапой левое ухо. Я тоже посмотрел на енота, которого еще вчера вечером, я точно помню, не было. Теперь он был.
Я свесил босые ноги с кровати, и енот посмотрел на меня понимающе. Потом подошел и сел рядом с кроватью. И снова посмотрел на меня.
И в эту секунду я понял, что теперь у меня есть енот. И он будет у меня жить.
И еще я почему-то понял, что это, может быть, навсегда. Единственное, что меня пугало, так это то, что енот-полоскун, я точно знал, на зиму впадает в глубокую спячку. Мне не хотелось, чтобы мой енот впадал в спячку. И поэтому я начал надеяться на лучшее. Тем более, зима должна была наступить очень скоро. Так я думал.
В этот момент енот снова понимающе посмотрел на меня, вздохнул и пошел на кухню. А я надел носки и приготовился к новому дню своей новой жизни.
7
Не сказать, что новый день моей новой жизни сильно отличался от предыдущих. В том смысле, что за окном светало, я продолжал взрослеть, на небе собирались дождевые облака, чайник на кухне привычно свистел, а мама звенела тарелками. Моя мама по утрам всегда звенела тарелками. Так что почти ничего не изменилось. Просто в моей жизни появился енот.
Енот стучал коготками по паркету.
Енот смотрел на меня понимающе своими умными круглыми глазами.
Енот чесал правой задней ногой правое ухо, потом переваливался на другой бок и начинал чесать левой задней ногой левое ухо. А передними ногами енот чесал себе нос, брал с пола предметы и подносил их к глазам. Рук у енота не было.
Зато у енота были полоски, и эти полоски каким-то непостижимым образом внушали доверие к странному животному, вот так вот вдруг появившемуся в моей жизни. Потому что полосатое животное не может быть злым – взять, хотя бы, зебру. Да и тигр, тоже, в своем роде, кошка, просто отбившаяся от рук. Про пчел я не думал.
Первый день своей новой жизни я вообще потратил на размышление о животных. Енот сидел рядом.
8
Однажды я решил попробовать замолчать. Просто взять, и не говорить ни слова. День или два, сколько получится.
Эта мысль пришла ко мне неожиданно. Я просто проснулся утром, открыл глаза и решил ничего не говорить. Просто молчать. И посмотреть, что из этого получится.
Я и вообще-то не слишком разговорчивый. Так бывает, когда старательно избегаешь общения, но в детстве я этого не понимал. И вот я решил замолчать совсем. Порой мне приходили в голову такие идеи. Однажды, помню, я решил понять, как живут слепые. Дома никого не было, и я закрыл глаза.
Темнота, в которую погружаешься, стоит только закрыть глаза, меня не пугала. Это была моя собственная темнота, знакомая, исследованная, и, поэтому, я ее не боялся. В отличие от темноты, которая опускалась, стоило выключить свет. Так что я просто закрыл глаза и попробовал так жить. Жить, погрузившись в вечную, но свою темноту.
В темноте мне не понравилось. Я медленно передвигался по квартире, натыкаясь на предметы и мебель. Меня это удивляло. Мне казалось, что я успел выучить собственную квартиру вдоль и поперек. Но стоило мне закрыть глаза, как предметы обстановки словно бы начинали какой-то невидимый для меня танец. Я натыкался на шкафы и стол, хотя был уверен в том, что до них еще оставалось некоторое безопасное расстояние. Я не мог выйти из комнаты, почему-то упираясь в стену. А потом, спустя какое-то время, я вдруг вообще потерял ориентацию в пространстве. Говоря проще, заблудился в собственной квартире, исхоженной вдоль и поперек.
И вот тогда мне стало страшно. У меня закружилась голова, а липкий предательский пот выступил на лбу. И на мгновение мне показалось, что я никогда не смогу найти себя в этой, внезапно ставшей незнакомой, квартире.
Я стоял с закрытыми глазами и боялся. Сознание рисовало страшные картины. Мне уже казалось, что на самом деле я не в собственной квартире, а в темном дремучем лесу. Я представил себя путником, потерявшим дорогу, без еды, воды, огня и надежды на спасение. Мне захотелось плакать, и я даже почти закричал…
Я открыл глаза.
Я стоял, почти упершись лицом в стену буквально в шаге от двери, ведущей в коридор. Я перевел дыхание.
Пот на лбу исчез также внезапно, как и появился. Я перевел дыхание, а сердце перестало биться так быстро, как оно забилось, едва лишь я представил себя путником в лесу.
Но замолчать – замолчать не так страшно. Как минимум потому, что у тебя остается зрение. Если ты видишь то, что происходит рядом с тобой, то ты можешь ощущать себя в безопасности. Пусть в мнимой, но все же.
Так что я проснулся утром и решил, что буду молчать. И за весь день не сказал ни слова. Я молчал еще несколько дней, и мне стало казаться, что мои зрение и слух обострились. Мне действительно начало казаться, что я стал лучше слышать и, главное, видеть. Не говоря ни слова, я стал обращать внимание на то, чего раньше не замечал. Не отвлекаясь на слова, я вдруг стал слышать то, чего раньше не слышал. И мне это нравилось.
Молчащий человек не представляет интереса. Если человек не может высказать свою мысль, вступить в спор, к чему-то призвать, он выпадает из общества, которое постоянно спорит, излагает и призывает. Молчащий человек – словно пустое место. Он никому не нужен, потому что с него ничего не возможно получить, от него ничего невозможно добиться. Потому что он молчит.
Молчащий человек пугает, потому что никто не знает, что таится в его голове, какие мысли в ней бродят. Потому что никто не знает, что этот человек замышляет. Потому что он молчит и не может словом выдать своих мыслей. А для того, чтобы понимать, о чем человек думает, не слушая его, то есть без слов, нужны особенные способности. Которых ни у кого нет.
Все это я понимаю сейчас. Но тогда мне казалось, что я, решив замолчать и отказавшись от слов, пусть на время, погрузился в другой мир. Это мир был ни лучше и ни хуже того, в котором я жил до того утра, когда решил замолчать. Мир был просто другим, и он мне нравился.
Перестав говорить, я погрузился в мир своих грез и фантазий. Я мог беспрепятственно сочинять что-то, придумывать то, чего на самом деле нет. Я начал новую жизнь – жизнь среди вещей и событий, который не существует. Среди вещей и событий, которых не может быть.
Я молчал полторы недели. И мне это нравилось.
Но никто не смог этого оценить. Потому что я никому не рассказывал. Да меня, собственно, никто ни о чем и не спрашивал.
И тогда я снова начал говорить. Благо, енот у меня уже был.
9
Первую глупость в своей жизни я сделал значительно позже. Я тогда гостил у дяди – выжившего из ума дяди, который дрессировал муравьев и разговаривал с тараканами. Тараканы его не боялись, муравьи тоже. И он не боялся тараканов и муравьев.
Каждое утро он приходил на кухню, и тараканы освобождали ему тропинку к кухонному столу, лениво расползаясь по углам. Шаркая старыми тапками, он проходил по этой тропинке кухонному столу и говорил – эй, вы. Муравьи на кухонном столе на мгновение замирали, а потом, едва слышно перебирая тонкими ножками, отходили на другую его сторону. На другую сторону кухонного стола. Мой дядя доставал хлеб, резал его тонкими кусками и один кусок обязательно отдавал муравьям. Муравьи приветливо начинали есть.
Тараканы находили еду сами.
Когда я решил погостить у своего дяди, я не знал о наличии в его квартире насекомых. Насекомые не знали обо мне, и нам так было легче. Но все-таки однажды нам пришлось познакомиться. С этого началось мое краткое пребывание у дяди.
Сначала дядя показал мне кухню. Потом дядя показал мне холодильник. Потом дядя познакомил меня с усатой женщиной, которая иногда беззвучно появлялась в его квартире и также беззвучно исчезала. Мне казалось, что дядя не замечал ее присутствия. Тараканы и муравьи тоже не обращали на женщину никакого внимания. Но женщина продолжала беззвучно появляться и также беззвучно исчезать.
Потом дядя показал не комнату, в которой мне предстояло жить.
Комната была большой, и в ней кроме кровати и старого шкафа с пропахшими нафталином одеждами была дверь на балкон. Дверь была рассохшейся, с потрескавшейся краской. К двери была прибита металлическая ручка, а крючки, с помощью которых дверь закрывалась, чтобы ветер и посторонние не смогли проникнуть в комнату с улицы, замели, скованные сухой краской. В комнате было душно, между стеклами лежал мертвый тополиный пух, и вряд ли у кого-нибудь когда-нибудь возникала мысль проникнуть в комнату с улицы. Тем более, что дядя жил на одиннадцатом этаже. Но присохшие крючки все равно охраняли покой обитателей квартиры.
Мне сразу же очень захотелось открыть эту дверь.
На следующее утро я дождался того момента, как мой дядя, натянув вытянутые тренировочные штаны и желтую от пота майку, впятив живот и пригладив редкие волосы на необъятно лысине, хлопнул входной дверью и отправился на ежедневную утреннюю пробежку вокруг квартала. Я дождался и того момента, как безмолвно замер лифт за входной дверью. Я подождал еще немного, и только после этого, шаркая такими же, как у дяди, старыми разношенными тапками, подошел к балкону. Крючки поддались сразу, и, откашлявшись от полетевшего мне в лицо мертвого тополиного пуха, я шагнул на балкон.
Балкон был покрыт сухими листьями, внизу шумели первые утренние машины, между деревьев мелькала желтая от пота майка моего дяди, обтягивающая его толстый живот. Я шагнул на балкон, просо чтобы вдохнуть свежего воздуха, и приятный прохладный ветер погладил мое лицо. Я стоял на балконе и вдыхал этот ветер, пропускал его через себя и даже один или два раза зажмурился от удовольствия. А потом посмотрел вниз и понял, что нет ничего проще, чем шагнуть вниз. И тут же испугался своих мыслей.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/evgeniy-kogan/enot-i-ya/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
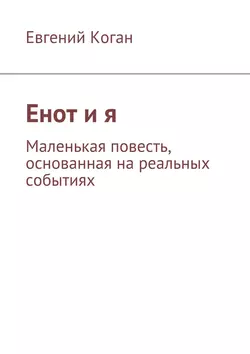
Евгений Коган
Тип: электронная книга
Жанр: Современная русская литература
Язык: на русском языке
Издательство: Издательские решения
Дата публикации: 24.09.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Маленький эксперимент, который может себе позволить любой. Купить новый вид хлеба – это не то, что поменять жизнь, начать заниматься спортом, жениться, покрасить волосы в зеленый цвет, сделать ремонт. В конце концов, не понравится – отдашь голубям. Или еще бывает, придут гости, а ты им – смотрите, какой у меня хлеб с добавлением тыквенных семечек! Они все и подъедят. Если жениться, проблем больше – жену просто так голубям не отдашь. Про зеленый цвет волос я вообще молчу. С хлебом легче.